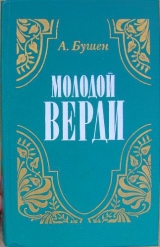
Текст книги "Молодой Верди. Рождение оперы"
Автор книги: Александра Бушен
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц)
– Слушай, я сейчас все тебе объясню. – говорил Мерелли, делая вид, будто не заметил жеста Верди. – Понимаешь, какое дело. – Мерелли старался говорить фамильярно и задушевно. – Понимаешь, какое дело. В этом сезоне мне предстоит поставить три новых оперы, три новых работы очень знаменитых композиторов, и две их этих опер написаны специально для меня, то есть по моему заказу для миланской публики, для театра Ла Скала: «Мария Падилла» маэстро Доницетти и «Одализа» маэстро Нини. И еще я ставлю «Сафо» Пачини, которая не была до сих пор поставлена в Милане. Видишь, я говорю с тобой совершенно откровенно. Как с другом. Ничего от тебя не скрываю. Чтобы ты знал, как обстоит дело. Чтобы ты был благоразумен. Для твоей же пользы стараюсь. Можешь мне поверить. Ну, рассуди сам, ты же умный человек. – Мерелли явно заискивал. – Ты же умный человек, ну разве я могу в такой трудный сезон поставить четвертую новую оперу? И чью? Молодого композитора, почти начинающего. И не только начинающего, хуже, милый мой, хуже. Ты сам должен это понимать. Мне больно напоминать тебе об этом, но я должен это сделать, я вынужден, раз ты сам этого не учитываешь, раз ты так упрям и неблагоразумен, да, да – оперу композитора, у которого за душой шумный провал, провал «Царства на один день».
Верди протянул руку и взял со стола пепельницу – она на самом деле была очень тяжелой. Лицо Мерелли стало совсем серым, это было заметно даже под густым слоем пудры. Но импресарио продолжал говорить убеждающе и неутомимо:
– Слушай меня внимательно. Вот что я тебе скажу. В весеннем сезоне я гарантирую тебе полное внимание, новые костюмы, чудные декорации. Твоя опера будет у меня гвоздем сезона. Ты будешь благодарить меня, уверяю тебя. Вот увидишь!
– Нет, – сказал Верди. Он говорил совсем тихо, задыхаясь, неузнаваемым хриплым голосом. – Нет. Не надо. В весеннем не надо. Сейчас! Я писал партии для Стреппони. Для Ронкони. Их не будет в весеннем. Сейчас! Ставьте оперу сейчас! В карнавальном! Вы обещали. Я кончил за два месяца до сезона. Даже раньше. Вы должны! Вы обещали!
Он говорил очень тихо. Еле слышно, но очень членораздельно и ясно. И сопровождал свою речь ударами пепельницы по столу. На дереве уже образовалась выбоина. Колокольчик, зажатый в левой руке, слабо вздрагивал.
Мерелли начал терять терпение.
– Не могу, – закричал он. – Что это такое, в самом деле? Сядь! Сядь, говорю тебе! – Мерелли старался вытащить пепельницу из руки композитора, но тот стиснул пепельницу так крепко, что пальцы у него побелели. – Что это такое, в самом деле? Что мне с тобой делать? Кто здесь хозяин, я или ты? – Мерелли начинал теряться. Он не знал, что ему делать. – Толкуешь, толкуешь, а он ничего не понимает! Ну, будь благоразумен. Если не для себя, так для меня. Я тебя прошу. Ну! Не могу, понимаешь ты, что это значит не могу? Не могу! Не имею возможности! Не в состоянии! Можешь ты это понять или нет?
– Нет, – сказал Верди. Он был мертвенно бледен и говорил почти шепотом, задыхаясь, но очень четко и ясно. – Такого не понимаю. Что это «не могу»? Тогда писать «Царство на один день» разве я мог? Без души. Без сердца. Без головы. И дрожь в руке. Не удержать пера. А я написал. Все же! Написал! Как мог. Потому, что обещал. Вы сказали мне: обещал значит должен! И вы должны! Вы обещали!
Мерелли смотрел на композитора с недоумением и интересом.
– Ладно, – сказал он, откинувшись на шинку кресла. – Ладно, бог с тобой! Ты знаешь мое сердце. Не могу отказать. Вот что. Вези свою оперу к синьоре Стреппони.
– К синьоре Стреппони? – спросил композитор. Он перестал стучать пепельницей об стол. – К синьоре Стреппони?
– Да, да, да, – сказал Мерелли, – к синьоре Стреппони.
– Разве она здесь? – спросил композитор.
– Да, да, здесь, здесь! – Мерелли терял терпение. – И если она согласится петь в твоей опере, я ее поставлю, эту твою оперу. Да, я сделаю это! Клянусь честью! Я понесу огромные убытки. Я сломаю себе шею, все будут меня ругать, но я это сделаю. Пусть только согласится петь синьора Стреппони.
Мерелли был в восторге. Он чувствовал себя благодетелем. Он был уверен, что готов сделать все для молодого композитора.
Верди смотрел на импресарио в упор. Может быть, Мерелли думает, что синьора Стреппони не согласится петь в его опере? Может быть, импресарио втайне надеется на это?
Верди все еще держал в руках пепельницу. Звонок он поставил на стол.
– Я поеду к синьоре Стреппони, – сказал он.
В дверь тихо постучали.
– Войдите! – во весь голос закричал Мерелли. Он чувствовал облегчение. Слава господу, он не останется дольше вдвоем с этим безумцем.
– Сядь, пожалуйста! – сказал он композитору. – Мне неприятно, что ты стоишь. Неудобно перед чужими.
Верди сел.
– И дай мне, пожалуйста, пепельницу, я хочу курить.
Верди протянул пепельницу Мерелли.
– Ты изуродовал мне стол, – сказал импресарио, проводя рукой по трещинам и выбоинам.
– Я заплачу, – сказал Верди.
Мерелли махнул на него рукой.
– Войдите же, – крикнул импресарио еще громче.
Дверь медленно открылась. На пороге показался Пазетти. Он, как всегда, был одет по последней моде и казался крайне возбужденным. Он сгорал от любопытства и не мог этого скрыть.
– Входите, входите же, – бросился к нему Мерелли.
– Я не решался, – сказал Пазетти, глядя то на Верди, то на Мерелли, – мне казалось, я слышу громкие голоса; я думал, у вас деловой разговор.
Мерелли сделал вид, что не понял намеков Пазетти.
– Синьор инженер, – сказал он, – сам бог привел вас сюда.
– О, что такое? – спросил Пазетти и насторожился.
– Вот, – сказал Мерелли и указал рукой на Верди, – вот, молодой композитор написал новую оперу. Надо ее представить на суд синьоре Стреппони.
– Я могу сам, – сказал Верди.
– Нет, – строго сказал Мерелли. – Она тебя не примет.
– Почему? – спросил Верди.
Мерелли не ответил.
– Я очень рад, – сказал Пазетти, – я очень, очень рад! С большим удовольствием!
– Я могу сам, – повторил Верди.
– Да нет же, – с досадой сказал Мерелли. – Синьор инженер Пазетти – мой старый друг и друг синьоры Стреппони. Будет приличнее, если ты приедешь вместе с ним.
– Можно заехать завтра к синьоре Стреппони и забросить ей наши визитные карточки, – сказал Пазетти.
– У меня их нет, – сказал Верди.
Пазетти снисходительно улыбнулся.
– В таком случае я сам заеду к синьоре Стреппони и спрошу ее разрешения привезти вас. Пусть она назначит день и час, когда ей будет удобно послушать вашу оперу.
– Хорошо, – сказал Верди. Он был согласен ехать с Пазетти. Это представлялось ему несущественным. Важно было одно: показать оперу Джузеппине Стреппони.
Синьора Стреппони охотно согласилась ознакомиться с оперой Верди. Она посмотрела на календарь и назначила день и час, когда Пазетти может привезти к ней маэстро.
– Приезжайте в субботу, – сказала синьора Стреппони, – это будет двадцать третье число. День для меня удобный: я свободна. Приезжайте ровно в половине второго.
Так она сказала Пазетти, а Пазетти в свою очередь сообщил это Верди.
У инженера – любителя музыки был прокатный экипаж. Довольно приличный пароконный выезд. Английская упряжь. Спокойные гнедые лошади в новой кожаной сбруе. Благообразный кучер в синей ливрее с серебряными пуговицами. Удобное сиденье, обитое темным сукном. Довольно приличный выезд. Со стороны он производил весьма солидное впечатление.
– Я заеду за вами, дорогой маэстро, – сказал Пазетти.
– Нет, – сказал Верди, – лучше я зайду к вам.
– Нет, нет, что вы, что вы! Зачем вам идти пешком. Я с удовольствием сам заеду за вами.
На пиацетту Сан Романо никогда не заезжали нарядные экипажи. Появление открытой коляски, в которой как-то особенно чопорно восседал Пазетти, произвело сенсацию. Из всех окон высунулись любопытные, главным образом женщины. Они громко выражали свое удивление и, не стесняясь, делали вслух самые резкие замечания как относительно Пазетти, так и его лошадей. А две дряхлые старухи, гревшиеся на солнце, две старухи, морщинистые и желтые, повернулись к экипажу спиной, и одна из них шамкающим ртом забормотала проклятия. Пазетти принимали за австрийского чиновника. Но дети – их было на улице очень много – не знали, за кого их матери и бабушки принимают неожиданно появившегося удивительного незнакомца. Дети окружили коляску тесной и шумной толпой. Они что-то болтали на непонятном Пазетти миланском наречии, хватались за синие спицы высоких колес, хлопали ручонками по лакированному черному кузову, а те, что были похрабрее, стали даже карабкаться на подножки.
Пазетти, милостиво улыбаясь детям, потихоньку отстранял их концом своей трости, но старался делать это незаметно.
Композитор не заставил себя ждать. Он почти бегом спустился с лестницы и, буркнув Пазетти: «Добрый день», с легкостью вскочил на подножку и сел рядом с инженером. Верди был очень недоволен. Ему глубоко претило все показное. Его болезненно раздражала сцена, разыгранная Пазетти: появление нарядного экипажа на улице, где почти исключительно жила беднота.
Кучер прикрикнул на детей. Они мгновенно разбежались испуганной стайкой, с криком и слезами.
– На Корсо Франческо, – сказал Пазетти, – гостиница «Милан».
Лошади побежали резвой рысью. Пазетти говорил о Джузеппине Стреппони.
– Очаровательная женщина, – говорил он, – выдающаяся певица. Абсолютная примадонна. Мы не видели ее в Милане с тридцать девятого года. Ее импресарио, синьор Алессандро Ланари, не отпускает ее к нам. О, она стала очень знаменитой! До чрезвычайности знаменитой! Вы, конечно, знаете, что последние два года она выступает с огромнейшим успехом.
Нет, Верди этого не знал.
– Как же, как же, – продолжал Пазетти. – В весеннем сезоне прошлого года и в карнавальном тоже, в Риме, в театре Аполло, ее засыпали цветами и драгоценностями, а после спектакля отпрягли лошадей, и люди сами отвезли ее в гостиницу. Молодежь, знаете, студенты, художники. С факелами и песнями. Тысячная толпа! Огромнейший успех! Говорят, что со времени Малибран не было ничего подобного. Она пела в опере «Розамунда» Николаи, и для нее маэстро Доницетти написал «Аделию».
Композитор молча кивнул головой. Да, ему было известно, что маэстро Доницетти написал «Аделию» для синьоры Стреппони.
Пазетти продолжал говорить о примадонне.
– Она законтрактована я уж не знаю на сколько лет вперед. Надо удивляться, как это удалось Мерелли заполучить ее на несколько спектаклей в карнавальном сезоне. На два-три спектакля, не больше. И это стоило больших трудов, и переговоры между Мерелли и Ланари носили характер дипломатических переговоров между двумя великими державами, ха-ха-ха, уверяю вас!
Пазетти был очень доволен своим сравнением. Верди даже не улыбнулся. «Однако, что же я буду делать с этим медведем?» – подумал Пазетти.
– Да, да, дорогой маэстро, – продолжал инженер – любитель музыки, – считаю долгом вас предупредить. Синьора Стреппони уже не та, что три года назад. Не та, не та, совсем не та! Сейчас она всесильна. Абсолютная примадонна, понимаете ли? Ее каприз – закон для импресарио, закон для композитора, закон для театра. Вот как обстоит дело с синьорой Стреппони.
Пазетти искоса взглянул на Верди. Чем его пронять, этого молчаливого, нелюбезного маэстро?
– Добиться встречи с синьорой начинающему композитору очень трудно, – сказал Пазетти. – Почти невозможно! – прибавил он многозначительно.
Верди упорно молчал. Пазетти с досадой откинулся назад. Заложил ногу на ногу. Просунул под левую руку свою великолепную трость из испанского камыша с головой бульдога.
Гостиница, в которой остановилась синьора Стреппони, помещалась в старинном двухэтажном особняке. Это была очень солидная гостиница, в которой не было дешевых комнат.
Пол в вестибюле был мраморный. Черные, белые и розовые плиты были уложены красивым узором, точно ковер. С потолка спускалась причудливая венецианская люстра из цветного стекла. Хозяин гостиницы был австриец, услужливый и внимательный. Его конторка стояла в дальнем углу вестибюля. Он сделал несколько шагов навстречу гостям.
Узнав, что гости к синьоре Стреппони, он подозвал горничную и велел проводить их. Девушка повела их вверх по лестнице, спокойная миловидная девушка в черном платье, белом переднике и с кружевной наколкой на гладких волосах. По лестнице тянулся бархатный темно-малиновый ковер. На площадке стоял полукруглый диван, обитый темно-малиновым бархатом. Над диваном было стрельчатое окно. Оно выходило в сад.
Они поднялись во второй этаж. Против лестницы был поставлен столик и два стула. На одном из стульев сидела горничная, тоже миловидная и спокойная, тоже в черном платье, белом переднике и с кружевной наколкой на волосах. Первая горничная передала их второй, а сама быстро побежала по лестнице вниз. Они пошли по коридору. Пол был затянут ковром, таким же мягким, как ковер на лестнице, только он был не темномалиновый, а золотистый. Горничная бесшумно шла впереди. В гостинице было необыкновенно тихо. Гостей было мало, и многие комнаты пустовали. Горничная подошла к одной из дверей и осторожно постучала. Они стояли и ждали. За дверью не было никакого, движения. Горничная постучала опять, на этот раз немного громче. Они услышали, что в замке повернулся ключ. Дверь отворила пожилая женщина в пестрой шали.
– К синьоре Стреппони, – сказала горничная.
– Прошу! – Женщина в пестрой шали взяла трость из рук Пазетти и открыла дверь в гостиную.
В комнате никого не было. Рояль стоял в углу. Он был закрыт. На нем стояла большая ваза с осенними розами. Громадный букет. Такой же букет стоял на столике перед диваном. Мебель была обита темно-синим атласом. Тяжелые портьеры висели на дверях и окнах. За окнами был виден сад, аллея, посыпанная мелким гравием, аккуратно подстриженные кусты акации и в конце аллеи – мраморная статуя.
Джузеппина Стреппони не заставила себя ждать. Она вошла в гостиную тотчас же. Пазетти склонился перед ней чуть ли не до земли, потом выпрямился и широким театральным жестом указал на Верди. Композитор стоял у рояля, неподвижный и строгий, с клавиром «Навуходоносора» под мышкой.
– Божественная! – заговорил Пазетти. – Несравненная, умоляю, будьте к нам благосклонны. – Он опять низко склонился перед примадонной. – Вот, – он опять указал на Верди, – с вашего разрешения привел раскаявшегося грешника, привел блудного сына. Он мечтает вернуться в лоно искусства, но врата храма для него закрыты. Он нуждается в помощи, в высоком покровительстве, он нуждается в нити Ариадны, чтобы вывести его из лабиринта, где он бесславно блуждает. И вот, мы приехали к вам, ибо мы знаем, что вы всемогущи. Вы одна можете оказать ему помощь и высокое покровительство и дать ему в руки волшебную Ариаднину нить. Божественная, судьба этого человека в ваших руках. Будьте к нему милостивы.
Композитор давно бы перебил Пазетти, если бы слышал речь инженера – любителя музыки. Но он не слышал того, что говорил Пазетти. Он стоял у рояля, неподвижный и строгий, с клавиром «Навуходоносора» под мышкой, и смотрел на синьору Стреппони.
Синьора Стреппони сделала несколько шагов по направлению к композитору, и у нее вздрогнули губы, как это бывает у женщин, когда они вот-вот расплачутся. А он и мысли не допускал о том, что она может подойти к нему и протянуть ему руку и с наигранным чувством выразить ему театральное участие по поводу постигшего его так недавно страшного горя. И он думал, что это ей очень легко, потому что талантливой актрисе ничего не стоит представить себя в любой роли и тотчас же уверенно и убедительно разыграть эту роль.
И когда он представил себе, что она может сейчас взволнованным голосом и даже со слезами на глазах сказать ему несколько привычно «прочувствованных» слов по поводу смерти детей и смерти Маргериты, он почувствовал, что может страстно и непреодолимо возненавидеть ее за это.
А так как он этого не хотел, потому, что от нее зависела судьба его оперы, то он смотрел на нее в упор и мысленно говорил: «Не надо, не надо, не надо!»
А синьора Стреппони действительно готова была заплакать от жалости. Она смотрела на него и думала: «Так изменился. Неузнаваем. Был такой славный, не похожий на других, угловатый и серьезный. А теперь – неузнаваем. Точно двадцать лет прошло. Как худ! Одни кости. И глаза мученика».
Синьоре Стреппони хотелось сказать ему что-нибудь очень ласковое, очень нежное. Но она не находила подходящих слов. Она чувствовала себя робкой и неуверенной. Нет, нет, она ничего не скажет!
Она коротко вздохнула, как вздыхают наплакавшиеся дети, и сказала: «Садитесь, пожалуйста», – и сама села в кресло, и сложила руки на коленях, и приготовилась слушать. Голос у нее был такой же тихий и чуть-чуть хрипловатый, как и раньше. Пазетти опустился на низкий табурет, почти у ног синьоры. Он поставил цилиндр на пол и бросил в него перчатки. Композитор вздохнул с облегчением. У него перестало больно сжиматься сердце. Он был очень благодарен Джузеппине Стреппони.
– Итак, сей раскаявшийся грешник написал оперу, – начал Пазетти все тем же нарочито приподнятым тоном.
Но синьора Стреппони сразу перебила его:
– Прошу вас, маэстро, – сказала она, – покажите!
Она действительно очень изменилась. По крайней мере, во внешности. Она уже не выглядела девочкой, как три года назад. Она заметно пополнела, особенно в лице, но продолжала оставаться стройной. На ней было шелковое платье в мелкую полоску, белую и бледно-зеленую. Пышная юбка и гладкий лиф, а вокруг шеи отложной воротничок. И никаких драгоценностей. Никаких украшений. Ни на шее, ни на руках.
– Надо открыть рояль. – Джузеппина Стреппони посмотрела на Пазетти. Пазетти вскочил с низкого табурета и бросился к роялю. Композитор развязывал тесемки на папке с клавиром. Синьора Стреппони не взяла нотную тетрадь из рук Верди, как это было три года назад. Композитор поставил клавир «Навуходоносора» на пюпитр. Прежде чем Пазетти успел ей помочь, синьора Стреппони придвинула себе стул.
– Садитесь, маэстро! – сказала она. – Расскажите содержание вашей оперы.
Композитор стал рассказывать. Синьора Стреппони слушала очень внимательно. Взгляд ее был пристальный и чуть-чуть напряженный. Потом Верди стал играть. Синьора Стреппони смотрела в ноты. Она сидела так близко, что композитор, играя, боялся задеть ее локтем. Потом она встала и вполголоса стала напевать свою партию. Она пела совершенно чисто и ни разу не ошиблась в ритме. Она наклонялась над его плечом и внимательно следила за музыкальным текстом. Иногда она подымала руку и проводила ладонью по гладким волосам. От нее исходил очень тонкий, еле уловимый аромат лесной фиалки.
Когда он кончил первое действие, она только сказала: «Дальше!» – И продолжала стоять и внимательно смотреть в ноты. Пазетти молчал. Он был в нерешительности. Он не знал, что думать. Он не знал, нравится ли музыка синьоре Стреппони. Это его смущало. Он находил музыку необычно захватывающей, но странно-грубоватой.
Композитор показал и второе действие. Он играл очень выразительно и с увлечением.
– Третье действие начинается с марша, – сказал он, – с марша ассирийцев. – И приготовился играть.
– Довольно, – сказала синьора Стреппони и положила руки на клавиатуру, как бы запрещая ему играть. – Довольно, дорогой маэстро. – Синьора Стреппони улыбалась. Глаза ее блестели. – Чудесно! – сказала она. И, как бы в задумчивости, повторила еще раз: – Чудесно! Это какая-то необыкновенная музыка… Не думаю, чтобы я ошибалась… Я ведь немного разбираюсь в музыке. Мой бедный отец приучил меня к этому.
Верди встал. Синьора Стреппони опустилась на табурет перед роялем и перелистывала клавир. Она казалась искренне взволнованной.
– Знаете что, – сказала она, – мы не будем терять времени. Надо, чтобы опера ваша была поставлена, маэстро. Надо всячески постараться, чтобы она была поставлена. Мы сейчас поедем к Ронкони. Я уверена, что партия Навуходоносора очень ему понравится. Иначе быть не может. Синьор инженер, надо послать за экипажем.
– Божественная! – сказал Пазетти. – Моя коляска у ваших дверей. Сочту за честь предоставить ее вам.
– Отлично, отлично, – сказала синьора Стреппони. – Поедем сейчас же! Не откладывая. Я очень быстро оденусь.
Она вышла из комнаты.
– Маэстро, – начал Пазетти, – вам очень повезло.
Он хотел сказать еще что-то, но не успел. Синьора Стреппони уже возвратилась. На ней была черная мантилья, на руках зеленые перчатки, а на голове капор.
Черный капор на бледно-розовой подкладке, отделанный гирляндой из бутонов и цветов яблони.
– Едем, едем, – говорила синьора Стреппони, – я думаю, мы застанем его дома.
Она была очень оживлена и опять казалась совсем молоденькой. Капор с гирляндой из цветов яблони был ей очень к лицу.
Они сели в экипаж. Пазетти рядом с синьорой Стреппони. Композитору пришлось поместиться на откидной скамеечке. Ему было очень неудобно. Он не знал, куда девать ноги. Пышные юбки синьоры Стреппони заполнили всю коляску.
В гостинице, где остановился Ронкони, было людно и шумно. В вестибюле были слышны раскаты голоса знаменитого баритона. Ронкони пел вокализы.
– Занимается, – сказал Пазетти.
– Ничего, ничего, – сказала синьора Стреппони, – успеет заняться потом.
Она быстро бежала по лестнице и, чтобы не наступить на длинную пышную юбку, она чуть-чуть придерживала ее спереди обеими руками.
Они постучали и вошли – Джузеппина Стреппони первая. В комнате был беспорядок. На столе – остатки неубранного завтрака, кусок яичницы и остывший кофе, фрукты и вино. На мягкое кресло была опрокинута пепельница; из нее на пол сыпались окурки. Сам Ронкони был в халате, в роскошном бархатном халате, вышитом золотом и отороченном мехом.
– О, ужас! – сказал Ронкони при виде гостей. – Прошу прощения. Не ждал никого.
Синьора Стреппони не слушала.
– Пустяки, пустяки, – сказала она, смеясь. – Дорогой друг, вот привезла вам маэстро Верди. Он написал замечательную оперу. Называется «Навуходоносор». Партия Навуходоносора – для вас. Изумительная партия. Эффектно донельзя! И первый выход верхом. Вы должны сейчас же послушать. Ну, маэстро, давайте, давайте! – Джузеппина Стреппони сбрасывала с пюпитра стоявшие там ноты и приглашала композитора сесть за рояль.
Верди казалось, что он видит все это во сне.
– Навуходоносор? – спросил Ронкони. – Какой Навуходоносор? Где? Почему?
– Ах, не важно, но важно, – смеялась синьора Стреппони. – Вы только послушайте, что за партия! Ну, маэстро, давайте, давайте! – И рукой в зеленой перчатке она легонько подталкивала композитора в спину. – Прямо с выхода Навуходоносора, – шепнула она и повернулась к Ронкони. – Я потом расскажу вам содержание. Сейчас это не важно. Посмотрите только свою партию. Чудо, какая партия!
И Верди стал играть, а Джузеппина Стреппони и Джорджио Ронкони стояли за его спиной и наклонялись над ним, и смотрели в ноты, и знаменитый бас обдавал композитора запахом кофе и сигары.
Ронкони читал ноты не так легко, как синьора Стреппони, и она помогала ему, декламационно интонируя его партию. Это выходило у нее очень выразительно, и композитор подумал, что она замечательная актриса. Они до конца посмотрели партию Навуходоносора.
– Ну, каково? – спросила синьора Стреппони. Она раскраснелась и быстро дышала.
– Хорошо, конечно, – сказал Ронкони. – Отличная партия и эффектная. Но, дражайшая, ведь я сейчас занят. На весь сезон занят. Когда идет эта опера? Теперь? В карнавальном? Да что вы? Да разве я могу успеть? У меня три новых оперы!
– Господи, – сказала синьора Стреппони и даже топнула ножкой, – я удивляюсь вам! Как вы можете говорить так? Да у вас никогда в жизни не было такой партии. Я не понимаю, как такой выдающийся драматический певец-актер может равнодушно пройти мимо такой роли и не схватить ее, не вцепиться в нее зубами. Этот Навуходоносор! Что за роль! Что за образ! Да это же шекспировский образ. Это король Лир и Макбет, вместе взятые!
Ронкони улыбнулся.
– Не улыбайтесь, пожалуйста! Вы должны мне верить. У вас в репертуаре никогда в жизни не было такой роли. Подумайте! Образ шекспировской силы. Трагедийный образ. И первый выход верхом на коне. Это тоже что-нибудь да значит!
– Да я не спорю, – сказал Ронкони. – Роль хороша и эффектна. – Он, видимо, колебался. – Вот, что я сделаю, – сказал он, – сообщу Мерелли, что не хочу петь в опере Нини. Кстати сказать, она мне не по душе. И вместо оперы Нини исполню Навуходоносора.
– О, прекрасно, – сказала синьора Стреппони, – прекрасно, прекрасно! Сегодня же надо поговорить с импресарио. Маэстро, ваша опера будет обязательно поставлена. Я уезжаю через два дня и Ронкони тоже. Но за эти два дня все будет обусловлено. Сегодня же поговорим с импресарио.
Синьора Стреппони была очень оживлена и полна решимости.
Композитор возвращался домой пешком. Пазетти поехал проводить синьору Стреппони. Она сказала на прощание: «Вы написали чудесную оперу, маэстро. Передайте это от моего имени импресарио. Впрочем, я сама сегодня же скажу ему об этом».
Композитор чувствовал себя счастливым, по безмерно усталым. «Навуходоносор» будет поставлен в карнавальном сезоне. Теперь в этом не было никаких сомнений. Он завтра же зайдет к Мерелли и скажет, что Джузеппина Стреппони согласна петь в его опере. Он чувствовал себя безмерно усталым и шел с трудом. Ноги казались ему свинцовыми, и он часто спотыкался и один раз даже чуть не упал. Он поглядывал на широкие тумбы, врытые в землю у ворот домов, и думал, что хорошо было бы остановиться, присесть на такой тумбе и дать телу немного отдохнуть. Он с утра ничего не ел и был голоден. Клавир «Навуходоносора» больно оттягивал ему руку.
Он думал сократить путь к дому и пошел напрямик через соборную площадь. На площади было очень людно. Народ вереницей тянулся к собору. Там шла вечерня. Когда он проходил мимо собора, зазвонили колокола. Многие женщины на площади становились на колени. Они опускались прямо на пыльные каменные плиты и, склонив голову на сложенные руки, шептали молитвы.
Он немного прибавил шагу. И в это время воздух вздрогнул, точно от далекого взрыва, и через минуту опять и опять. Он понял, что это пальба из орудий. Фельдмаршал Радецкий хорошо знал силу артиллерии. Учебная стрельба проводилась часто.
И композитор неожиданно вспомнил, как он возвращался от Массини четыре года назад. С клавиром «Оберто», Возвращался усталый и огорченный. Он вышел на соборную площадь, и так же, как сегодня, воздух вздрогнул, точно от далекого взрыва. И все время, пока он быстрым шагом двигался к дому профессора Селетти, пушечные залпы разрывали воздух, точно туго натянутую плотную ткань, и сотрясали стекла, и громовым эхом прокатывались по улицам.
Он вернулся тогда на улицу Санта Марта озабоченный и проголодавшийся. Дверь в комнату, где они с Маргеритой провели ночь, была закрыта изнутри, и он с силой дернул за ручку. В комнате засмеялись, и зашуршали шелковые юбки, и он услышал быстрые-быстрые шажки и веселый голос синьоры Селетти: «Сейчас, сейчас, одну минуточку терпения, сейчас, сейчас…», – и приглушенный смех, и взволнованный шепот, и что то упало и звякнуло об пол.
И так как он был озабочен и проголодался, и ему было не до шуток, то он, стоя за дверью, все время тянул за ручку и нетерпеливо барабанил пальцами но узорчатой дверной филенке.
А синьора Селетти из-за двери говорила благодушно и вразумительно – тоном, каким взрослые обычно уговаривают капризничающих детей: «Ну, ну, сейчас, сейчас, одну минуточку терпения». А потом ему открыли, и в комнате было солнце, и Маргерита поднялась со стула, на котором сидела лицом к зеркалу, и пошла к нему навстречу. А синьора Селетти шла сзади и улыбалась, и смотрела на нее, как бы любуясь и гордясь чем-то.
На Маргерите было самое лучшее праздничное платье из шуршащего черного шелка и мантилья, в руках она держала веер и перчатки. И хотя все эти вещи он знал очень хорошо и видел их не раз, но почему-то внешность Гиты показалась ему в тот день какой-то необычной. А синьора Селетти стояла сбоку и приговаривала:
– Так, так, так, маэстро, любуйтесь, любуйтесь! Ах, что за волосы у синьоры Маргериты! Никогда в жизни не видела ничего подобного! Это же чистое золото! – И говорила назидательно: – Надо немножко следить за модой, дорогая моя. Вам эта прическа – чудо, как к лицу!
Гита спросила:
– Тебе не нравится? – И у нее был сконфуженный и огорченный вид.
А он не знал, что сказать, чтобы не обидеть ее, но он был очень смущен и недоволен. Ему казалось, что Гиту подменили. Он не узнавал ее. Эта новая модная прическа была высоким и сложным сооружением из завитых и искусно уложенных локонов. Она была очень пышно взбита спереди и по бокам и закрывала уши. И на голове Гиты она казалась неестественной и ненужной. Она никак не сочеталась с выражением лица Гиты – таким милым и задумчивым. Она казалась театральной – эта прическа, она казалась бутафорской, она казалась париком венецианской куртизанки.
– Тебе не нравится? – опять спросила Гита. И это почти уже не было вопросом. Она уже знала, что ему не нравится и, кажется, была готова заплакать.
И тогда он сказал:
– Я еще не знаю, я не привык видеть тебя такой, мне еще надо привыкнуть.
– Не слушайте маэстро, синьора Маргерита, дорогая моя, – сказала синьора Селетти. – Берите жену под руку, маэстро, и пройдитесь с ней по городу.
И он тогда не сказал, что голоден, а взял Гиту под руку, и они вышли на улицу. И ему сразу стало хорошо на душе, оттого, что Гита была с ним, и он посмотрел ей в глаза и сказал:
– Ну, в общем, она ничего, знаешь, эта твоя прическа.
А Маргерита засмеялась так нежно и весело, как она уже давно не смеялась, и сказала:
– Я тоже так думаю. Теперь она ничего. – И посмотрела на него и опять засмеялась. Потому что, выходя из дома, она накинула на голову черный шелковый шарф и заколола его так, что волос совсем не было видно. Только немного спереди.
Им было очень хорошо вдвоем. Всегда было хорошо, а в тот день как-то особенно. Они шли, взявшись под руку, по людным улицам и вышли к собору. И тогда, как и сегодня, звонили колокола и палили пушки.
Композитор незаметно для себя прибавил шагу. Теперь он шел быстро и не чувствовал усталости. Орудийные залпы по-прежнему разрывали воздух. Ему казалось, что он идет к дому профессора Селетти и сейчас увидит Маргериту и расскажет ей, что синьора Стреппони согласилась петь в его опере и «Навуходоносор» пойдет в карнавальном сезоне в Ла Скала.
Он уже далеко отошел от собора. На улицах было пустынно. Вечерело. Небо вверху было светлым, но внизу, на узких улицах темнота наступала быстро.
Композитор торопился. Из-за угла навстречу ему вышел какой-то человек. Он шел, покачиваясь, танцующей походкой, и размахивал руками, точно повинуясь ему одному известному ритму. Поравнявшись с композитором, он неожиданно шагнул в сторону. Композитор не успел посторониться. Прохожий чуть не сбил ого с ног. Он был еще не старым человеком, этот прохожий, и от него одуряюще пахло молодым вином.








