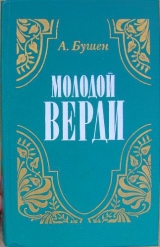
Текст книги "Молодой Верди. Рождение оперы"
Автор книги: Александра Бушен
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 24 страниц)
Но через несколько дней все рухнуло. Все надежды композитора рассыпались в прах. Мориани заболел опасно. Он заболел воспалением легких. Он недостаточно берег свое драгоценное здоровье. Он любил ездить верхом. И он ухаживал за одной знатной миланской дамой. И вот он погарцевал рядом с ее экипажем на Корсо Романо во время вечерней прогулки и много разговаривал и смеялся. А вечер выдался на редкость холодный, дул резкий ветер…
Теперь о постановке оперы нечего было и думать. Сезон кончался. С Джузеппиной Стреппони он больше не виделся. Пазетти, которого он случайно встретил на улице, сказал ему:
– Ах да, я имею к вам поручение от синьоры Стреппони. Она уехала и просила передать вам, чтобы вы не теряли надежды.
Он тогда заставил повторить, что сказала синьора Стреппони. Пазетти повторил:
– Ну да, да, она так и сказала: «Передайте маэстро, чтобы он не терял надежды».
Чтобы он не терял надежды – легко сказать! Сезон кончился. Все театры были закрыты. Город опустел. Стояла невыносимая жара. Они жили в меблированных комнатах, далеко от центра города. Улица была шумной и пыльной. Окна выходили на юг – это стоило дешевле. Солнце пекло целый день сквозь закрытые ставни. Потолки были низкие. Дышать было нечем. Даже ночи не приносили облегчения. Ребенок томился и жалобно плакал. У него сердце разрывалось от этого плача и от того, что у него ничего не выходит с постановкой оперы. Ему начинало казаться, что он во власти какой-то злой судьбы и ему не преодолеть препятствий, которые возникают у него на пути неизменно и последовательно. Он отгонял от себя эти мысли, но ночью, когда было так душно и плакал ребенок, – это было очень трудно. Он совсем не мог спать.
Рано утром Маргерита подходила к окну их спальни и с тайной надеждой осматривала горизонт. Небо оставалось безоблачными Оно было каждый день безжалостно синим. Маргерита потихоньку вздыхала и отходила от окна. Но если она замечала, что он смотрит на нее, она улыбалась и говорила неизменно бодрым и веселым голосом: «Сегодня опять будет прекрасная погода». Она ни разу не сказала: «Сегодня опять не будет дождя». Нет, нет. Она всегда говорила: «Сегодня опять будет прекрасная погода!» Милая, милая Маргерита!
Деньги приходили к концу, и однажды ночью он подумал о том, что положение его безвыходно. Вернуться в Буссето? Ничего другого не придумаешь! Не терять надежды. Легко было говорить синьоре Стреппони! Не терять надежды… В эту ночь он совсем обессилел в борьбе с собственными мыслями. Он понимал, что это борьба бесплодная. Он считал свое положение безвыходным. Он ничего не мог придумать. Ничего не придумать! Ничего! Ничего!
И все-таки синьора Стреппони была права. Не надо было терять надежды. Все разрешилось неожиданно и очень просто, в утро после этой ужасной ночи.
Он заснул тогда внезапно, как это бывает, когда очень измучаешься, и ему казалось, что он вовсе но спал, а только на минуту закрыл глаза. И вдруг он слышит, что Маргерита говорит ему: «Тебя спрашивает служитель из театра». Он думал, что слышит это во сне. Но она очень упорно повторяла: «Тебя опрашивает служитель из театра». И он понял, что это не сон. Но он никак не мог установить логическую связь событий. Какой служитель? Они ведь только что легли спать. Потом он понял, что в комнате светло. Как же так? Разве ночь уже прошла? «Это из театра Ла Скала, – говорила Маргерита, – служитель с поручением от Мерелли».
Боже мой, он не помнил, как вскочил с постели, накинул халат и выбежал в соседнюю комнату, где ждал его человек из Ла Скала. Это действительно был служитель из театра, в форменном сюртуке со светлыми пуговицами. Он казался очень недовольным, даже рассерженным. Он не поздоровался с композитором и обратился к нему ворчливым, грубоватым тоном. Служитель спросил:
– Вы маэстро из Пармы?
И он ответил:
– Да
– Идите в театр. Вас вызывает импресарио.
– Позвольте, а в чем дело?
– Ничего не знаю. – И опять все тем же ворчливым, грубоватым тоном: – Вы маэстро из Пармы?
– Ну, да, да, да, да!
– Так если вы маэстро из Пармы, идите в театр. Вас вызывает импресарио.
Композитор начал сердится:
– Слушайте, вы! Отвечайте мне толком. Я желаю знать, в чем дело.
А тот невозмутимо и глядя в сторону:
– Ничего не знаю, ничего не знаю. Я рассыльный. Дела дирекции – не мои дела. Идите в театр! Вас вызывает импресарио.
О, тогда он пришел в неистовство. Гнев чуть не задушил его. Кровь бросилась ему в голову. Он начал кричать на этого старого человека с длинными седыми волосами. Он кричал на него громким прерывающимся голосом. И тут этот служитель в первый раз взглянул на него, и тогда он увидел, что это жалкий, пришибленный нуждой старик и глаза у него испуганные и подслеповатые. И он сразу перестал кричать, а служитель сказал:
– Ничего не знаю, ничего не знаю. Но как будто бы они там собираются поставить вашу оперу.
И это действительно было так. Когда он прибежал в театр, Мерелли подтвердил ему это. Да, он решил поставить его оперу. Решил поставить оперу молодого, никому не известного композитора на сцене первого оперного театра мира.
– Да, да, молодой человек, на сцене первого оперного театра мира. – Так сказал Мерелли.
Композитор был безмерно счастлив.
Потом Мерелли сказал, что, ставя его оперу, он подвергается большому риску. И композитор со страхом подумал, что импресарио заколебался и, может быть, пожалел о своем решении. Он был тогда очень наивен и не знал, что собой представляет Мерелли. Потом Мерелли потребовал от него переделки либретто. Он согласился.
Мерелли сказал, что ему поможет молодой и очень одаренный поэт-композитор Фемистокл Солера. Он согласился работать с Солерой.
Потом Мерелли потребовал, чтобы он изменил тесситуру вокальных партий. Чтобы он изменил ее в зависимости от голосовых средств тех артистов, которые будут приглашены на осенний сезон. Он согласился и на это.
На прощанье Мерелли еще раз сказал ему, что подвергается большому риску, ставя оперу начинающего композитора, да еще композитора из глухой провинции. Но, прибавил импресарио, он надеется, что молодой человек оправдает возложенные на него надежды и не заставит краснеть тех выдающихся артистов, которые весьма горячо и убедительно за него ручались.
Он сказал «выдающихся артистов», но было ясно, что он имеет в виду только одну синьору Стреппони. Ну и хитер же этот Мерелли! Опытный деляга! Может быть, он думал внушить композитору, что опера его ничего не стоит и он решился поставить ее только для того, чтобы сделать приятное синьоре Стреппони. Ну, этому композитор не поверил. Он отлично сознавал, что его музыка не лишена достоинств. Он сознавал также, что и Мерелли отлично разобрался в этом. Отлично разобрался! Иначе ничто не могло бы заставить ловкого импресарио принять оперу для постановки – слишком он был хитер и расчетлив, чтобы подвергать себя риску совершенно бескорыстно. Нет, нет, никогда он бы этого не сделал, никакие просьбы или уговоры не могли бы заставить его сделать это. Но, конечно, было очень важно, что именно синьора Стреппони обратила внимание Мерелли на оперу неизвестного композитора, было очень важно, что именно она настойчиво и горячо рекомендовала оперу к постановке. И, конечно, она своей настойчивостью помогла композитору и сыграла значительную роль в его артистической судьбе. Так что Солера был до известной степени прав, когда говорил, что в лице Джузеппины Стреппони композитор нашел влиятельную покровительницу. Встреча с ней была несомненной удачей. Этого он не отрицал. Правда, она не выступила в его опере, как ему этого хотелось, и не способствовала успеху «Оберто» непосредственным участием. Но все же свою роль в судьбе «Оберто» она сыграла. Это он помнил очень хорошо. И чувствовал к ней благодарность. И хотя теперь «Оберто» был для него прошлым, изжитым и безвозвратно ушедшим прошлым, чувство благодарности к синьоре Стреппони он сохранил.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Дни проходили незаметно. Верди работал над оперой. Работал над музыкой, работал над текстом. Взаимоотношения между композитором и либреттистом сильно изменились. В них появилось нечто новое. Солера не заметил, как это произошло, но теперь сплошь да рядом бывало так, что Верди самостоятельно и строго диктовал свои условия либреттисту, а тот чувствовал себя обязанным повиноваться композитору беспрекословно и тотчас же. Композитор обычно говорил мало, как бы с трудом выдавливая из себя слова, но в требованиях своих он стал неумолим и непреклонен. Он хорошо узнал Солеру и теперь никогда не щадил его, а заставлял его снова и снова переделывать уже написанное. Солера иногда приходил в ярость.
– Брошу, брошу все! – кричал он. – Очень мне нужно с тобой возиться. У меня десятки заказов и предложений, и все без хлопот. А тебе, если нравится быть тираном, пожалуйста, на здоровье, будь тираном, только ищи себе другого раба.
Но то новое, что появилось в их взаимоотношениях, мешало Солере привести свою угрозу в исполнение. Конечно, в глубине души он считал Верди чудаком, но теперь либреттист чувствовал к композитору невольное уважение. Иногда Солера ловил себя на том, что смотрит на Верди с явным любопытством. Либреттист искренне недоумевал. Как это так? Провинциальный маэстро, вчера еще ничего не знавший о существовании элементарных правил для сочинения либретто, сегодня ему, Солере, либреттисту опытному и общепризнанному, делает указания, с которыми не согласиться нельзя, и открывает в сюжете новые перспективы. Солере подчас не верилось, что это действительно так. Слишком уж это было необыкновенно и неожиданно.
Обычно, когда композитор обращался к либреттисту с просьбой переделать то или иное, Солера начинал с того, что с криком и бранью отказывался от какой бы то ни было переделки. Но затем, побушевав и накричавшись вволю, он уступал композитору внезапно и безоговорочно:
– Ладно, пусть будет по-твоему, упрямец несчастный.
Инстинктивно либреттист чувствовал в композиторе силу, не считаться с которой было невозможно.
Верди во многом переделал либретто сам, переместив последовательность событий, уничтожил одни сцены и заменил их другими. Теперь действие в опере получилось более лаконичным, сжатым и сильным и образы героев утратили ту расплывчатость, которой страдали в первоначальной редакции текста. После целого ряда переработок либретто превратилось в широко развернутую эпопею, где главной движущей силой музыкального действия были страдания и бедствия угнетенного народа. Народ стоял в центре будущей оперы, народ, носитель действия живого и взволнованного, народ угнетенный, народ восставший, народ освобожденный. И на переднем плане, судьбами своими неразрывно связанные с судьбой народа, выступали отдельные действующие лица, фигуры, очерченные выпукло и ярко, фигуры, поражающие силой в напряжении страстей.
Он кончил инструментовать «Навуходоносора» рано утром. Встал от письменного стола и открыл окно. Рама стукнула о деревянный ставень. Воздух был легкий и прохладный. Город еще спал. Часы его остановились. Он забыл с вечера завести их. Было тихо. Где-то на соседней улице проехала телега. Он долго слышал, как она катилась, подпрыгивая и дребезжа по камням мостовой. Потом опять стало тихо. Через улицу пробежала кошка. Он слышал, как под крышей соседнего дома воркуют голуби. Они стаей высоко поднялись в воздух и, круто повернув, скрылись за высокими крышами. И опять стало тихо.
Немного погодя он услышал хриплый кашель и шаркающие шаги и еще какой-то неприятный, шуршащий и царапающий звук. Из-за угла вышел старик в остроконечном войлочном колпаке. Он шел сгорбившись, хрипло и привычно кашляя. Он тащил за собой длинную деревянную лестницу. Трение ее о камни и производило неприятный, шуршащий и царапающий звук. Старик приставил лестницу к фонарю и поднял голову. У него была длинная седая борода, и все лицо обросло серыми взъерошенными волосами. Он потушил фонарь; кряхтя, кашляя и таща за собой лестницу, скрылся за углом.
Композитор вернулся к письменному столу. Аккуратно сложил исписанные мелким почерком партитурные листы.
«Навуходоносор» был закончен. Композитор глубоко вздохнул. Он писал его с волнением и радостью. Он работал упорно и вдохновенно. У него билось сердце и горела голова. Зачастую он набрасывал на бумаге рвавшуюся вперед мысль условными, ему одному понятными знаками. Он не успевал иначе. И только много позже, когда утихал поток бурно несущейся мысли, он приводил в порядок ему одному понятные иероглифы, облекая их в стройную форму, проверял их знанием и разумом. «Навуходоносор» был закончен. Он стал реальностью. Ощутимой слухом реальностью. Законченной музыкальной формой. Новым звеном в хороводе уже существующих произведений музыкального искусства. Он был рожден творческой мыслью и взволнованным сердцем. И он был зафиксирован нотными знаками на бумаге. Теперь ему предстояло родиться на сцене. Композитор улыбнулся своим мыслям. Он чувствовал себя опустошенным и счастливым.
Он решил сегодня же зайти к Мерелли. Закрыл окно, разделся и лег в постель.
Швейцар в театре сказал ему, что Мерелли у себя в кабинете. Композитор пошел по коридору. Навстречу ему попался балетмейстер синьор Карло Блазис, грациозный и важный. В фойе шла репетиция. Балет «Замок Кенильворт» не имел успеха. В карнавальном сезоне гастролировала Фанни Черрито, в весеннем – Мария Тальони. Сейчас никого не было, и лучшим ученикам балетной школы были поручены виртуозные сольные номера. Синьор Карло Блазис был требователен и строг. Он заставлял учеников очень много работать.
Мимо композитора пробежали артистки кордебалета, молодые девушки в голубых рабочих тюниках, и вслед за ними – ученицы школы, худенькие, большеглазые, смуглые девочки в грязноватых, сильно накрахмаленных юбочках. У одной из девочек распустился на туфельке шнурок, и она, ловко закинув ногу на перила лестницы, проворно обматывала его вокруг ноги, а ее подруга, взявшись за перила рукой, старательно повторяла упражнение, отводила ногу назад – прямо и как можно выше.
Дверь в кабинет Мерелли была открыта настежь. У импресарио толпился народ. Мерелли сидел за письменным столом и вел несколько дел одновременно.
– А, это ты, – сказал он композитору, – ну, здравствуй, здравствуй! – И занялся какими-то бумагами. – Не могу, не могу, ничего не могу, – говорил он двум молодым женщинам, которые просили его зачислить их в хор. Хористки были ему нужны, но он хотел, чтобы его просили униженно и подобострастно.
– Садись, пожалуйста, – сказал он композитору. – У тебя ко мне дело? – И, не дожидаясь ответа, опять обратился к молодым женщинам:
– Поймите меня, дорогие мои красотки, ничего не могу. Нет мест. Нет средств. Этот сезон – сущее разорение.
Одна из молодых женщин вытерла глаза кружевным платком. Подруга ее, брюнетка со вздернутым носиком и темным пушком на верхней губе, сердито подтолкнула ее локтем. Они пошли к выходу.
Мерелли, не поднимая глаз от бумаг, разложенных на столе, крикнул им вслед:
– Ну, ладно, так и быть, зайдите вечерком, посмотрим, посмотрим!
Молодые женщины остановились. Они казались счастливыми. Обе улыбались – та, которая плакала, и сердитая, с пушком на верхней губе.
Вошел Басси. Он служил в театре библиотекарем и исполнял у Мерелли обязанности режиссера. Он вошел запыхавшись и в изнеможении упал в кресло, обмахиваясь, как веером, старой, вчетверо сложенной афишей.
– Вы смеетесь, друг мой, – сказал он Мерелли. – Я не могу заняться мизансценой. Костюмеры дают по два костюма на троих. Во что прикажете одеть остальных людей?
– Подите на склад и подберите что-нибудь!
– Там ничего подходящего нет.
– Есть мишура и шелк, и страусовые перья.
– Этого недостаточно!
– Как хотите, я ничего нового дать не могу. Посмотрите на складе! Поищите! Постарайтесь! Придумайте что-нибудь! Изобретите! Вам бы все готовое! Так работать легко. Этим никого не удивишь. Надо уметь создавать из ничего! Как я! Берите пример с меня!
– Хорошо, хорошо, – сказал Басси и поднялся с кресла.
– Голова идет кругом, – сказал Мерелли. – Сезон – сплошной убыток. У тебя ко мне дело? – обратился он опять к композитору.
– Да, – сказал Верди и прибавил: – Сейчас не стоит, пожалуй, говорить об этом. Вы заняты.
– Да нет же, – сказал Мерелли. – Откуда ты это взял? Я весь внимание. – И вдруг закричал: – Уходите все отсюда! Полная комната народа! Невозможно работать. Что это – проходной двор? – И опять обратился к композитору: – Прогораю. Денег нет. Сезон – сплошной убыток. Со всех сторон претензии. Вот, рассчитал секретаря. Нечем платить. Все делаю сам. Голова кругом! Бьюсь, как рыба об лед. Тону, тону!
Все это он говорил жалобным голосом нищего, просящего милостыню. У него на глазах блестели слезы. Он уже поверил в безвыходность своего положения. Он видел себя разоренным, нищим, он искал сочувствия у композитора. И сразу же откинулся на спинку кресла и совершенно спокойно и деловито сказал:
– Я слушаю тебя.
– Я кончил оперу, – сказал Верди.
– А, вот что! – протянул Мерелли безучастно.
– Я кончил «Навуходоносора», – сказал Верди.
– В самом деле? Вот это хорошо! – Вид у импресарио был рассеянный и безучастный.
Верди начинал злиться.
– Слушайте, – сказал он, – на сочинение этой оперы подбили меня вы. Вы поймали меня на улице, вы насильно сунули мне в руки либретто и вы сказали: предупреди меня за два месяца до начала сезона, и я поставлю твою оперу. Говорили вы так или нет?
– Не помню, не помню, – забормотал Мерелли почти скороговоркой. – Очень может быть, очень может быть, весьма возможно, – прибавил он, видя, что композитор, изменившись в лице и угрожающе сжав кулаки, привстает со стула. – Помню, помню: либретто Солеры. Отличные стихи!
– Дело не в стихах и не в либретто Солеры, – сказал Верди. – Я написал оперу. Она совершенно закончена. И вы обязаны с ней познакомиться!
– А в чем же дело? – спросил Мерелли. – Разве я отказываюсь? Что с тобой? Принеси мне клавир завтра, послезавтра, как-нибудь на днях…
Мерелли позвонил в колокольчик. Вошел рассыльный.
– Кофе! – закричал Мерелли.
Рассыльный сказал, что сейчас горячего кофе нет.
– Согреть! – закричал Мерелли.
Рассыльный повернулся к двери.
– И вина! – закричал Мерелли.
– Слушаю, – сказал рассыльный. – Какого изволите?
– Живо! – заорал Мерелли. – Буфетчица знает!
Рассыльный поспешно вышел.
– Двери! – закричал Мерелли. – Черт знает что! Для каждого нужен швейцар.
Он опять обратился к композитору:
– Ты видишь, что делается? Невозможно работать! Это же наказание! Лучше на галерах! Лучше дробить камни на дорогах! Клянусь богом! Сидишь себе на солнышке с молоточком и преспокойно постукиваешь, а кругом чистый воздух, птички ноют – благодать да и только! А я тут сиди весь день в темноте, как крот. Невозможно! Брошу все, клянусь богом! Уеду в деревню. Займусь огородом. Буду выращивать капусту. И другие овощи. Вот тогда милости прошу ко мне. Буду рад видеть. Будет время потолковать обо всем.
Верди дрожал от волнения. Проклятый фигляр! Он представил себе, как хорошо было бы задушить импресарио. Схватить его за горло и таким образом заставить его замолчать. Композитор встал, уперся руками в край стола и спросил, смотря на Мерелли в упор:
– Как же будет с оперой?
Он говорил тихо, внезапно охрипшим от нервного напряжения голосом.
– Не отказываюсь, не отказываюсь, – быстро говорил Мерелли, равнодушно глядя по сторонам. – Заходи, заходи, принеси клавир, с удовольствием помогу тебе советом.
Вошел рассыльный. Он нес на подносе дымящийся кофе и бутылку вина.
– Давай, давай, давай! – заговорил Мерелли, причмокивая языком и протягивая руки за подносом.
– Ставь сюда, осторожно, не расплещи. Эх, ты! Расплескал-таки!
Мерелли налил себе вина и залпом осушил стакан. – Договорились, – сказал он композитору, – заходи, заходи. Ты знаешь, я хозяин своего слова и желаю тебе добра. Заходи с клавиром оперы. Все, что можно будет сделать – сделаем. А сейчас ничего не могу. Занят по горло!
Композитор распрощался и вышел. Он был неприятно поражен. Конечно, он хорошо знал цену обещаниям Мерелли, но он все же не ожидал такой циничной беззастенчивости. Проклятый фигляр! Он понял, что Мерелли может обмануть его и не поставить его оперу. Он похолодел при этой мысли, но сразу же всеми силами внутренне запротестовал против этой возможности. Нет, нет, сказал он себе, нет, нет, этого не будет. Он одолеет импресарио. Опера должна быть поставлена в Ла Скала в карнавальном сезоне, – и она будет поставлена. В Ла Скала. В карнавальном сезоне. Так должно быть! Так будет!
На другой день композитор снова был в театре, но не застал Мерелли, и еще через день узнал, что импресарио неожиданно укатил по делам в Вену и вернется не ранее, чем через неделю или десять дней. Этот внезапный отъезд обеспокоил композитора. Конечно, в глубине души он нисколько не доверял импресарио. Он отлично знал, что время идет, а для того, чтобы «Навуходоносор» был поставлен на сцене, ничего не сделано. Это неприятно напоминало ему времена «Оберто». Сейчас, как и тогда, у композитора не было влиятельных друзей и не было друзей музыкантов. Впрочем, не совсем, как тогда. Тогда у него был Массини, деятельный и энергичный. А теперь он и Массини потерял из вида. И тогда было еще преимущество: тогда он был совершенно не известным композитором, ни разу не выступавшим в Милане. Теперь с его именем могли связывать провал «Царства на один день».
Обычно, когда он доходил в печальных своих размышлениях до этого момента, он не разрешал себе проводить дальнейшую параллель между временем, предшествовавшим постановке «Оберто», и теперешним своим положением. Он не позволял себе думать, что тогда он был не один, что тогда с ним была Маргерита, которая облегчала ему жизнь, которая как бы брала на себя и большие горести, и все неудачи и несла их так, что ему оставалась меньшая доля. Теперь же Маргериты не было. Но он не позволял себе думать об этом. Он говорил себе, что он написал «Навуходоносора» и за «Навуходоносора» надо бороться. Он повторил себе это и теперь, когда узнал, что Мерелли укатил в Вену.
Дня через два, проходя по площади мимо театра, композитор столкнулся с Солерой.
– Ба! – закричал либреттист. – Кого вижу? Где ты пропадаешь? Ну, как дела? Как «Навуходоносор»?
– Мне думается, что Мерелли мошенник, – сказал Верди. – Он может не поставить моей оперы, хотя и обещал сделать это.
– Никогда! – сказал Солера. – Что ты! На мое либретто? Поставит! Непременно поставит!
– Причем тут твое либретто, – сказал композитор, – не понимаю.
– Ладно, – сказал Солера, – не злись! – Он подхватил Верди под руку. – Идем в кафе. Я угощаю. Выпьем за нашу дружбу. – И, громко смеясь, прибавил: – Я тебе еще пригожусь. Мы с тобой напишем не одну оперу.
– Очень может быть, – сказал композитор.
В кафе было полно посетителей. Композитор и либреттист заняли последний свободный столик и заказали завтрак. Солера был весел и оживлен. Он беспрестанно раскланивался. Знакомых у него было много. Композитор был мрачен. Он думал о том, что Мерелли может не поставить его оперу.
К их столику подсел маэстро Ваккаи. Солера представил композиторов друг другу.
– Маэстро Ваккаи – маэстро Верди из Пармы.
И прибавил, что опера, написанная маэстро Верди, пойдет в Ла Скала в карнавальном сезоне.
Верди был вне себя. Что за пустомеля этот Солера! Ну зачем громогласно заявлять о том, чего на самом деле нет!
Ваккаи ничего не слышал о Верди и посматривал на него с любопытством. Он надеялся, что молодой маэстро из Пармы как-нибудь проявит себя. Но Верди не сказал ни одного слова. Он был возмущен Солерой. Он не хотел смотреть ни на либреттиста, ни на Ваккаи. Он ел быстро, опустив глаза и не отдавая себе отчета в том, что у него на тарелке. Солера ел с аппетитом и смаковал каждое блюдо.
Маэстро Ваккаи встал. Уходя, он еще раз вопросительно взглянул на Верди. Он так и не слышал звука голоса маэстро из Пармы. Солера захохотал.
– Однако, ты не очень-то увлекательный собеседник. Поверь мне, с таким характером ты наживешь себе кучу врагов.
Верди, обжигая рот, пил горячий кофе. Его на улице сильно продуло. Октябрьский ветер был холодный и резкий. Композитор боялся ангины и старался согреться.
– Ну вот, – сказал Солера, – я вижу кого-то, кто сумеет тебя расшевелить.
Верди упорно не поднимал глаз. Он был теперь окончательно убежден в том, что Мерелли будет чинить всяческие препятствия к постановке «Навуходоносора».
– Ах, ах, кого я вижу? Кого я вижу? Маэстро! Дорогой маэстро, как я рад!
Это был Пазетти. Верди не видел его со дня провала «Царства на один день». Пазетти тщательно сторонился незадачливых друзей. Он верил в судьбу и не считал себя вправе вмешиваться в ее веления. Судьба есть судьба! Все мы обязаны покорно склоняться под ее ударами. Неудачники суть неудачники! Помогать им бессмысленно. Надо выждать, пока судьба станет к ним благосклонной. Пазетти избегал композитора после провала «Царства на один день». Это далось ему очень легко, потому что композитора нигде не было видно: он нигде не показывался. И только один раз Пазетти пришлось сознательно отстраниться от участия в судьбе пострадавшего маэстро. Это было очень неприятно. Кто-то сказал инженеру – любителю музыки, что Верди после провала своей комической оперы решил перестать писать. Он не будет оперным композитором. Он решил это и в решении своем непреклонен. Но Мерелли и слышать об этом не хочет и требует выполнения ранее заключенного с Верди контракта. И вот, Пазетти узнал, что композитор собирается прибегнуть к его – Пазетти – помощи, чтобы уговорить Мерелли расторгнуть этот ставший невыполнимым контракт (договор). Ах, это было очень неприятно! Пазетти, конечно, отстранился от этого. Он никогда не вмешивается в судьбу неудачников. Принципиально не вмешивается. Он даже уехал тогда на несколько дней из Милана. Только для того, чтобы не быть против воли втянутым в неприятную историю. Благодарю покорно! Очень-то надо! Теперь он видит Верди в кафе в обществе Солеры, и хотя композитор казался ему очень худым и голодным и одет он был более, чем скромно, можно даже сказать – бедно, Пазетти все же имел основания предполагать, что в судьбе маэстро произошла какая-то перемена. Пазетти надеялся на Солеру. Солера не станет сидеть в кафе, где бывает весь город, и завтракать там на виду у всех с безнадежным неудачником.
– Дорогой маэстро, – говорил Пазетти, пожимая руки Верди и стараясь заглянуть ему в лицо. – Дорогой маэстро, как я рад, как я рад! Где вы пропадали все это время? Уезжали на родину? Как ваши успехи? Как новые работы?
Верди был вне себя. Появление Пазетти еще усилило накипевшее в нем раздражение. Какое право имеет Пазетти, этот несносный сплетник и бессовестный пустозвон, приставать к нему с расспросами. Какое ему дело до того, где был композитор и что он делал?
Верди не потрудился ответить инженеру – любителю музыки. Композитор доедал яичницу и, обжигая рот, пил кофе. Ответил Солера.
– Маэстро Верди написал музыку на мое либретто. Опера будет поставлена в Ла Скала в карнавальном сезоне.
– О! – воскликнул Пазетти. – Весьма, весьма рад это слышать. Поздравляю вас, маэстро!
Верди был вне себя. Он был готов отколотить Солеру. Этакий болтун! Ну, зачем трубить о том, чего на самом деле нет. Еще ничего не известно, а он уже звонит во все колокола. Это невыносимо! Верди, обжигаясь, допил кофе и глазами стал искать официанта. В кафе было полно. В этот час все завтракали. Официанты были неуловимы. «Сейчас, сейчас, синьор!»– и проносились мимо.
Тогда Верди взял вилку и изо всей силы стал стучать ею по тарелке.
– Разобьешь*– предостерегающе сказал Солера.
Хозяин вышел из-за стойки. К столику подбежал перепуганный официант.
– Слушаю, слушаю, синьор.
Верди показал рукой на яичницу и кофе.
– Оставь, пожалуйста! – сказал Солера. – Я плачу.
– Нет, – сказал композитор.
Солера пожал плечами. Композитор расплатился и встал.
– Уходишь? – спросил Солера.
– Ухожу, – сказал Верди.
Он впервые взглянул на Пазетти.
– Насчет оперы, – сказал он, – еще ничего не известно. – И стал пробираться между столиками к выходу.
Он не слышал того, что сказал Пазетти, слышал только, как захохотал Солера.
Решительный разговор с Мерелли произошел через две недели. Во вторник, девятнадцатого октября. Накануне Верди узнал, что Мерелли вернулся из Вены, и с утра композитор был в Ла Скала.
На сцене шла репетиция оперы Луиджи Риччи «Свадьба Фигаро», и все были заняты на этой репетиции. В кабинете у Мерелли не было никого. Импресарио сидел один за своим внушительным письменным столом. Он был чисто выбрит и сильно напудрен. Шею его обхватывал черный шелковый галстук. На безымянном пальце блестел драгоценный перстень. Мерелли был, как никогда, австрийский дипломат. Он курил дорогую сигару. Голубой дымок тонкой струйкой поднимался над его головой. В комнате стоял прекрасный, благородный аромат. Импресарио стряхивал пепел в массивную, необыкновенного вида и размеров пепельницу. Она блестела, как золото. На дне ее горельефом были изображены фигуры – боттичеллиевское «Рождение Венеры». Мерелли писал письмо. Стол был в образцовом порядке. Папки и бумаги лежали аккуратно сложенными стопками.
– А, – сказал Мерелли, увидев композитора, – очень рад, прошу садиться.
Верди сел нехотя. Мерелли был погружен в сочинение письма.
– Я пришел насчет оперы, – сказал Верди, – насчет «Навуходоносора».
– Как же, как же, – сказал Мерелли, – я помню, я очень хорошо помню. Я хозяин своего слова, ты меня знаешь. Я обещал поставить твою оперу, и я ее поставлю.
Верди насторожился. Он ожидал, что Мерелли будет юлить, будет пытаться оглушить его потоком слов, изъявлениями любви и дружбы и всякой иной бессмыслицей. Он был озадачен. Импресарио говорил толково и деловито.
– Я поставлю твою оперу, – говорил Мерелли, – будь совершенно спокоен на этот счет. Я поставлю ее в наступающем весеннем сезоне, он начнется двадцать восьмого марта. Поставлю ее тщательно, в великолепных декорациях…
Верди поднялся со стула.
– Нет, нет, нет, – отмахнулся от него Мерелли, – И не проси! Говорю прямо. Ничего не поможет. В карнавальном сезоне – нет! Не могу! Никак не могу! Я уже сказал. Сядь, пожалуйста!
Верди стоял, упершись руками в край стола. Он был очень бледен и смотрел на Мерелли в упор широко открытыми, необыкновенно блестящими глазами.
– Ну, сядь, сядь, прошу тебя, – говорил Мерелли. – Сейчас объясню тебе все. Только сядь, пожалуйста!
Мерелли был явно обеспокоен. Он искал глазами колокольчик. Верди понял, он протянул руку. Бесстрастно, как автомат, взял со стола колокольчик и крепко зажал его в кулак.








