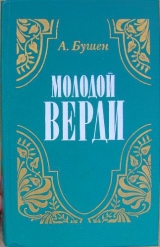
Текст книги "Молодой Верди. Рождение оперы"
Автор книги: Александра Бушен
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 24 страниц)
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
В Милане еще стояла зима. Лил холодный, унылый дождь. За время отсутствия композитора комнату его ни разу не проветривали. Воздух в ней был сырым и спертым.
Не снимая пальто и шляпы, Верди подошел к окну. Небо было серым. В углу на узком подоконнике сидел голубь. Он казался комочком взъерошенных перьев. Оконная рама разбухла и не поддавалась усилиям руки композитора. Голубь встрепенулся и озабоченно засеменил по подоконнику. Окно распахнулось неожиданно от легкого толчка в нужную точку. Рама стукнула о деревянный ставень. Голубь тяжело вспорхнул. На мгновение он замер в сыром неприютном пространстве и тотчас повернул обратно к подоконнику. Когтистые розовые лапки, плотно прижатые к серому тельцу, казались коралловым талисманом, предохраняющим от дурного глаза.
Композитор подошел к письменному столу. На гладкой доске лежал слой пыли. Чернила в чернильнице высохли. Ящики стола были плотно задвинуты. Верди открыл один из них. Там лежали Библия и либретто «Навуходоносора».
В этот же вечер он сел за работу.
Солера зашел на другой день. Он бросился к композитору с расспросами.
– Ну, что? Как?
Верди казался озабоченным.
– Садись, пожалуйста, – сказал он Солере. – Хорошо, что ты пришел. Я собирался послать тебе записку. Вот что: либретто нуждается в основательной переработке.
– Опять? – закричал Солера.
– Слушай, – сказал композитор (он как будто не заметил возгласа Солеры), – разговор идет не о частностях, а обо всем действии в целом. У меня вполне определенные намерения. Я не буду писать музыку к ситуациям, произвольно следующим одна за другой. Я хочу, чтобы действие развивалось правдоподобно. Ты понимаешь меня? Правдоподобно и последовательно, как в драме.
– Ого! – сказал Солера.
– В либретто есть идея, значительная, высокая идея. Она не должна быть измельчена или затемнена нелепыми положениями, разрозненными живыми картинами, как это мы часто видим в опере. Ты уберешь из либретто все, что я нахожу лишним. Понимаешь?
– Ого! – сказал Солера. – Что еще?
– Еще? Могу сказать и еще. Вот – о твоих стихах: я не считаю их чем-то незыблемым.
– Что? – Солера был очень удивлен.
– Я не считаю их настоящей поэзий.
– Что? Что? – закричал Солера и вскочил со стула.
– Я не собираюсь подписывать музыку под эти твои стихи.
– Ты с ума сошел! – Солера махнул рукой и опять сел.
– Скажу прямо, – сказал Верди, – я собираюсь делать обратное. Не я буду подписывать музыку под стихи, а тебе придется подгонять стихотворные строчки под музыку, которая будет задумана мной. Может быть, мне понадобятся другие слова, более выразительные, более веские, слова с другими ударениями, фразы с другим количеством слогов. Ты понимаешь?
– Понимаю, – сказал Солера. – Очень хорошо понимаю. Пиши либретто сам!
Композитор опять как будто не заметил выпада Солеры.
– Ты написал очень хорошее либретто, – сказал он, – мне кажется, что если мы поймем друг друга, должна получиться хорошая опера.
– Что значит, если мы поймем друг друга? – запальчиво спросил Солера. Ему хотелось сказать композитору что-нибудь неприятное.
– Если ты будешь помогать, а не мешать мне.
– Ты сумасшедший! – сказал Солера. – Кто так пишет оперу? Какие у тебя там намерения? Что это значит? И кого это интересует? Ты пишешь для публики, для певцов, для импресарио.
– Нет, – сказал композитор. – Для импресарио – нет! Для публики – да, и для певцов. Но не в том смысле, в каком ты это понимаешь.
– Помолчи! – сказал Солера. – Дай поговорить и мне. Ты приехал из своей глухой провинции и хочешь меня учить. Не обижайся, пожалуйста, но это смешно! Ты говоришь о высоких идеях. Ну что ты понимаешь? Публика в оперном театре меньше всего интересуется высокими идеями. Пойми это! Публика идет и театр развлекаться и наслаждаться искусством певцов. Вот чего она ищет в театре! И она права. Потому что искусство существует для того, чтобы развлекать и доставлять удовольствие. Только для этого!
– Нет, – сказал Верди.
– Помолчи! – сказал Солера. – Помолчи, я уже просил тебя. Дай мне сказать. Певцы тоже не интересуются твоими идеями. Они вносят в оперу свои идеи. Они хотят, чтобы для каждого из них была написана самая наиэффектнейшая ария в самом наивыгоднейшем месте, и притом такая ария, где можно блеснуть и красотой голоса, и всеми возможными виртуозными ухищрениями. Вот чего хотят певцы! И они тоже правы. Потому что именно это нравится публике: красота голоса и вокальное мастерство. Публика не интересуется твоими идеями. Публика интересуется искусством певца. Понял? И не забывай об этом, иначе ты рискуешь здорово попасть впросак. Певец, вокалист-виртуоз – вот первое лицо в опере. Певец и его искусство – вот главное. И тебе нечего особенно заботиться о правдоподобном и последовательном развитии действия – так, кажется, ты сказал? Это смешно! Певец сам создает действие.
– Это плохо, – сказал Верди. И, помолчав, он прибавил – Я думаю, что действие в опере должен создавать композитор.
– Ого! – засмеялся Солера.
Верди продолжал:
– Да, да – композитор. И певцы должны подчиняться его намерениям.
– Что? Что? Что? – Солера весь трясся от смеха. – Ты с ума сошел, честное слово, с ума сошел! Где певцы, которые согласятся на это? Где?
Композитор поморщился. Он не хотел говорить с Солерой. Не хотел и не мог. Он не мог объяснить ему того, что сам угадал давно, но понял и осознал совсем недавно.
Впрочем, кое-что из того, над чем он думал, он, конечно, мог бы сказать. Он мог бы сказать, что опера из любимого средства общения всего народа превратилась в пустую, ни к чему не приводящую болтовню и забаву для праздных и пресыщенных. Он мог бы сказать, что пение, перегруженное украшениями по произволу певца, то виртуозное пение, за которое так ратовал Солера, губительно для выражения сильного правдивого чувства и губительно для яркой, ясно очерченной мелодии, выражающей это чувство. Все это он мог бы, конечно, сказать Солере. И еще он мог бы сказать, что, по его глубокому убеждению, в опере, как в драме, должны действовать не выдуманные герои, а настоящие люди, живые, всем близкие и понятные люди, движимые чувствами сильными и правдивыми. Обязательно правдивыми. Прежде всего правдивыми. Он чувствовал, что должно быть так. Он был в этом уверен. Только он не мог высказать этого убедительно и стройно. Да и не хотел. От слов ничего не изменяется. Нужны дела.
Солера все еще говорил о певцах:
– Певцы не будут петь твоей музыки, если ты не позаботишься о них; уверяю тебя, они не будут петь твоей музыки, если ты не дашь им возможности проявить себя самым блестящим и выгодным для них образом. Советую тебе подумать об этом.
– Оставь, пожалуйста! – закричал Верди. – Какое мне дело до певцов, которые хотят петь так, как это было принято сто лет назад? Есть и другие певцы! – И подумал: «Какой смысл говорить с этим Солерой? Он самоуверен и слеп…»
И тут, как это часто бывало с ним, композитор глубоко задумался.
Семь лет назад Верди учился у маэстро Лавиньи и жил на улице св. Марты у добрейшего Джузеппе Селетти, учителя гимназии. Композитор занимал тогда маленькую комнату во втором этаже и работал с раннего утра до позднего вечера. У него были определенные задания на каждый день. Он писал каноны и фуги, и замысловатые контрапунктические задачи, которые придумывал для него маэстро. Он изучал партитуры мастеров XVII и XVIII веков и делал переложения этих партитур для разных составов инструментов. Он играл на фортепиано и сочинял музыку в разных формах и на разные темы. Все это он делал по заданию учителя. Но, кроме этого, он переписывал для себя партитуры сочинений Скарлатти, Корелли, Гайдна, Бетховена, Моцарта и много думал над этими партитурами, и приходил к выводам и заключениям, и ни с кем этими выводами и заключениями не делился.
Иногда в занятиях музыкой проходила ночь. Свеча, за которой он забывал следить, оплывала и стекала на стол быстрыми струйками. Она догорала до краев подсвечника. Фитилек вспыхивал в последний раз и, затрещав, потухал. Композитор с удивлением замечал, что наступает утро. Он с трудом поднимался со стула, на котором сидел неподвижно всю ночь. У него кружилась голова. В комнате пахло копотью и нагаром. Он открывал окно. Город спал. Воздух был прохладным и неподвижным. Перекликались петухи. Он их не видел, но узнавал по манере подавать голос. Первым начинал петух где-то во дворе по направлению к площади Борромео. Наверное, это был большой породистый петух со здоровой глоткой. Он пел, как медная труба, необыкновенно громко и не совсем чисто.
Композитор, не раздеваясь, ложился на постель. Он спал чутко и просыпался, как только в доме вставали служанки. Это были молодые веселые девушки, и они принимались за работу со смехом и песнями. Он пил кофе и опять садился к письменному столу. Он не мог позволить себе полежать подольше. У него на каждый день были определенные задания. Большие задания! Ему предстояло пройти в три года то, что студенты консерватории проходят в пять.
Он должен был разрешать задачи тщательно и добросовестно. От внимания маэстро Лавиньи не ускользала ни одна погрешность в гармонии или голосоведении. Маэстро Лавинья был опытным контрапунктистом. Он был требователен и строг.
А вечерами композитор ходил в Ла Скала. Он ходил туда часто. Маэстро Лавинья доставал для него входные билеты. Маэстро Лавинья говорил, что композитор обязательно должен слушать музыку. Много музыки. И самую разнообразную музыку. Музыку, написанную мастерами прошедших веков, и музыку, написанную современниками. И еще маэстро Лавинья говорил, что композитору необходимо слушать лучших певцов своей страны. И это последнее маэстро считал особенно важным. Потому, что певцы своим искусством часто подсказывают композитору новые мысли и помогают ему облекать эти мысли в сценические образы. Так говорил маэстро Лавинья. И он доставал своему ученику билеты в Ла Скала. И очень много рассказывал ему о том, как писались и ставились те или иные оперы.
Он рассказывал о композиторах, о знаменитых певцах и певицах. Он рассказывал охотно и очень живо. Он был неаполитанцем, маэстро Лавинья, и он прослужил концертмейстером в Ла Скала более тридцати лет. Он уже не помнил, сколько опер он на своем веку разучил и приготовил к постановке. Но о последних операх, прошедших через его руки, он говорил с особой охотой – об «Уго, графе Парижском» Доницетти и о «Норме» Беллини. И особенно о «Норме». Он рассказывал своему ученику о Беллини и о Джудитте Пасте. Он говорил, что Беллини написал роль Нормы для Джудитты Пасты и что премьера оперы прошла с огромным успехом. Винченцо Беллини сидел за чембало, и Пасту превознесли до небес, потому что она была прекрасна и потому что она была местной уроженкой, и все знали, что опера написана для нее.
Маэстро Лавинья часто говорил о Джудитте Пасте. Говорил о ней восторженно и почтительно. Говорил, что она великая артистка и великая певица. Говорил, что она сумела воскресить лучшие традиции эпохи расцвета вокального искусства. Вокальное искусство! Маэстро Лавинья любил поговорить о нем. Маэстро Лавинья любил человеческий голос и знал ему цену. «Голос, голос, – говаривал он, – какой совершенный музыкальный инструмент! Инструмент – выразительности почти невероятной, инструмент волшебный, инструмент магический по силе воздействия!»
Так говорил маэстро Лавиньи. И рассказывал о певцах, которые одним только звучанием голоса доводили слушателей до экстатической экзальтации, до обморока, до восторгов почти безумных. О, маэстро Лавиньи любил поговорить об искусстве вокалистов. Он никогда но пропускал случая повторить, что искусство управления голосом было доведено во времена расцвета bel canto до такого совершенства, о котором сейчас и мечтать невозможно, нет-нет, совершенно невозможно. И, рассказывая об оперных композиторах, говорил, что композиторы записывали на бумагу только канву музыкального произведения, и на эту канву великие певцы наносили роскошный узор вокальных украшений, и эти украшения входили в музыку оперы, и сами были музыкой, всегда живой и как бы создаваемой заново. «Теперь не то, – говорил маэстро Лавинья, – совсем не то». И он вздыхал, и сокрушенно качал головой, и говорил, что одна Джудитта Паста еще напоминает ему о божественно-прекрасном, ныне утраченном искусстве bel canto.
И вскоре после всех этих рассказов и разговоров случилось так, что Верди сам увидел и услышал Джудитту Пасту в роли Нормы.
Она была строга и величественна. Тонкий золотой обруч стягивал искусно уложенные косы. Белые одежды ниспадали с плеч твердыми тяжелыми складками. Как на античной статуе.
Роль Нормы она проводила величественно и приподнято. Да, да, «приподнято» – вот, пожалуй, отличительная черта всего, что она делала на сцене. Она как бы подчеркивала высокое достоинство и духовную мощь человека в борьбе со страстями. В самых патетических моментах она оставалась неизменно сдержанной и благородной. Двигалась она по сцене свободно и естественно, но чувствовалось, что вся пластическая сторона роли продумана и вылеплена ею до мельчайших подробностей. Да, Винченцо Беллини знал, что делал. Роль Нормы, жрицы Ирминзула, как нельзя лучше подходила к характеру дарования и голосовым средствам Джудитты Пасты. Она действительно казалась ожившей героиней древнего мира. Публика считала Пасту непревзойденной трагической актрисой. Рассказывали, что сам Тальма не спускал с нее глаз, когда она в Париже играла россиниевского Танкреда. Рассказывали также, что великий трагик, растроганный до слез, горячо благодарил певицу после спектакля и высказал ей свое восхищение в самых лестных для нее выражениях.
Верди не мог всецело разделять восторга окружавшей его публики. Его мало трогало застывшее в собственном благородстве пластическое искусство. Оно казалось ему условным и мало человечным. Вот именно: мало человечным! Но он тогда не осмелился высказать вслух столь критическое суждение. И даже перед самим собой ему было неловко признаваться в мыслях, которые каждый просвещенный любитель искусства назвал бы кощунственными. Он вовсе не хотел умалять достоинств Джудитты Пасты. Он испытывал искреннее восхищение перед ее мастерством актрисы. Безусловно! Искреннее восхищение! Ему до этих пор не приходилось видеть певицы, жесты и позы которой были бы так осмысленны и пластически выразительны. И она прекрасно пела. Замечательно владела голосом. Этого он отрицать не мог. Речитативная декламация ее была безукоризненной – точной и полной значения. Что же касается длинной мелодической фразы, то она выпевала ее совершенно превосходно. Да, да, конечно, конечно – маэстро Лавинья был прав. Джудитта Паста была вокалисткой, достойной изумления.
Через несколько дней он увидел и услышал ее снова. Опять в Ла Скала. В роли Дездемоны. В опере маэстро Россини. Конечно, она была прекрасна, и можно было говорить и об ее уме, и красоте, и мастерской передаче роли, и о bel canto, о высоком искусстве пения тоже можно было говорить. Несомненно! Хотя по природе голос ее не был безупречным. Меццо-сопрано. Тяжеловатое. И неровное. Однако довольно значительное по диапазону. Две с половиной октавы. Ну что ж, с этим можно петь партии сопрано и контральто. Так она и делала. Пела партии Ромео и Семирамиды, Танкреда и Розины. Но настоящей ровности в ее голосе не было. В нем было два регистра. И они отличались один от другого, как голоса разных людей. Это казалось странным. Два регистра: грудной и головной. Точно два характера. Точно два лица.
Однако она владела и распоряжалась своим голосом виртуозно. Виртуозно в самом широком смысле этого слова. Она очаровывала тем, как подавала звук, она умело окрашивала его, она мастерски сопоставляла ноты глуховатые и мужественные нижнего регистра со светлым и легким фальцетом. О, она была умной, расчетливой певицей. Она достигала самых сильных эффектов путем сопоставления своих двух, столь разных по тембру регистров. Она пользовалась ими как художник, который, искусно смешивая краски, получает совершенно новые, подчас ошеломляющие эффекты светотени. О да, она была артисткой умной и расчетливой. Она пользовалась особенностями своего голоса, как самым могучим средством воздействия. Она достигала эффектов звучания, при которых слушатель испытывал неизъяснимое наслаждение. Наслаждение почти физическое. И она достигала этих эффектов и этого воздействия одним только звучанием голоса. Умелым распределением градаций и нюансов и качеством звука. О, она производила на публику неотразимое впечатление! Дамы прикладывали тонкие платки к увлажненным глазам, и самые взыскательные дилетанты млели от восторга. Да, да, конечно, конечно, слушая ее, было вполне уместно говорить о bel canto, о высоком искусстве певца и о том, что певец голосом своим создает произведение искусства, и даже можно было говорить о том, что Джудитта Паста своей манерой петь вносит в музыку определенное содержание. Конечно, конечно, говорить об этом было вполне уместно.
Артистку вызывали десятки раз. Ее называли богиней, музой, ожившей статуей, дочерью Фидия и Праксителя.
Ну, вот в этом-то и было, вероятно, все дело! Вот почему композитора так мало трогало ее искусство. Она вылепливала сценический образ с непререкаемым мастерством, но образ этот, идеализованный и подчиненный множеству условностей, был далек от образа живого человека. А ему хотелось видеть на сцене живого человека. Кругом говорили о необычайной силе и страстности артистического дарования Джудитты Пасты. А ему она казалась холодной. Он не чувствовал в ее исполнении подлинного драматизма; он не чувствовал движения; он не чувствовал биения подлинной жизни. Она разрешала роль путем ряда возникающих один за другим неизменно красивых и пластически осмысленных моментов. Вот как она разрешала роль! Вот как она понимала ее! И он думал, что это нехорошо и такое разрешение роли не должно иметь места в драме посредством музыки.
Кругом говорили о том, что образ Дездемоны, созданный Пастой, неподражаем и полон величия. Да, конечно, Джудитта Паста в роли Дездемоны была величественна. Слишком величественна! Он представлял себе Дездемону иной: юной и непосредственной. Джудитта Паста была гордой венецианкой. Всегда гордой, всегда преисполненной достоинства. Особенно в сценах с чернокожим супругом. Она робела и покорно склонялась только перед отцом. Она была почтительной, смиренной дочерью. Она переживала свою любовь к мавру, как вину. Она молила отца о прощении. Но в сценах с Отелло она была гордой венецианкой. Она не робела перед мавром. Нет, нет, она не робела перед ним. Его упреки, его исступленная ревность вызывали в ней отвращение. Так проводила роль Джудитта Паста. Так она понимала ее. Она смотрела на мавра отчужденно. Она не боялась его. Она не испытывала страха перед ним. Ни разу! Даже в последнем действии, когда он с кинжалом в руке шел прямо на нее, и все в зрительном зале содрогались, заранее переживая убийство, и на сцене гремел гром, и молния голубоватыми вспышками освещала опочивальню, где должно было совершиться злодеяние, и женщины в ложах закрывали глаза, – Джудитта Паста-Дездемона не испытывала страха. Даже тогда! И всей игрой – мимикой и жестом – она подчеркивала это свое бесстрашие. Она двигалась навстречу мавру с гордо поднятой головой, она улыбалась, она глядела на него с презрением, она становилась на цыпочки, чтобы казаться еще выше, еще величественнее, еще бесстрашнее, она застывала в такой позе, с гордо поднятой головой, с улыбкой на устах – статуя, олицетворение неустрашимости и незапятнанной добродетели. И в такой позе, без единого жеста, без единого движения она принимала смерть от руки мавра и бесшумно опускалась на ложе, сраженная кинжалом. В театре вскрикивали. Все лорнеты и бинокли были направлены на сцену. Осветители работали вовсю. Светлый голубоватый луч изламывался на золоте парчи, блестел на кружеве полога, освещал белое лицо Дездемоны. Она лежала – неподвижная, с запрокинутой головой и безжизненно свисающей с высокого ложа правой рукой. Она казалась мрамором. Она казалась надгробным памятником. Публика была в восхищении. «Смотрите, смотрите!», «Как хороша!», «Как скульптурна!», «Какое искусство позы!».
Композитор не разделял восторга публики. Ему хотелось другого. Артистка придавала слишком большое значение внешней красоте и скульптурному изображению образа. Не в этом дело! Не это важно в последнем действии трагедии. Он оглядывал публику. Он искал сочувствия своим мыслям. Но сочувствия не было. Да и быть не могло. На всех лицах было выражение блаженства. Любители музыки переживали высокое эстетическое наслаждение. Вот именно – чисто эстетическое наслаждение! Он этого не понимал. Разве можно бездумно и беспечно наслаждаться, когда в вашем присутствии происходит величайшее злодеяние? Когда гибнет страшной смертью чистейший, ни в чем не повинный человек, прекрасная молодая женщина, любящая и верная жена? Он никогда не мог равнодушно читать последнее действие шекспировской трагедии. Судьба Дездемоны каждый раз потрясала его. Она казалась ему чудовищной несправедливостью. Стоило ему только задуматься над этим, как тугой узел до боли затягивал горло и невыплаканные слезы душили его.
Кругом говорили о благородстве и изяществе музыки Россини, об умении маэстро закругленно и без толчков приводить действие к катастрофе и о том, что музыка Россини неувядаемо светла и радужна, и полна обаяния, и всегда чарует, и восхищает независимо от содержания и драматической ситуации.
Этого он тоже никак не мог понять. Он повторял про себя упрямо и настойчиво: нет, нет, не то! Ему хотелось другого. Он тогда не мог еще точно определить чего. Но другого. Нового!
И он ушел из театра взволнованный и в глубине души смятенный и разочарованный.
А потом в Милан приехала Мария Малибран. Приехала в мае, и приезд ее был событием. Она была на десять лет моложе Пасты, но слава о ней уже облетела театры всего мира. Она побывала в Америке, изъездила Европу, пела в лучших театрах европейских столиц. И только в Милан она не заезжала ни разу и в Ла Скала не выступала. И вот теперь она наконец приехала, и, конечно, ее приезд был событием. О ней говорили в салонах и в кафе, в центре города и на окраинах. Ее выступления ждали с волнением и страстным любопытством. О ее жизни, феноменальном голосе и необычайном актерском даровании ходили самые невероятные слухи. Вокруг ее имени слагались легенды, в которых вымысел преобладал над действительностью.
Вот что, однако, было безусловно достоверным. Она была всесветно знаменитой, и репертуар ее был удивительно обширным и разнохарактерным. Она пела с одинаковым успехом партии трагические и партии буфф, партии контральто и партии сопрано. Она играла роли Ромео и Адины, Танкреда и Золушки, Церлины и Семирамиды, Дездемоны и Арзаса, Нинетты и Сомнамбулы; она играла роль старой девы Фидальмы в чимарозовском «Тайном браке» и Марию Стюарт, и донну Анну, и Леонору в опере Бетховена. И все эти партии она исполняла с одинаковым мастерством. Эти партии и много других, специально для нее написанных, в операх отечественных композиторов и композиторов немецких и французских. Вот это было достоверным: то, что она была всесветно знаменитой и что репертуар ее был удивительно обширным и разнохарактерным.
Для дебюта в театре Ла Скала Мария Малибран выбрала «Норму». По этому поводу среди дилетантов разгорелись самые жаркие споры. Одни ждали выступления Малибран с интересом и нетерпением: посмотрим, посмотрим, что покажет нам в роли Нормы приезжая примадонна! И радовались возможности сравнить Марию Малибран с Джудиттой Пастой. Другие считали, что артистка поступает слишком смело, даже дерзко, претендуя на роль, пальма первенства в которой – это, всем известно – принадлежит Джудитте Пасте. И многие поклонники Пасты говорили повсюду, громко и с возмущением, что желание Малибран выступить в роли Нормы – несомненный вызов общественному мнению, явный выпад против всеми признанной лучшей исполнительницы этой роли. И тотчас среди поклонников Пасты образовалась группа, которая сговорилась освистать Марию при первом появлении ее на сцене.
Мария Малибран должна была выступить перед миланской публикой пятнадцатого мая. Это было в четверг. Верди ходил утром на урок к маэстро Лавинье, и маэстро сказал ему: «Непременно пойди послушать эту знаменитость», – и дал ему входной билет в партер. С этим билетом можно было сидеть на одной из скамей, поставленных позади кресел партера, там, где места не нумерованы и где место принадлежит тому, кто сумеет раньше других захватить его. Сам маэстро Лавинья пойти в театр не мог. Увы! Увы! Он совсем расхворался – одышка, головокружение, слабость. Что поделаешь? Пойти в театр он не мог. Потому-то и решил отдать ученику билет, который приобрел для себя.
Когда Верди подошел к Ла Скала, было еще очень рано. До начала спектакля оставалось пять часов. Однако площадь перед театром – была уже запружена народом. Шумели. Кричали: «Двери! Двери! Открывайте! Открывайте!» Толпились сотни и сотни людей. Верди подумал, что идти домой было бы безрассудно. Потом не попадешь в театр. Он решил попытаться дойти до главного входа. Это удалось ему с трудом. Было жарко. Солнце пекло, как в июле. Сзади на него напирали. Он был вплотную прижат к дверям. Это было очень неприятно. Он закрыл глаза. И в эту минуту двери распахнулись настежь. Толпа взревела и ринулась вперед. В вестибюле его охватило холодом. Точно накинули на плечи мокрую простыню. У всех дверей стояли хорватские гренадеры. У входа в партер проверяли билеты. Он повалился на скамью почти в беспамятстве. И сразу же его чуть не столкнули на пол. Места за креслами брали приступом. В несколько минут они были заполнены. Ни встать, ни сесть, ни повернуться! В театре было темно. Слабый свет проникал издалека через двери, открытые в вестибюль. Потом эти двери закрыли, и в огромном помещении наступила полная тьма. Публика стала протестовать: «Эй, там! Свет! Свет! Свет! Откройте!» Однако двери так и не открыли.
Большую люстру зажгли в половине восьмого. Публика встретила свет аплодисментами. Люди истомились в темноте. Восемьдесят четыре лампы горели светлым желтоватым пламенем. Это было очень красиво.
И тотчас стали наполняться ложи и были заняты все нумерованные кресла в партере. Вдруг разговоры смолкли, и все встали: в королевской ложе появились вице-король и вице-королева и с ними Мария-Луиза Пармская и герцог Моденский.
А потом композитор увидел, что в одну из лож второго яруса вошла Джудитта Паста. Ее встретили аплодисментами, дружными и шумными. Можно даже сказать, что ей устроили овацию и что овация эта носила демонстративный характер. Безусловно демонстративный! Поклонники Пасты неистовствовали. Они хотели еще раз выразить свое восхищение любимой примадонне. Они хотели подтвердить, что это восхищение неизменно. Они хотели подчеркнуть, что никогда Марии Малибран не исполнить роль Нормы так законченно и совершенно, как это делала Паста.
Джудитта Паста поклонилась, а потом села и, улыбаясь, стал смотреть в зал. Одета она была очень скромно, в какое-то темное, не новое и не модное платье. На плечи она накинула кружевную шаль. Она выглядела значительно полнее и старше, чем на сцене.
Было восемь часов, но увертюру почему-то не начинали. И вдруг кто-то сказал, что спектакль может не состояться. Об этом заговорили сразу в нескольких местах. В партере заволновались. Разговоры стали громче и оживленнее. У входной двери слева собралась группа мужчин и среди них молодой щеголь в низко вырезанном жилете и бледно-лиловом галстуке, по-видимому, знавший больше, чем остальные.
– Какие-то доброжелатели сумели проникнуть в уборную к Марии Малибран, да, да, да, сейчас, несколько минут тому назад, и они сообщили ей, что поклонники Пасты освищут Марию, как только она появится на сцене. И будто бы даже известно, что приверженцы Джудитты запаслись самыми большими ключами и кто-то видел, как эти ключи принесли в театр и роздали всем желающим свистеть. Мария разрыдалась, потому что ее ни разу нигде не освистывали, и заперлась у себя в уборной, и велела передать в дирекцию, что спектакль отменяется, потому что она выступать не будет. И теперь импресарио театра герцог Висконти ди Модроне стоит у дверей уборной примадонны и умоляет ее успокоиться, а она не отпирает, плачет и говорит, что выступать не будет.
Но скоро пришел еще кто-то и сказал, что герцог сумел уговорить Марию не срывать представления. Он воззвал к ее доброму сердцу. Он просил певицу подумать о дирекции, которая понесет неисчислимые убытки, и о публике, которая собралась сегодня ради нее, и в заключение он сказал, что твердо верит в благородство Марии и не сомневается в том, что она сочтет своим долгом выполнить взятые ею на себя обязательства, и так далее, и так далее – все в этом роде, красноречиво и возвышенно.
И тогда примадонна перестала плакать и сказала: «Вы правы, вы правы, я должна выступить. Можете давать сигнал. Пусть начинают». И стала прикладывать к глазам холодную примочку, потому что от слез у нее сильно покраснели и распухли веки.
И, по всей вероятности, так оно и было на самом деле, потому что через несколько минут начали увертюру.
Верди стал слушать. Разговоры не прекращались. Это его всегда злило. Разве увертюра не должна подготовить слушателя к предстоящему действию на сцене? Разве увертюра не осуществляет перехода от суетных интересов, от мелких и корыстных забот к значительному, насыщенному сильными чувствами сценическому действию? Да, так должно быть! Но в действительности происходит не так. Во время увертюры разговаривают и смеются, рассаживаются в ложах и разгуливают в партере, отыскивают знакомых и, найдя их, громко приветствуют. Вот как происходит на самом деле! И он подумал: может быть, совсем не нужно, чтобы опере была предпослана увертюра? Может быть, лучше начинать музыкальное действие одновременно с поднятием занавеса? Может быть, пение и игра актеров, соответствующие действию декорации, и освещение скорее заставят публику отвлечься от пустых разговоров и сосредоточить внимание на музыке, звучащей и расцветающей в связи с происходящим на сцене?
Однако, несмотря на шум в театре, он слушал очень внимательно. Он любил музыку маэстро Беллини. Он любил ее за естественность, за выразительность и простоту сердцем прочувствованной мелодии, – ах, боже мой, он втайне мечтал о том, чтобы ему когда-нибудь удалось сложить собственную мелодию, такую длинную-длинную, такую мягкую и гибкую, мелодию, которая бы так ровно и плавно дышала. Он стремился к этому упорно и неустанно и надеялся, что когда-нибудь это ему удастся. Он нежно любил музыку Беллини еще и за то, что задушевная мелодия, столь характерная для маэстро, так неотделимо сливается со смыслом и с настроением, и с ритмом текста оперного либретто, и еще за то, что он чувствовал в музыке маэстро Беллини родственное ему самому стремление к правдивому и глубоко насыщенному выражению человеческих чувств и переживаний. И еще за многое-многое он любил музыку маэстро Беллини, и она была для него всегда волнующей и увлекательной, и он всегда слушал ее с радостным сердцебиением.








