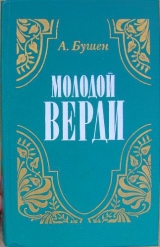
Текст книги "Молодой Верди. Рождение оперы"
Автор книги: Александра Бушен
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 24 страниц)
– Начинаем, начинаем! – Он захлопал в ладоши. – Не занятых в первой картине прошу покинуть сценическую площадку! Живо! Живо! Начинаем! Начинаем!
Как раз в эту минуту в ложу первого яруса вошел Пазетти. Мерелли велел пропустить его при условии, однако, чтобы инженер – любитель музыки не садился у барьера и не показывался в зале. Посторонним было строжайше запрещено присутствовать на репетиции. Об этом существовал особый приказ дирекции. Пазетти опустился на диван в глубине ложи. Он очень удивился, увидев, что в партере много народа. Входившие все дальше отодвигали серый холст, которым были покрыты кресла и, стараясь не шуметь, спокойно рассаживались. Пазетти недоумевал. Откуда публика? И кто эти люди? Ему хотелось разглядеть лица стоявших и сидевших в партере, но в театре было темно и разглядеть что-либо из глубины ложи было невозможно, а приблизиться к барьеру он не решался. Он навел лорнет на сцену.
Действие должно было происходить в храме. Пазетти нашел декорации весьма удачными. На сцене была толпа народа. «Очень много действующих лиц», – подумал Пазетти. Актеры выступали незагримированными и в обычной своей одежде. Театральные костюмы еще не были готовы. Они должны были, поспеть только к генеральной. Пазетти жалел об этом. Сегодняшнее зрелище ему мало нравилось. Яркий свет ламп, усиленных отражателями из жести, сусального золота и слюды, выдавал и подчеркивал убожество нарядов женщин и мужчин – хористок и хористов.
Пазетти презрительно отвернулся от сцены, но потом он подумал, что присутствует на рядовой рабочей репетиции, куда доступа никому нет, и тогда он нашел своеобразную прелесть как в бедности костюмов, так и в неестественной бледности актерских лиц. Он снова стал смотреть на сцену и тут увидел композитора.
Верди сидел на стуле у первой кулисы слева. Пазетти был очень рад, что нашел композитора. Инженер подумал, что теперь никто не помешает ему наблюдать за тем, как Верди поведет себя на репетиции. Это очень, очень приятно. Теперь Пазетти сможет рассказывать о композиторе на репетиции обстоятельно и со всеми подробностями. Как очевидец. Отличный материал для разговора в обществе. Публика очень падка на малейшие детали из жизни знаменитых людей. Правда, Верди этот еще ничем не знаменит, но почем знать? Может быть, через два-три дня о нем заговорит весь город.
Действие на сцене началось. Сквозь стекла лорнета Пазетти увидел среди хористов обоих хормейстеров – Каттанео и Гранателли. Первый руководил хором женщин, второй – хором мужчин. И синьоры Паницца и Байетти тоже были на сцене. Они смешались с толпой и направляли ее движения, а там, где в этом возникала необходимость, поддерживали ритм и отбивали такт.
Пазетти удивился. Такая заботливость в разучивании и постановке хоровых партий была необычной.
Хор вошел в действие решительно и с увлечением. Толпа двигалась уверенно и самостоятельно. Пазетти не знал, что Басси все утро репетировал мизансцену. Звучность хоров была отличной. «Торжественно! Увлекательно!» – заметил про себя Пазетти.
Однако композитор был все еще недоволен. Как только началось действие, он вскочил со стула и больше на него не садился. Он все время что-то объяснял, сердился, кричал, требовал и добивался небывалых эффектов. Он был все время в движении. Его сухая черная фигура с развевающимися фалдами неутомимо носилась по сцене. Он ухитрялся всюду поспевать. Пазетти казалось, что он видит Верди одновременно в нескольких местах. Композитор весь превратился в слух. Казалось, что он во власти каких-то особых, мало кому доступных слуховых откровений. Он вылавливал малейшие неточности ритмические и интонационные, вылавливал их у отдельных хористов, у тех, которые стояли на первом плане, и у тех, которые двигались в глубине сцены. Он подбегал к каждому в отдельности и поправлял не совсем точно интонированную ноту, не совсем ясно выговоренный слог. Он хлопал в ладоши и останавливал оркестр, заставлял повторять отдельные фразы, отдельные слова, отдельные ноты. Когда он выскакивал на авансцену и поворачивался лицом к Каваллини, Пазетти рассматривал его в лорнет. Композитор за последнее время похудел так, что фигурой своей напоминал Паганини. Пот лил с него градом, он был мертвенно бледен и казался измученным.
Пазетти пожимал плечами. Он видел маэстро Россини во время репетиций и маэстро Беллини, и маэстро Доницетти, и никто из них так не безумствовал и не изводил себя, как этот Верди.
В ложу к Пазетти бесшумно вошел Мерелли. Стал у барьера и смотрел на сцену молча. Потом присел на диван рядом с Пазетти.
– Красочное зрелище, – сказал Мерелли, – как вам кажется?
– А где костюмы? – спросил Пазетти.
Мерелли вздохнул.
– Подбираем. Будут и костюмы. – И, помолчав, спросил: – А что вы скажете о музыке?
На сцену в это время вбегали с разных сторон отдельные группы действующих лиц: женщины, девушки, старики, воины. Появился и вождь народа, первосвященник Захария – Деривис.
– О музыке? – переспросил Пазетти. Он не любил высказываться первым. – Ну, что ж! Грубоватая музыка. Необычная музыка. Вот что я скажу. Но к этому прибавлю: впечатляющая музыка! Ритмически чеканная. И зажигательная. Вот это, пожалуй, самое точное определение: зажигательная музыка! Такая, знаете, как ракета!
– Как ракета! – повторил Мерелли и засмеялся. – Остро сказано. Метко. Как ракета! – И опять засмеялся.
Композитор на сцене выходил из себя.
– Вяло, вяло! – кричал он. – Давайте вперед! Вперед!
И смотрел на Каваллини, и отбивал такт ногой, и, высоко подняв обе руки, щелкал пальцами, как кастаньетами.
– Все-таки он молодец, этот Верди, – сказал Пазетти. – Что-то в нем есть. Впрочем, еще не известно что. – И Пазетти первый засмеялся своей шутке.
– Далеко пойдет, – буркнул Мерелли.
– Кто? Верди? В самом деле? Вы так думаете?
Мерелли не ответил.
На сцене появился Навуходоносор – Ронкони. Он вышел пешком. Это было в порядке вещей: лошадь вводили в действие, начиная с генеральной. Захария преградил Навуходоносору вход в храм.
– Назад, безумец!
– Браво! – сказал Пазетти. Мерелли предостерегающе приложил палец к губам.
Они были очень величественны – Ронкони и Деривис. Они были отличными певцами-актерами. Они уже целиком вошли в роли. Они казались подлинными библейскими героями. Даже сейчас. Без грима. В обыкновенном городском платье. В сюртуках и узких брюках со штрипками.
И вдруг все остановилось. На сцену, спотыкаясь и задевая за декорации, выбежал Басси.
– Стойте! Стойте! – Он, казалось, обезумел. – Свет! Свет! – Он вопил неузнаваемым, истошным голосом: – Убийцы! Зарезали! – И грозил кому-то кулаками, и рвал на себе волосы, и посылал страшные проклятия куда-то наверх, на осветительные мостики. – Еще раз выход Навуходоносора! Еще раз! Навуходоносор, входите снова! Повторяем!
– В чем дело? – спросил Ронкони. Он был очень недоволен и не двигался с места.
– Свет! – закричал Мерелли из ложи. – Что за черт! Заснули они там, что ли?
И тогда сверху, с невидимого осветительного мостика, появился и прорезал полумрак заднего плана сцены яркий белый луч. Он поблуждал немного но сценическому пространству, задел сначала колонну, затем группу женщин, поблуждал еще и наконец, выхватив из общей сценической картины одного Ронкони, остановился. Свет был до чрезвычайности яркий и ослепительно белый.
– Еще раз выход Навуходоносора! – кричал Басси. – Без музыки!
Выход повторили несколько раз. Ронкони появлялся у входа в храм, и белый луч безошибочно охватывал его фигуру.
– Браво, браво! – приговаривал Пазетти. – Эффектно донельзя!
Действие на сцене возобновилось. Басси, вытирая шею и лицо платком, скрылся за кулисы.
Снова на авансцене появился композитор. Предстоял трудный ансамбль, секстет солистов с хором.
– Этот луч, – сказал Пазетти, – великолепно! Эффектно в высшей, степени!
Мерелли самодовольно улыбался.
– Изобретение сэра Томаса Друммонда, – сказал он, – знаменитого инженера и моего покойного друга.
Последнее Мерелли приврал. Он никогда не встречался с сэром Томасом Друммондом.
– Сэр Томас, – продолжал Мерелли, – изобрел лампу для маяка, я же применил эту лампу на сцене. И вот, пожалуйста: результаты перед вами!
И Мерелли широким театральным жестом показал на сцену. Он говорил подчеркнуто медленно, невозмутимо и с английским акцентом. Возможно, что в эту минуту он вообразил себя англичанином и изобретателем.
Пазетти, посмеиваясь, смотрел на импресарио.
– Браво, – сказал он, – эффектно донельзя. Как это у вас получается?
Это было совсем неожиданно. Пазетти узнал – и был этим ошеломлен, – что чудесный белый луч получается в результате накаливания извести пламенем, состоящим из смеси водорода с кислородом. Так объяснял происхождение луча Мерелли и говорил об этом, как об явлении самом обыкновенном. А Пазетти смотрел на него недоумевая, как на сумасшедшего, и повторял скороговоркой:
– Помилуй бог, помилуй бог, что вы такое говорите! Смесь водорода и кислорода – это же гремучий газ!
Мерелли не спорил и не отрицал очевидности:
– Да, да, конечно. Такая смесь – это гремучий газ. Но в данном случае это совсем не страшно.
Импресарио старался успокоить Пазетти. Инженер – любитель музыки изменился в лице. В ложе было полутемно, но Мерелли заметил это.
– Кислород и водород подаются из двух самостоятельных баллонов, – говорил Мерелли, – идут по отдельным трубкам и соединяются только перед самым выходом из горелки. Так что ничего опасного в этом соединении нет. К тому же осветитель, орудующий этим светом, человек пожилой и опытный, один из самых опытных осветителей театра. Я доверяю, как самому себе, – сказал импресарио.
– Но, черт возьми, – взвизгнул Пазетти, – как же он управляется с таким опасным аппаратом, этот ваш хваленый осветитель?
И тут Пазетти узнал, что осветитель ходит по мостикам и машинным галереям и аппарат со светом укреплен у него на груди, а баллоны с водородом и кислородом подвешены сзади, у него за спиной.
Трудно представить себе, – говорил Мерелли, – до чего это гениально, остроумно, просто и портативно. Мой осветитель поворачивается направо и налево, и движениями корпуса он направляет луч света на определенную часть сцены или на одного определенного актера – вы сами видели сейчас, как это делается, а руками – они у него свободны – он регулирует положение аппарата и работу горелки.
– Черт знает что! – закричал Пазетти. Он был так напуган, что забыл, где находится и заговорил громким голосом.
– Тише, тише! Что вы! – остановил его Мерелли.
– У вас по мостикам ходит живой взрывчатый снаряд, – шипел Пазетти. – Да мы все в любой момент можем взлететь на воздух. Понимаете вы это или нет?
– Пустяки, пустяки, что вы! – отмахивался Мерелли. – Никакой опасности нет, уверяю вас. У меня очень опытный и осторожный осветитель.
– При чем тут осторожность? – громким шепотом говорил Пазетти, – Осторожность ни при чем. Он же человек, ваш осветитель, мало ли что с ним может случиться – ну, закружилась голова или какое-нибудь другое недомогание, он может споткнуться, упасть, что тогда?
– Ну, зачем же ему падать? – Мерелли пожимал плечами. Теперь он жалел о том, что похвастался Пазетти новым осветительным прибором. «Вот трус!» – думал импресарио.
Пазетти никак не мог успокоиться. Он был не на шутку перепуган.
– Это недопустимо, – повторял он, – недопустимо! В это должна вмешаться полиция!
– Полиция? – с явной насмешкой протянул Мерелли. – Если хотите знать, то сам начальник полиции, наш милейший кавалер Торрезани-Ланцфельд, выразил мне благодарность за применение этого аппарата на сцене.
– Ну уж не знаю, – сказал Пазетти, – не знаю. Позволю себе усомниться в этом.
Но в том, как он сказал это, уже не чувствовалось прежней уверенности. Достаточно было одного упоминания имени Торрезани, чтобы изменить точку зрения Пазетти на любой предмет. Мерелли отлично понял это.
– Я получил благодарность, – повторил он. И для большего эффекта прибавил: – Клянусь честью!
– Ну, что ж, – сказал Пазетти, – рад за вас. – И, помолчав, добавил: – Вы эту благодарность безусловно заслужили.
На сцене репетировали финал первого действия. Пазетти посмотрел в партер. Там было заметно движение. Слушатели перешептывались, громко вздыхали. Люди в партере были, по-видимому, сильно взволнованы тем, что происходило на сцене. Пазетти наклонился к Мерелли.
– Кто это здесь?
– Не спрашивайте! – импресарио махнул рукой. – Беда с этим народом! Здесь все. Все наши служащие. Все цеха. Все мастерские.
– Неужели? – Пазетти оживился. – Это разрешается?
– Нет, – сказал импресарио, – это запрещено. Но они сошли с ума от этой музыки. Бросают работу и бегут слушать. Все! Портнихи и сапожники, столяры и пиротехники, парикмахеры и ламповщики, кружевницы и билетеры, машинисты и цветочницы. Всех не перечислишь. Даже чистильщики сапог, даже жестянщики! Никого не удержишь в мастерской. Приходится с этим мириться.
– Не пробовали штрафовать? – спросил Пазетти.
Мерелли тихо свистнул.
– Дорогой мой, нельзя же оштрафовать весь персонал театра. Тут не одна сотня людей.
– Ну конечно, – сказал Пазетти.
Они замолчали. Пазетти слушал очень внимательно, недоумевал и почти против воли наслаждался. Он находил музыку неизящной и подпадал под ее чары. «Что за черт» – думал он.
И вдруг под самым барьером ложи какой-то восторженный юношеский голос сказал:
– Ах, ах, ах, ну до чего же это хорошо!
И другой, не такой молодой, но не менее взволнованный голос ответил:
– Дьявольски здорово!
И оба радостно засмеялись.
– Они с ума сошли от этой музыки, – сказал Мерелли.
– Вы знаете, они правы, – сказал Пазетти, – в ней что-то есть!
На сцене повторяли финал первого действия. Композитор был недоволен.
– Не получается, не получается! – говорил он Каваллини. – Тянут, тянут! – Каваллини был терпелив и неутомим. Он говорил оркестру:
– Еще раз, синьоры! Прошу! – И поднимал руку.
И опять солисты подходили к рампе, и опять хор живописно группировался за ними, и опять начиналась музыка. Эту музыку повторяли еще и еще. Повторяли до тех пор, пока финал не пронесся вихрем, громовым раскатом, пока он не стал лавиной нарастающей звучности.
И только тогда Каваллини опустил руку и спросил: «Теперь хорошо, маэстро?» И все с волнением повернулись к композитору и ждали, что он скажет.
А композитор, мельком взглянув на дирижера, кивнул головой – хорошо или плохо, понимай, как знаешь – и промолчал. Маэстро Верди был скуп на похвалы. Это заметили многие. Но Каваллини не был ни честолюбив, ни обидчив. Он улыбнулся и сказал оркестру:
– Маэстро доволен. Благодарю вас, синьоры!
Действие на сцене кончилось. Актеры сразу разошлись по своим уборным. Всем хотелось отдохнуть. Репетиция была утомительной. Кое-кто ворчал: говорили, что композитор не в меру требователен.
– Требователен не по рангу, – говорили некоторые оркестранты. Но таких недовольных было немного. Большая часть исполнителей и в хоре и в оркестре воспринимала музыку новой оперы с энтузиазмом и готова была репетировать столько, сколько композитор найдет это нужным.
– Антракт, – сказал Мерелли.
На сцене шел стук и треск. Маневрировала целая армия рабочих. Убирали одни декорации, ставили другие.
– Идемте, – сказал Мерелли. Они перешли в гостиную позади ложи. Импресарио закурил сигару. Пазетти молчал.
И тут в гостиную вошел Тривульци. Он вошел с опаской, извиваясь и как-то боком.
– А, – сказал он, улыбаясь не без злорадства. – А, синьор импресарио, вот вы где! А вас ищут, ищут… Там, знаете ли, скандал!
Он изогнулся вперед и приглашающим жестом указывал обеими руками в сторону двери. И стал рассказывать со множеством отступлений и не относящихся к делу подробностей, как синьора Беллинцаги увидела костюмы («костюмчики» – подчеркнуто насмешливо говорил Тривульци), которые ей подобрали в костюмерной мастерской для роли Фенены. И как увидев эти «костюмчики», она «вскрикнула диким голосом и – хлоп, знаете ли, в обморок». А придя в себя, содрала «костюмчики» с вешалки, бросила их на пол и стала рвать их и топтать ногами. «Месила их, как тесто!» – сказал Тривульци. И когда заведующая костюмерной мастерской, почтенная синьора Арати, попыталась было спасти то, что осталось от трудов лучших ее мастериц, «эта ведьма Беллинцаги» сгребла, знаете ли, с пола всю кучу шелка, тюля и блесток и насильно напялила все это на голову синьоре Арати. И вдобавок еще прихватила с туалета фарфоровую вазу и банку с румянами – предметы тяжелые и легко бьющиеся – и запустила их бедной синьоре Арати в лицо. Страшное дело, какая ведьма!
Но бог, который видит все, бог, мол, не без милости, он сделал так, что эти тяжелые и опасные снаряды, пущенные преступной рукой синьоры Беллинцаги, не изуродовали, а только слегка задели лицо синьоры Арати. Но все же сейчас несчастная женщина лежит с окровавленной щекой и не может встать, и кровь капает и капает на костюмы Фенены, вернее, на то, что от них осталось, а Беллинцаги, эта ведьма, бьется в истерике, да так, знаете ли, бьется, что четыре костюмерши не могут с ней справиться, и она, того гляди, вырвется у них из рук. И тогда… – Тривульци схватился за голову.
Мерелли и Пазетти молчали. Тривульци ждал.
– Ужасно, ужасно! – счел долгом сказать Пазетти.
Мерелли пожал плечами. Тривульци поднял кверху сухой и длинный указательный палец. Палец слегка дрожал.
– Скандал! – сказал он мрачно. И повторил еще мрачнее, четко скандируя каждый слог – Скандал! Эта Беллинцаги вопит на весь театр. Я, говорит, не виновата в том, что я красавица. Меня, говорит, хотят нарядить в тряпье, чтобы я, говорит, не затмила Стреппони. Но, говорит, этого не будет. Не на таковскую напали. Я, говорит, все, все знаю…
Тривульци закашлялся, точно поперхнулся невыговоренным словом, и сделал паузу, как опытный актер, желающий произвести особо сильное впечатление. Выражение лица у него было двойственное. Рот слащаво улыбался, глаза смотрели пытливо и злобно. Можно было подумать, что он знает нечто, никому не известное, но весьма существенное, нечто, от чего зависит покой и благополучие многих людей и в первую очередь импресарио.
Тривульци замолчал, но продолжал стоять с поднятым пальцем. Палец слегка дрожал.
– Ах, ужасно, ужасно! – счел долгом еще раз повторить Пазетти. И прибавил сочувственно: – С ума можно сойти!
Мерелли, не спеша, вынул изо рта сигару и зевнул.
– Ну, ну, не так это все страшно. В нашем деле и не то бывает. Мне не привыкать. – И он передернул плечами, как бы сбрасывая с них воображаемую тяжесть. – Ах-ха-ха, – он опять зевнул и повернулся к Тривульци. – Опустите-ка палец, любезный. И скажите там, что я сейчас буду.
Тривульци попятился к двери, раскланиваясь до самой земли. Он склонялся так низко, что длинные прямые космы волос касались ковра, которым был устлан пол гостиной. Поклонившись, он выпрямлялся и вытягивался во весь рост. Затем снова мгновенно сламывался пополам не хуже любого акробата, и волосы его опять касались ковра, и он, пятясь спиной, отступал к выходу.
Он скрылся как-то неожиданно, не закрыв за собой двери. Из коридора потянуло холодом.
– Надо идти, – сказал Мерелли. Он казался равнодушным, но в голосе его слышалась досада. – А вы, друг мой, переходите в ложу. Сейчас начнем второе действие. Кстати сказать, великолепное действие. Первая картина почти целиком посвящена Абигайль. Синьора Стреппони бесподобна. Драматическая артистка необычайного обаяния. И неподражаемая певица. – Мерелли явно рисовался искусно наигранной непринужденностью своих суждений о Джузеппине Стреппони. Это был старый, хорошо испытанный прием. Этим он вводил в заблуждение людей наивных и легковерных. Пазетти, конечно, не принадлежал к их числу. Но и в его присутствии Мерелли считал нужным разыгрывать принятую им на себя раз навсегда роль: роль импресарио, добродушного и бескорыстного почитателя таланта Джузеппины Стреппони. И он прибавил нарочито небрежно:
– Опера и написана, между нами говоря, для Джузеппины Стреппони.
– И для Ронкони, – сказал Пазетти. Ему было приятно щегольнуть своей осведомленностью.
– Да, и для Ронкони, – нехотя согласился Мерелли. Он лениво поднялся с дивана. – Иду, – сказал он. – Ничего не поделаешь! Надо утихомирить эту Беллинцаги. Ей сейчас выступать. А вы, друг мой, пройдите в ложу и, ради бога, не показывайтесь в фойе, прошу вас.
Пазетти вытащил из жилетного кармана часы, большие золотые часы с боем. На тонкой цепочке висели брелоки: золотая туфелька и странной формы бирюзовый амулет. Пазетти надавил пальцем пружину. Крышка, украшенная жемчугом, щелкнув, отскочила. Часы заиграли; звуки были нежные, тихо звенящие, точно кто-то осторожно постукивал хрустальной палочкой по стенке бокала. Пазетти осторожно разглядывал циферблат.
– К сожалению, – сказал он, – я не смогу остаться. Меня ждут у графини Маффеи.
Это была выдумка. У графини Маффеи Пазетти не ждали. Но он счел эту выдумку самым благовидным предлогом, чтобы уйти из театра.
– Пусть ждут, – сказал Мерелли, – Оставайтесь! Вы не пожалеете об этом, уверяю вас.
– Не могу, – сказал Пазетти, – я обещал.
– В таком случае, ничего не поделаешь, – сказал Мерелли. – Не смею вас задерживать. Возьмите, по крайней мере, мою карету. Кучер ждет под портиком. Дождь льет, как из ведра. Ничего не стоит схватить насморк.
– Благодарю вас, – сказал Пазетти, – надеюсь уберечься.
Импресарио, посвистывая, ушел за кулисы.
На сцене уже установили декорации ко второму действию. Пазетти мельком взглянул на них, проходя по коридору мимо двери, открытой в зал. Он торопился. Ему не терпелось удивить друзей и знакомых рассказом о том, что он уже видел новую оперу, оперу, о которой в городе так много говорят, но о которой никто толком ничего не знает. В кафе идти не хотелось. В такую погоду неизвестно кого там встретишь. И он решил ехать к графине Маффеи, хотя полчаса назад не думал об этом. Он был вхож в дом Маффеи, бывал там не раз и был уверен, что в этот час (было начало десятого) он застанет у Клары если не многочисленное, то уж несомненно избранное общество. И он заранее предвкушал удовольствие всласть порисоваться перед этим обществом. Он наметил себе определенный план действий. Сначала он постарается всех без исключения заинтриговать, а затем, когда всеобщее любопытство будет возбуждено до крайности, он небрежно, как бы невзначай, скажет, что был сейчас в Ла Скала на репетиции «Навуходоносора». Ха-ха! Вот это ловко! То обстоятельство, что он видел и слышал только первое действие оперы, нимало его не смущало.
Он вышел из театра на улицу. Было темно, очень ветрено и лил дождь. Карета Мерелли ждала под портиком у главного подъезда. Услужливый швейцар распахнул перед Пазетти лакированную дверцу. Кучер, дремавший на козлах, приосанился. Внутри карета была обита мягкой коричневой кожей. Пахло духами и дорогими сигарами. «Ай да Мерелли, ай да импресарио!»
Пазетти велел везти себя на улицу Трех Монастырей. Там жила графиня Маффеи. Лошади побежали резвой рысью. Копыта их четко отбивали дробь по мокрой мостовой. Пазетти размечтался. Эх, хорошо бы и ему завести такую карету! Он прикидывал в уме, во что может обойтись покупка лошадей и экипажа, и мысленно уже выплачивал жалованье кучеру. Это было очень приятно. Пазетти развалился на сиденье: он вообразил себя собственником. Однако он скоро понял тщету и суетность своих мечтаний. Покупка кареты и лошадей ему не по средствам. И тем более содержание кучера. Пазетти был искренне огорчен этим. Он шумно вздыхал и мучительно завидовал Мерелли.
Впрочем, он скоро развеселился. Не в его характере было предаваться печали. Он подумал о том, что импресарио придется сегодня основательно раскошелиться на костюмы, чтобы «утихомирить» эту Беллинцаги. Он вспомнил Тривульци, его мимику, его слова: «Страшное дело, какая ведьма!» Может быть, импресарио придется даже выложить на это деньги из собственного кармана. Ха-ха! Из собственного кармана! Вот это было бы здорово! Так ему и надо, мошеннику!
В гостиной Клары Маффеи пили чай. Так взволновавший всех разговор о Россини прекратился.
Босси восторгался:
– Божественный нектар! – говорил он. – Такого чая, как у вас, дорогая графиня, нет нигде в мире.
Клара поблагодарила и ответила, что заваривает чай так, как это делают в России.
– Меня научил Урколе Дандоло, – сказала она, – он жил в Петербурге и привез оттуда рецепт заварки.
Босси подошел к столику, за которым сидела Клара.
– Мне очень совестно, – сказал он и протянул пустую чашку.
– Пожалуйста, пожалуйста, – сказала Клара, – пейте еще, прошу вас. Надеюсь, чай не вызовет у вас бессонницы. Синьор Дандоло рассказывал мне, что купцы в России пьют до десяти чашек.
– Невероятно, – сказал Босси и засмеялся.
В противоположном конце гостиной донна Каролина расспрашивала доктора Алипранди. Она хотела знать, не боится ли доктор сойти с ума. Ведь он проводит целые дни в обществе умалишенных. Нет, доктор не боялся; он говорил, что среди его пациентов есть люди очень даровитые и интересные, интереснее многих, с кем приходится встречаться в салонах, сказал Алипранди. И он сам настойчивым образом приглашал донну Каролину посетить его лечебницу. Донна Каролина с притворным ужасом отказывалась от этого и, смеясь, говорила:
– Боюсь, боюсь. А вдруг меня найдут такой интересной, что оттуда не выпустят.
– Ну, что ж, это вполне возможно, – отвечал Алипранди, – почти каждый человек может быть объектом для наблюдений алиениста.
Все это, конечно, говорилось в самом шутливом тоне.
Но вдруг кто-то, кажется, Босси, и как раз по поводу того, что каждый человек может быть объектом для наблюдений алиениста, произнес имя Россини. Босси сказал, что доктор-алиенист всегда склонен видеть болезненные изменения в каждом человеке, и то, что синьор доктор Алипранди говорил о маэстро Россини, представляется ему таким примером наблюдений алиениста. И что если бы у маэстро Россини было бы такое болезненное несоответствие между характером и дарованием, то это болезненное несоответствие так или иначе сказалось бы уже с детства. А все знают, что маэстро в детстве и ранней молодости отличался здоровьем поистине богатырским. На это Алипранди ответил, что мальчик Джоаккино, будучи действительно ребенком здоровым и хорошо развитым, отличался необыкновенно обостренной, болезненной впечатлительностью, «гипертрофированной реакцией на все окружающее». Так определил эту впечатлительность Алипранди.
Это было неожиданностью. Никто этого не подозревал. Маэстро привыкли считать жизнерадостным до легкомыслия, беспечным и всегда готовым все значительное и горестное превращать в шутку.
– Неужели он на самом деле так болезненно впечатлителен? – спросила донна Каролина. – Что-то не верится.
– Да, – сказал Алипранди, – я знаю это совершенно точно. И эта до болезненности обостренная впечатлительность, эта гипертрофированная, мучительная для него самого реакция на все окружающее и является, по моему глубочайшему убеждению, основным свойством характера маэстро. Отсюда проистекает многое, что на первый взгляд кажется непонятным и в творчестве, и в жизни, и в поступках маэстро. Отсюда то упорство, с которым маэстро всю жизнь оберегает себя от впечатлений тягостных и страшных, и просто неприятных; отсюда та виртуозно выработанная маска-панцирь, под которой скрыта болезненная уязвимость маэстро – маска беззаботного весельчака, остроумного скептика, иногда даже маска циника.
– Никогда в жизни не могла бы представить себе такого про маэстро Россини, – сказала донна Каролина.
– Как все это непонятно, – сказала Клара, – и сложно, и страшно.
– То, что вы говорите, доктор, наводит на размышления, – озабоченно сказал Босси. И попытался сослаться на законы наследственности, но никак не мог ясно выразить свою мысль. Алипранди пришел ему на помощь. – Не будем отвлекаться в неисследованные дебри, – сказал он. – Наследственность не при чем. Родители маэстро были люди вполне здоровые и уравновешенные. – И напомнил, что отец композитора, городской трубач, человек малограмотный, был убежденный республиканец и отважный патриот, принимал участие в революционном движении и не раз сиживал в тюрьмах. – А вот Джоаккино – тот с раннего детства воспринимал революционные события с непреодолимым ужасом и нескрываемым отвращением.
– А что говорил на это отец? – спросила донна Каролина. – Мальчишка был, очевидно, отъявленным трусом.
– Не только это, – сказал Алипранди, – он был смышлен и сообразителен не по годам, маленький Джоаккино, и он воспринимал революционные события как бедствие для себя и семьи, как помеху, лишающую его и его семью куска хлеба и уверенности в завтрашнем дне.
– Каков эгоист! – засмеялась донна Каролина.
– Это ужасно! – сказала Клара. – Не смешно! Ужасно!
– Ничего не поделаешь! – Алипранди говорил тоном извинения. Он жалел, что так огорчил Клару. – Ничего не поделаешь! Такова особенность характера маэстро. Гипертрофированная впечатлительность породила в нем величайший эгоизм. Ничего не поделаешь! Таким он был в детстве, таким и остался на всю жизнь.
– Хорош, нечего сказать! – протянула донна Каролина. – Но это действительно так. Я припоминаю теперь, что слышала о том, как он во время апрельских событий 15-го года в Болонье написал музыку к «Гимну Независимости». Это рассказывал мой отец. Я была тогда совсем маленькой девочкой, но очень хорошо помню, как он рассказывал об этом. Маэстро написал музыку к гимну против своей воли, написал только из страха перед болонскими патриотами, которые просили его об этом. Маэстро было тогда двадцать три года, и имя его гремело по всей Европе. Он не посмел отказать болонцам, этим бесстрашным, самоотверженным людям – они стали бы презирать его за это. Но впоследствии, когда вернулись австрийцы и все было подавлено, а он успел бежать, маэстро чуть ли не отрекся от того, что писал этот гимн, и говорил об этом, посмеиваясь и иронизируя. Говорил, что слово «независимость»– indipendenza – чудовищно и невозможно для пения.
– Да, да, – сказал Алипранди, – уже и тогда можно было предположить, что не в общественных событиях найдет маэстро стимул для творчества.
– Не понимаю, – сказала донна Каролина, – почему я не могу назвать маэстро плохим патриотом и почему, когда я рискнула это сделать, на меня напали? – она украдкой поглядывала на синьора Мартини, как бы вызывая его на разговор. Но он сидел неподвижно, с котенком на руках, низко опустив голову на грудь, и, казалось, ничего не слышал.
– Это же странно все-таки, – возмущалась донна Каролина. – Вот композитор, который вышел из народа, из самых что ни на есть народных низов, жил в бедности, видел и ощущал угнетение и унижение своей родины. И этот великий композитор не может уловить и запечатлеть в своем творчестве тех чувств и стремлений, которыми живет его страна и живет его народ. Почему это так?








