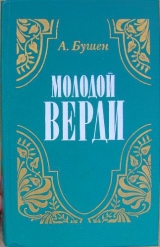
Текст книги "Молодой Верди. Рождение оперы"
Автор книги: Александра Бушен
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 24 страниц)
Молодой Верди

Рождение оперы

Светлой памяти вдохновенного музыканта пианиста Александра Каменского
ВМЕСТО ПРОЛОГА
I
Посреди сада был фонтан. Бронзовый тритон, надув щеки, трубил в раковину. Обычно из раковины била вверх сильная струя воды. Но сейчас фонтан бездействовал. Вода вытекала из раковины редкими каплями. Капли медленно сползали вниз на плечи тритона. Тритон был мокрым и глянцевитым. В бассейне стояла теплая желтоватая вода. На ее поверхности плавал брошенный цветок. По каменной балюстраде разгуливали сытые голуби.
Был полдень. Солнце стояло в зените. Раскаленный воздух гудел. От деревни до городка было семь километров. Джузеппе прошел их пешком. Ему было очень жарко. Он вытирал лицо рукавом рубашки.
Слева от фонтана была группа деревьев. Там была тень. В тени стояла скамейка. На скамейке Джузеппе увидал нечто необыкновенное, диковинное. Сначала мальчику показалось, что это невиданное им растение, какой-то небывалых размеров золотисто-желтый цветок. Потом он увидел, что это не цветок, и подумал, что, по всей вероятности, это распущенные мотки шелковой пряжи. Наконец он решил, что это скорее всего драгоценный плащ или мантия, сотканная из золотых ниток. Он подошел ближе. И очень удивился. Под чудесным золотым плащом кто-то прятался. Он различил край светло-серого платья и две маленькие ножки в белых чулках и черных туфельках. Туфельки аккуратно стояли рядышком на песке аллеи. Он подошел еще ближе. Гравий зашуршал у него под ногами. Золотая мантия зашевелилась. Появились две маленькие ручки. Они медленно раздвинули золотые шелковые пряди. Выглянуло лицо девочки.
От неожиданности Джузеппе растерялся. Девочка смотрела на него удивленно и вопросительно. У нее было очень нежное розовое личико, а на носу много веснушек.
– Что тебе надо, мальчик?
Джузеппе понял: то, что он принял за мантию, – это волосы девочки. Он был в недоумении. Он не подозревал, что у девочек могут быть такие золотые волосы.
– Мальчик, что тебе надо?
Он понял, что вопрос обращен к нему.
– Я пришел к синьору Антонио.
– А что ты хочешь ему сказать?
Джузеппе никогда не видел таких волос. Ни у одной из девчонок в деревне таких не было.
Девочка на скамейке с любопытством рассматривала Джузеппе. Какой странный мальчик! Может быть, он плохо слышит? Девочка заговорила громче. У нее был высокий тонкий голосок, звонкий, как колокольчик.
– Что ты хочешь сказать синьору Антонио? Не бойся. Можешь сказать мне. Он мой папа. Я его старшая дочь.
Джузеппе медленно снял свою соломенную шляпу: надо быть вежливым.
– Я его новый служащий.
Девочка вздохнула.
– Ты пришел не с той стороны. Надо обойти кругом. В лавку не ходят через сад.
Она немного подумала.
– Придется мне проводить тебя. Хотя я не смею уходить отсюда, пока мама не позовет меня. Я сушу волосы. Видишь, они еще мокрые. Мама не позволяет мне уходить отсюда, пока они не высохнут. Это очень скучно. Я иногда засыпаю, сидя здесь. И сегодня тоже я, кажется, немножечко спала. Ты меня разбудил.
Она встала со скамейки. Они вышли из-под деревьев. На дорожку. На солнце.
Джузеппе шел сзади. Он внимательно разглядывал девочку. На голове у нее была широкополая шляпа из тонкой соломки. Дна у этой шляпы не было, только поля. Они окружали головку девочки точно нимб. Поверх этих полей были переброшены золотые волосы. Они были такими длинными, что сзади свисали ниже талии, а спереди закрывали девочке лицо. Девочка держала их обеими руками, раздвинув их, как полог, но иногда тончайшая прядь падала ей на глаза, и тогда – так как руки у нее были заняты – она складывала губы трубочкой и сдувала легкие волосики в сторону.
Джузеппе очень хотелось дотронуться до этих необыкновенных золотых волос. Он живо сообразил: можно это сделать так, что девочка не заметит. Он быстро шагнул вперед и протянул руку.
Девочка споткнулась о камешек и обернулась. Джузеппе остался с протянутой рукой. Девочка испуганно смотрела на него.
– Они настоящие? – спросил Джузеппе.
– Кто «они»?
Джузеппе осторожно, кончиками пальцев, коснулся шелковистых золотых прядей.
– Какой ты смешной, мальчик. Конечно, настоящие. Разве ты никогда не видел таких? – Она подумала. – Правда, я слышала, как мама говорила, что они «необыкновенные». Мама никому не доверяет и моет их сама – ромашкой, чтобы они не потемнели. – Она помолчала, а потом прибавила с виноватой улыбкой: – Я иногда на них сержусь… Летом с ними так жарко!
Они подошли к дому.
– Подожди здесь, – сказала девочка.
Она стала подниматься по каменным ступеням террасы. Джузеппе остался стоять на дорожке.
В эту минуту из дома на террасу с гиканьем выскочил мальчишка. У него были полные круглые щеки, как у тритона, который трубил в раковину. Мальчик играл один в какую-то увлекательную и шумную игру. Размахивая руками, он выбежал в сад, понесся к фонтану, спугнул голубей, гулявших по краям бассейна, галопом помчался обратно к дому, увидел сестру, с диким воинственным кличем схватил ее за волосы и закружился с ней волчком.
– Ванни, Ванни! Пусти, пусти! – кричала девочка.
Чужой мальчик взбежал по каменным ступеням на террасу, схватил Ванни за шиворот и стащил его вниз. Ванни отбивался отчаянно, руками и ногами. Чужой мальчик отпустил его, наградив напоследок легкой затрещиной. Ванни без оглядки добежал до входных дверей. Только там он остановился.
– Ого-го! – закричал он. – Ты кто такой?
– Подойди сюда, я покажу тебе, кто я, – сказал чужой мальчик.
– И подойду, подойду! – кричал Ванни. – Я тебя не боюсь!
– Я жду, – сказал чужой мальчик.
Он заложил руки в карманы и вызывающе смотрел вверх.
– Ну и жди! – кричал Ванни, прыгая на месте. – Я тебя не боюсь!
– Трус! – презрительно сказал чужой мальчик.
На шум вышла синьора Мария. Быстрым движением она пощупала волосы дочери.
– Гита, почему ты здесь? Я тебя еще не звала. У тебя совсем мокрые волосы. Иди сейчас же в сад. Джованни, милый, нельзя бегать в такую жару!
Она поцеловала сына в лоб и вытерла ему лицо платком.
– Мама, – сказала Гита, – здесь какой-то мальчик спрашивает папу.
Синьора Мария посмотрела вниз.
– А, это маленький Верди. Папа хочет ему помочь. Он хороший мальчик. Ванни, покажи ему дорогу. Гита, иди в сад и сиди там, пока я не позову.
В комнате заплакал ребенок. Синьора Мария ушла.
– Ванни, проводи маленького Верди к папе, – сказала Гита.
– Не хочу. Проводи сама. Я должен его отлупить.
– Трус! Посмотрим, кто кого, – сказал Джузеппе.
Ванни убежал в дом.
– Ты тоже любишь драться? – спросила Гита. – Это нехорошо. Я не понимаю, почему все мальчики так любят драться?
Гита вздохнула.
– Ну что ж теперь делать? Мама занята. Слышишь, Тереза плачет! Ванни убежал. Я бы сама тебя проводила, но в галерее очень сыро. Мама не позволит мне идти туда с мокрой головой. Я думаю, ты найдешь дорогу сам, это очень просто. Пройди галерею до конца, потом сверни направо. Увидишь каменную лестницу вниз и много-много бочек. Спускайся смело. Папа, наверное, там.
В галерее было прохладно и полутемно. Пройдя несколько шагов, Джузеппе повернул голову назад.
И остановился. В пролете арки был виден кусок синего неба. Гита стояла на самой высокой ступени каменной лестницы. На солнце. Вся освещенная солнцем. Она снова показалась Джузеппе волшебным золотым цветком.
II
Ставни из узких деревянных планок, выкрашенных в зеленый цвет, были закрыты, и солнце не могло ворваться в комнату потоками света. Но отдельные лучи, тонкие и жгучие, все же проскальзывали в щели между планками. И хотя в комнате было прохладно и полутемно, чувствовалось, что там, за окнами, ослепительно светло и жарко.
Синьор Антонио подошел к шкафу. Это был очень старый шкаф орехового дерева, темно-коричневый, почти черный. Он стоял в доме с незапамятных времен. Неизвестный мастер с любовью потрудился над его отделкой. Дверцы были украшены тончайшей резьбой, гирляндами цветов, листьями, плодами. Кое-где среди причудливой растительности, распустившейся в твердом дереве под умелой рукой художника, выглядывали детские головки, то задумчивые, то шаловливые. Синьор Антонио повернул ключ. На двух полках ровными рядами стояли книги в простых бумажных переплетах, книги торгового дома – журнал и инвентарная книга, книги кассовые – текущих счетов, прибылей и убытков. На верхней полке – книги по торговле винами, на нижней – по торговле колониальными продуктами. Книги были в полном порядке. В любой день их мог затребовать для проверки агент торговой палаты. Антонио Барецци был коммерсантом преуспевающим и честным.
Но сегодня он не взглянул на ряды книг в простых бумажных переплетах При помощи длинной металлической иглы с круглой головкой из красного сургуча он открыл потайной ящик во внутренней стенке шкафа под второй полкой. Там тоже была книга. Синьор Антонио перенес ее на конторку. Книга не походила на бухгалтерскую. Она была переплетена в старинную кордуанскую кожу с глубоким золотым тиснением.
Синьор Антонио отстегнул массивные бронзовые застежки. На пожелтевших страницах несколько поколений Барецци вели запись семейных событий, радостных и скорбных. Здесь правдиво и бесхитростно были изложены происшествия и отмечены события из жизни людей, давно забытых, предков, которых Антонио знал только понаслышке. Здесь был записан и его, синьора Антонио, день рождения, а через несколько страниц и он, оставшись в свою очередь главой семьи, сделал первую собственноручную запись в фамильном журнале – занес в книгу дату смерти своего отца.
Дальнейшие записи касались семейной жизни самого Антонио. Он с радостью заносил на чистые страницы даты появления на свет своих детей. Вот они здесь, все шестеро: Маргерита, Марианна, Джованни, Амалия, Тереза и последний, маленький Деметрио, родившийся десять лет назад. Вот счастливый день свадьбы Маргериты – как недавно это было, всего только четыре года прошло с тех пор! Дальше – рождение первых внуков, детей Маргериты. Синьор Антонио перелистнул страницу. Увы! Недолго пришлось ему радоваться на малюток – их скоро не стало, и он тогда же отметил две траурные даты. Теперь ему оставалось сделать еще одну запись, отметить еще одну дату, такую скорбную, какой в его жизни еще не было. Он тяжело вздохнул. Потом обмакнул перо в чернила и твердой рукой мужественно записал:
«Жертвою страшной и, по всей вероятности, еще не изученной врачами болезни скончалась у меня на руках моя любимая дочь Маргерита, в Милане восемнадцатого июня ровно в полдень, в праздник Тела Господня».
Синьор Антонио отложил перо. В доме было тихо. Даже маленького Деметрио не было слышно. Семья была подавлена горем. Маргерита умерла. Так неожиданно. Четыре дня назад. В Милане. Ровно в полдень.
Синьор Антонио задумался.
В Милане в праздник Тела Господня процессия выходила из собора. Она была величественной и пышной. Она казалась шествием из оперной постановки в театре Ла Скала. Каменные дома обрамляли ее с двух сторон, как театральные кулисы. Собор казался волшебной декорацией, сооружением из туго накрахмаленных кружев.
Здесь, в маленьком провинциальном городке, процессия обычно строилась в церкви Санта Мария дельи Анджели. Дорога вилась среди полей. Малиновый, расшитый золотом балдахин был виден издали. Он плыл над головами идущих, покачиваясь, как лодка на волнах. Под балдахином шел архиепископ, окруженный причтом. А впереди шли маленькие девочки в белых платьях. Среди них была и Гита. Когда процессия проходила мимо дома, синьор Антонио с балкона смотрел на дочь. Гита была необыкновенно серьезна. Она не улыбалась и не оглядывалась по сторонам. Через плечо на шелковой ленте у нее висела корзиночка, наполненная розовыми лепестками и цветами. Надо было усыпать путь, по которому шествовал архиепископ, несущий святые дары. Девочки шли по две в ряд. Они поворачивались одновременно лицом к малиновому балдахину и каждый раз казалось, что из рук у них выпархивают стайки белых и розовых бабочек.
Синьору Антонио думалось, что это было вчера – так ясно стояли перед его глазами и процессия, и его дочурка, его старшая любимая девочка. Он вспомнил еще, как приехавший из Пармы художник громко сказал: «Посмотрите на эту маленькую Марию Магдалину! Что за божественные волосы у ребенка!» Он так и сказал – «божественные волосы». Но и тогда Гита не подняла глаз. Она была поглощена важностью события, в котором принимала участие. Такая она была всегда – самоотверженно серьезная. Все, за что бралась, делала от всего сердца не колеблясь, отдавая себя целиком, без остатка. Такой она была всю жизнь. Всю свою короткую, трагически прерванную жизнь.
Синьор Антонио снова взял гусиное перо. К написанному ранее прибавилась еще одна строка:
«Смерть унесла ее во цвете лет и на вершине счастья, верной подругой превосходнейшего юноши Джузеппе Верди, композитора».
Синьор Антонио вытер глаза. Где это счастье?
А давно ли его разбудил ночью взволнованный голос жены. «Проснись, Тонино, проснись!» – говорила синьора Мария. Она стояла со свечой в руке, и лицо у нее было испуганное. Это случилось вскоре после того, как грабители убили их соседа, богатого купца Исаака Леви. Синьора Мария от страха почти перестала спать и по нескольку раз в ночь обходила дом, проверяя, все ли двери на запоре. «Слушай, Тонино, – говорила Мария, – мы спим и не знаем, что происходит у нас в доме. Я застала Гиту и Джузеппе на балконе. Они говорили о любви – боюсь, не в первый раз. Это надо прекратить, пока не поздно».
Синьор Антонио вспомнил, как он обрадовался тогда. Он ведь никогда не думал о том, чтобы сделать Джузеппе своим зятем. Эта мысль почему-то не приходила ему в голову. Но теперь это показалось ему очень привлекательным. Ему даже показалось странным, что он раньше не подумал об этом. Он всем сердцем привязался к мальчику и был рад, что и Маргерите он полюбился. Он даже засмеялся от удовольствия. А синьора Мария на него напустилась. «Боже мой, что за веселье? Что за радость? Надо подумать о том, как удалить мальчишку, пока об этом еще не говорят в городе. Ни к чему эта любовь привести не может. Он ей не пара». Но Антонио не понимал, почему Джузеппе не пара Гите. А синьора Мария сердилась: «Он сын невежественных крестьян, ты же сам знаешь! Что за родня для нашей девочки! И к тому же он нищий, нищий!»
Тогда синьор Антонио ответил жене, что сочтет за честь, если Джузеппе будет просить у него руки Гиты. Не только потому, что он прекрасный, честный человек, а потому еще, что, здраво рассуждая, он гораздо богаче Гиты. У него огромный талант, а это – капитал. Несомненно, из него выйдет композитор, которым будет гордиться не только родной город, но и вся страна.
В ту ночь у синьора Антонио произошла с женой крупная размолвка. Синьора Мария хваталась за голову, плакала, называла его старым мечтателем, говорила, что он неправ в оценке таланта Джузеппе, что Россини в возрасте Джузеппе был знаменитым маэстро и гремел на всю Италию, а Верди не только никогда не выезжал за пределы их маленького городка, но даже нигде по-настоящему не учился.
На другой день утром синьор Антонио позвал к себе Гиту, сюда, в эту самую комнату. И так же светило солнце, и были закрыты ставни, и в комнате был золотисто-зеленый полумрак. Гита вошла и остановилась у двери – вон там, рядом со старым шкафом. Она была занята чем-то по хозяйству и на ней поверх платья был передник с розовой каймой. А он смотрел на нее и думал о том, как быстро идет время. Давно ли она училась ходить – здесь, у него на глазах. Он сидел у стола, а она озабоченно путешествовала между шкафом и конторкой. И вдруг теряла равновесие, беспомощно хваталась за воздух пухлыми ручонками и шлепалась на пол с громким плачем. А теперь вот уж она стала взрослой, стройной, грациозной девушкой. Она спросила: «Вы звали меня, папа?» И только голос у нее был такой же, как в детстве, высокий и звонкий. Необыкновенно звонкий, как колокольчик.
Он хотел быть строгим, по очень волновался:
– Гита, мама мне сказала про тебя и про Джузеппе. Это правда?
Она ответила:
– Да, папа. Я его невеста.
И когда он, озадаченный, спросил – Давно ли? Она ответила:
– Да, папа. Уже три года.
И он подумал: всегда ли это бывает, что родители так мало знают своих детей? Три года – значит, когда они с Джузеппе сговорились, ей еще не было пятнадцати лет. Он подумал еще, что сердце девушки – загадка. Откуда у этой кроткой, всегда беспрекословно послушной девочки нашлась смелость распорядиться собой так свободно, никого не спросив, ни с кем не посоветовавшись? И откуда нашлась у нее выдержка, чтобы три года скрывать от всех свое чувство?
А потом он вызвал Джузеппе, сюда же, в эту комнату. И синьор Антонио вспомнил, что Джузеппе не остановился у двери, а прошагал до самой конторки, и он смотрел на отца Маргериты так смело, и в нем чувствовалась такая уверенность, такое сознание собственного достоинства, что синьор Антонио не смог задать ему ни одного вопроса. Он сказал только:
– Хорошо. Пусть будет так. Я в тебя верю. Я верю в твой талант. Ты заслуживаешь большего, чем обрабатывать землю или торговать солью. Тебе надо учиться. Ты поедешь в Милан, в консерваторию. Мы выхлопочем тебе городскую стипендию. Остальное доплачу я сам, из своих средств.
Джузеппе вспыхнул и сказал тихо:
– Вы не пожалеете об этом. Я вам все верну…
Синьор Антонио плакал. Слезы текли по его щекам. Ну что же, потом все сложилось не совсем так, как он надеялся, не так, как они все думали. Много горя и разочарований пришлось пережить. Очень много таланта и мужества понадобилось, чтобы все превозмочь. Но все же первая опера Джузеппе «Оберто» была поставлена в Ла Скала и прошла с успехом. Впереди предстояли лучшие дни. Антонио думал еще порадоваться на счастье детей. И вдруг – катастрофа! Пресечена молодая жизнь. Бессмысленно! Жестоко!
Синьор Антонио долго не мог успокоиться. Потом вынул из кармана платок и вытер глаза. Что делать – Гиты не вернешь. Остается – изживать это страшное горе. Гусиное перо снова заскрипело по бумаге.
«Вечный покой чистой душе! Я же, несчастный отец, горько оплакиваю тяжелую утрату».
В саду за окнами бил фонтан. Сквозь закрытые ставни был слышен легкий плеск струящейся воды.
В этот день синьор Антонио больше ничего не записал.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ


ГЛАВА ПЕРВАЯ
Поздно вечером кассир Филармонического общества Лауро Контарди также сделал запись у себя в дневнике: «Сегодня, двадцать второго июня вернулся из Милана наш председатель синьор Антонио Барецци и с ним маэстро Верди. Синьор Барецци, как видно, потрясен кончиной дочери. На маэстро Верди страшно смотреть. Что» будет с новой оперой?»
Лауро Контарди с волнением задавал себе этот вопрос: «Что будет с новой оперой?» И даже после того как он написал эту короткую, но полную для него особого смысла и значения фразу, он тщательно подчеркнул каждое слово.
Синьор Контарди был не только кассиром Филармонического общества, – он был страстным любителем музыки и в родном городе слыл знатоком и ценителем этого благороднейшего из искусств. У синьора Контарди была отличная библиотека, и все знали, что он не пропускает случая приобрести ценные рукописи и редкие партитуры.
Но он не только собирал рукописи и партитуры. Он с увлечением играл в оркестре. Умел играть на трубе, на геликоне, на корнете и на валторне с клапанами. На этом инструменте – новом и только начинавшем входить в моду – он прослыл виртуозом.
По правде говоря, называть Лауро любителем музыки в обыкновенном, общепринятом смысле этого слова – не совсем верно. Надо сказать прямо: Лауро Контарди любил музыку больше всего на свете. О, это было чрезвычайно глубокое и сильное чувство! Оно сливалось с чувством любви к родине, и потому оно было и сложным и мучительным.
Конечно, Лауро сознавал, что в настоящем родина несчастна и унижена, но он умел гордиться ее былым величием и, что важнее всего, страстно верил в ее возрождение. И когда он думал о родине возрожденной и свободной, он думал о музыке. О новой, никогда еще не звучавшей музыке. Именно о музыке и только о музыке. Потому что другие искусства в стране давно уже стали прошлым. Памятники из камня и мрамора стояли веками как полное горечи напоминание о потерянной силе, о померкнувшей славе, об отшумевших пирах и победах. Страна была порабощена и беззащитна, и потому ее грабили. С полотен великих итальянских мастеров, с картин, внесенных в каталоги, известных всему миру, не только снимали сотни копий. – Иногда снимали и сами картины. И увозили за Альпы. А новых художников-гигантов, чудодейственно владеющих резцом и кистью, в стране не было. В этом Лауро должен был признаться: ни Микельанджело, ни Леонардо, ни Тинторетто, ни Мантеньи. Века расцвета живописи и ваяния были прошлым. Далеким, быть может, навсегда ушедшим прошлым. И только музыка… Да, с музыкой дело обстояло иначе. Музыка была и прошлым, и настоящим, и будущим. Она была гордостью, утешением и залогом победы. Можно было вывезти все партитуры, могли переселиться в другие страны лучшие итальянские композиторы – музыка в Италии продолжала бы жить. Она жила в сердцах людей, она была вечной, как сам народ. Она рождалась из радости и скорби. Она была и застольной песней, и элегией, радостным гимном, траурной одой. Язык музыки был родным языком народа, языком, им созданным. И композиторы, вышедшие из этого народа, обогащали свой родной язык новым содержанием и новой силой выразительности. Страна непрестанно и без устали рождала композиторов. Никогда не переводились они на родной земле. После Палестрины и Марчелло – Монтеверди и Перголези. А когда не стало Перголези – Скарлатти и Чимароза. И вокруг этих величайших из великих – буйная молодая поросль. Да что говорить: так богата музыкой почва родной страны, что этой музыкой питались композиторы других народов. Сам Моцарт пленился ее напевами и вплел их в золотую ткань своих бессмертных партитур. Да что говорить: так богата музыкой почва родной страны, что сейчас, когда родина изнемогает под чужеземным игом, когда когтистая лапа угнетателя вот-вот сожмется, чтобы задушить народ, этот народ гордо заявляет о себе чудесным цветением музыки, восходом сияющего созвездия. Россини, Беллини, Доницетти – разве не говорят они красноречивей и убедительней любого оратора, что народ жив, что он не утратил самобытности? Разве не свидетельствуют они на весь мир о том, что не иссяк родник мелодии-песни, что не остывает жар неподдельного чувства, что не угасла любовь к жизни и не убита вера в счастье?
У Лауро Контарди была мечта. Никто этого не знал. Мечта была тайной. С годами эта тайная и несбывающаяся мечта стала жгучей и мучительной. Лауро мечтал о том, чтобы родился композитор, который заговорит о новых чувствах пробуждающегося к жизни народа, мечтал о том, чтобы родился композитор, который заговорит о борьбе и свободе. День освобождения был близок. В это Лауро верил твердо. Признаки пробуждения новых сил были повсюду. И нужен был композитор, который языком музыки сказал бы об этом – мужественно и смело. Смелей, чем это говорили до сих пор. Иначе. Новыми напевами. Разве это невозможно?
Лауро Контарди мечтал затаенно и мучительно. Что, если бы такой композитор родился у них в городе? А почему бы и нет? Буссето – город, веками связанный с культурой музыки. Разве не существует Филармоническое общество больше трех столетий? Поезжайте в Парму, найдите в городском музее картину Биаджо Мартини – увидите! На полотне изображена торжественная встреча императора Карла V с папой Павлом III. В 1533 году. В Буссето. Трудно поверить, не правда ли, что ставший теперь ничтожным, потерявший какое бы то ни было значение городок видел в своих стенах одновременно и великого императора и главу католической церкви, наместника апостола Петра на грешной земле? Но так было на самом деле. Буссето было в то время резиденцией великих герцогов Паллавичини. Они были тогда могущественными и непобедимыми, эти Паллавичини. Любили пышность и великолепие. И покровительствовали искусствам. При дворе герцогов были музыканты-филармонисты. Из местных жителей. Они очень тщательно выписаны на полотне кистью Биаджо Мартини. Филармонисты находятся на возвышении, они в богатом наряде, в руках у них флейты и виолы. Вот с каких пор в Буссето процветала музыка!
В городке была музыкальная школа. В школе преподавал маэстро Провези, композитор родом из Пармы. Лауро Контарди был его другом. Вместе с маэстро Лауро обходил окрестные селения в поисках учеников для школы и радовался каждому малышу, у которого обнаруживал звонкий голос, точный слух и крепкий ритм.
Но особенно горячо, от всей души порадовался он, когда Антонио Барецци уговорил трактирщика и огородника Карло Верди из деревушки Ле Ронколе отдать в школу своего сынишку. По тому, как этот ребенок слушал музыку, видно было, что его стоит учить величайшему из искусств. Лауро давно заметил мальчика. Еще когда он был совсем маленьким, лет четырех-пяти. Отец брал его с собой в город, когда приезжал в лавку Барецци для закупки соли, кофе, перца и других специй, необходимых для несложной кухни деревенской харчевни. Мальчик смирно сидел в одной из глубоких корзин, перекинутых через спину низкорослого серого ослика, привыкшего таскать самую разнообразную поклажу. Карло Верди вынимал сына из корзины и оставлял его в лавке Барецци. А сам уходил по своим делам. Иной раз надолго. Он никогда не торопился домой. В городе было у него немало приятелей. Он любил выпить и поболтать. Трудно сказать, как это удавалось малышу, но он всегда ухитрялся пробраться в зал, где шли репетиции филармонического оркестра. Сколько бы времени они ни продолжались и что бы ни исполняли синьоры любители, он сидел неподвижно, забившись в уголок, и слушал. И однажды, когда все уже ушли, Лауро нашел его сидящим на полу между двумя шкафами. «Надо уходить», – сказал Лауро. Но мальчик не ответил. И Лауро понял, что он не слышит слов. Он был в состоянии какого-то безумного, немого восторга. Он все еще слушал музыку. Лауро тогда же поразила непомерная сила этого чувства в таком маленьком, с виду обыкновенном ребенке. Потому что он был тогда совсем маленьким ребенком, обыкновенным деревенским мальчонкой, неприветливым и диковатым, даже угрюмым. И ничего привлекательного в его наружности не было. Росту он был небольшого, тщедушный. Отец был всегда озабочен его здоровьем. Не очень-то они с женой были счастливы в своем потомстве. У мальчика бывали припадки конвульсий – внезапные и необъяснимые. А девочка, всего на год моложе брата – звали ее Джузеппа, – так и росла калекой, глухонемой и слабоумной.
Когда пятнадцатилетний Верди написал собственную увертюру к «Севильскому цирюльнику» (заезжая труппа гастролировала в Буссето, и опера Россини была поставлена в городском театре), когда мальчик сам разучил эту увертюру с филармоническим оркестром, а публика, прослушав ее перед началом спектакля, приняла ее восторженно и шумно, – Лауро Контарди дрожащей от волнения рукой записал у себя в дневнике: «Evviva! Evviva! Evviva! Наконец-то! У нас есть композитор».
И с этого дня он ревниво и напряженно следил за развитием юного Верди. Следил со стороны, не вмешиваясь в его воспитание. Он не желал связываться с Барецци. Тот держался так, точно у него была монополия на Джузеппе. Бог с ним. Лауро Контарди не вмешивался в чужие дела.
Но иногда после репетиций, когда мальчик убирал в шкафы инструменты и нотные тетради, Лауро говорил с ним о музыке. Мальчик слушал очень внимательно, глядя на Лауро светлыми, до странности лучистыми глазами. Лауро рассказывал ему все, что знал об инструментах медной группы. Он открывал мальчику секреты звучания меди и учил его технике игры на инструментах с удивительно поющими голосами.
По вечерам кассир Филармонического общества аккуратнейшим образом составлял перечень всего, что выходило из-под пера молодого Верди. А писал мальчик в то время очень много. Писал и увертюры, и романсы, и пьесы виртуозного характера – так называемые дивертисменты – для разных инструментов, писал и хоровые сочинения, предназначенные для исполнения во время богослужения, писал для большого оркестра и для певцов-солистов. И во всех этих сочинениях – будь то марш для духового оркестра, будь то сочинение драматического характера (мальчик написал сильную, захватывающую душу музыку – сюиту из восьми частей на текст Альфьери «Жалобы безумного Саула» для баритона с сопровождением оркестра), будь то величественный Magnificat – во всех этих сочинениях Лауро слышал звучание тех новых чувств, проявления которых он так долго и страстно ждал. И если бы Лауро спросили, в чем же, собственно, он слышит проявление этого желанного и нового, он, не задумываясь, ответил бы – в ритме, в особой пульсации музыки юного Верди. И опять, как десять лет назад, когда он впервые увидел маленького Верди слушающим музыку, Лауро был поражен непомерной силой этого ритма, этой особой пульсацией в музыке, написанной скромным деревенским юношей. Нечто стихийное слышалось Лауро в этом ритме. Точно в музыке билось не одно только сердце композитора, а тысячи, миллионы других человеческих сердец.
Лауро Контарди был потрясен, когда Верди не приняли в Миланскую консерваторию. Кассир Филармонического общества места найти себе не мог и все спрашивал, как же это могло случиться? Такой талант – и не приняли?..
А вот – не приняли. И произошло это очень просто.
Экзамен был назначен на двадцать пятое июня, и день этот выдался удушливо-жарким. Экзаменующихся было человек двадцать. Среди них приезжие: из Брешии, из Кремоны, из Мантуи – человек шесть, не больше. Все приехавшие и пришедшие держать экзамен были детьми подданных Ломбардо-Венецианского королевства. Самому старшему из поступавших было двенадцать лет. И был один восьмилетний – Вернокки Джузеппе, удивительно легко и даже восторженно выдувавший сигналы на охотничьем роге, очень живой, разговорчивый, веселый мальчуган.
Среди малышей и подростков Джузеппе Верди казался очень взрослым, и дети с любопытством поглядывали на него: иные потихоньку, а иные ничуть не стесняясь. Он был высок ростом и очень худощав. У него была черная бородка и светлые, необыкновенно лучистые глаза. Он сидел в стороне и ни с кем не разговаривал. На коленях у него лежала папка с сочинениями, и он придерживал ее обеими руками. И так как он казался равнодушным и безучастным к окружающему, девочки постарше – они уже успели познакомиться и подружиться – возмущенно перешептывались и украдкой хихикали.
Но спокойствие и кажущееся равнодушие были чисто показными. Верди испытывал состояние небывалого нервного напряжения. Поступление в консерваторию было для него событием, от которого зависела вся его дальнейшая жизнь. Никто в Буссето не сомневался в том, что Верди поступит. И он сам тоже не мог думать иначе. О требованиях и правилах приема он знал очень мало. Ему сказали, что он должен сыграть на фортепиано одну или несколько пьес разной степени трудности и представить комиссии написанное им сочинение. Последнее было необязательным. И он очень жалел об этом. И больше всего о том, что не может держать экзамен прямо в класс композиции, минуя экзамен по фортепиано. Но это было невозможно. В класс композиции приема не было. В классе композиции занимались только те, кто уже принят в консерваторию. Так было предусмотрено уставом. В консерваторию принимали только детей в возрасте от девяти до четырнадцати лет. Детей, осмысленно играющих на каком-либо инструменте: на чембало, на фортепиано, на виоле, на флейте, на любом струнном или духовом инструменте любой конструкции. Исполнение на экзамене пьес разной трудности было мерилом степени даровитости ребенка. Ибо, как же иначе, – вопрошал составитель инструкции о приеме в консерваторию, – как же иначе может доказать юный музыкант свое право посвятить себя великому искусству, если не демонстрацией умения правильно и проникновенно передать мысли и чувства, выраженные в музыкальных формах, уже существующих? И как, если не при помощи инструмента, покажет ребенок свою находчивость, изобретательность и чутье к звучности? И разве все эти качества не должны быть одинаково присущи, и притом присущи с самого детства, всякому музыканту – как исполнителю, так и композитору?








