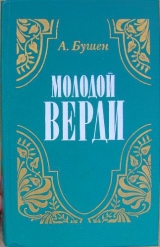
Текст книги "Молодой Верди. Рождение оперы"
Автор книги: Александра Бушен
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 24 страниц)
Композитор благодарил. Но и сейчас он не мог заставить себя улыбнуться. Не мог и не хотел. Это казалось ему неестественным и унизительным. Он продолжал кланяться, как и раньше, – быстро и коротко кивая головой. На него сыпались цветы – живые и искусственные. Их откалывали от корсажей и бросали к его ногам. Многие в тот вечер бросили бы и свои сердца, если бы они ему понадобились. Сотни людей встали бы на его защиту, если бы ему грозила опасность. И если бы нужно было организовать ему побег – сейчас, сию минуту, прямо из театра, – мгновенно нашлись бы и лошади, и средства, и друзья, которые проводили бы его через границу. И вся эта любовь и готовность загорелись в сердцах людей, видевших его сегодня в первый раз. Он стал любимым и ценимым. Он показал себя одним из лучших сынов своей страны. Он оказался тем композитором, который первым нашел в музыке своего времени нечто новое, смелое и нужное. Самое новое, самое смелое, самое нужное! По-новому выразительные, по-новому сильные, по-новому пламенные и жгучие напевы о родине.
Барон Торрезани был в восхищении. Он аплодировал и улыбался.
– Каково? – говорил он своим спутникам. – Каково? А? Какая сила! Подумать только. Силища какая! Какая смелость мысли! Огонь, полет! О, это, без сомнения, великий композитор!
Но успех новой оперы носил все же какой-то необыкновенный характер. Торрезани не мог припомнить ничего подобного. И это его тревожило. Он перелистывал либретто.
– Библейская эпоха. Прекрасно. Дела давно минувших дней. V век до Рождества Христова. События такой давности не могут вызвать никаких опасных ассоциаций. Прекрасно. Этот Захария, правда, довольно назойлив. То и дело становится в позу народного героя. Но это не имеет большого значения! Дело идет о борьбе религиозных верований и ни о чем другом. Навуходоносор – ассирийский владыка – несколько унижен. Нет ли здесь чего-либо подрывающего престиж царской власти? – Нет, нет, нет, нет! Наоборот. Навуходоносор – идолопоклонник и великий грешник. Разрушил храм и провозгласил себя богом. И само небо его покарало, лишив его разума. Об этом рассказано в библии.
Один из молодых людей передал Торрезани записку. Маленькую записочку на голубоватой бумаге. Приглашение на ужин после спектакля? Адрес места свидания? Неизвестно! Однако, несомненно, что-то галантное. Торрезани небрежно засунул записку в либретто. Успеется! И продолжал перелистывать тонкую книжечку.
– Отлично, отлично. По либретто в уста Навуходоносора не вложено ничего предосудительного, ничего унижающего царское достоинство.
«Верди Джузеппе, Франческо, Фортунато. Год рождения – 1813. Месяц – октябрь. Место рождения – Ле Ронколе. Селение. Герцогство Парма. Родители: отец – Карло Верди, трактирщик. Мать – Луиджиа Уттини, ткачиха. Неграмотны. Политически благонадежны. Примечание: Верди Карло любит выпить и, когда выпьет, много болтает и хвастается».
Так, так, так…
Абигаиль, оказывается, дочь рабыни… Очень, очень хорошо. А то было бы неприятно, что царская дочь так кровожадна. Правда, имея в виду давность событий, это не важно.
«…В Милане с 1832 года. Прибыл на предмет обучения искусству писать музыку. Занимался у частных учителей».
Вот как, вот как! У частных учителей. Они были, по всей вероятности, мастерами своего дела, эти частные учителя! Ученик их здорово преуспел в искусстве писать музыку.
Торрезани был очень доволен. Он улыбался и перелистывал либретто.
– Так, так, так, так. Проклятие Измаилу. Что-то уж очень грозно. Из-за пустяков. Изменил родине? Почему «изменил»? Изменил тем, что спас от смерти любимую девушку? Разве это измена? Конечно, текст проклятия следовало несколько смягчить. Пусть это текст библейский. Что ж такого! То библия, а это оперное либретто. Текст этого проклятия – первое, против чего можно возразить. Но это деталь. И по ходу действия деталь, не особенно существенная.
«…Вдов. Бездетен. В тайных обществах не состоит. Товарищей среди политически неблагонадежных не имеет. В общении с подозрительными личностями не замечен».
Так, так, так, так. Великолепно! Великолепно! Достойнейший молодой человек. Примерного поведения.
Что там дальше? Навуходоносор приходит в себя и разбивает идолов. Как нельзя лучше! Безусловно правильное разрешение всех конфликтов и счастливый конец. А Абигаиль принимает яд и умирает. Прекрасно, прекрасно, прекрасно! Она – узурпатор царской власти и несет заслуженную кару. Собственно говоря, она заслуживала казни, публичной казни. И очень жаль, что не воспользовались этой возможностью хотя бы на сцене. Но и так хорошо!
«…Живет замкнуто. В кафе бывает редко. Преимущественно в „Леончино“ и в остерии на пиацца Сан Романо. Угрюм. Не общителен. Молчалив. Против властей и существующего строя никогда не высказывался».
Торрезани трясется от беззвучного смеха. Он не выпускал из рук либретто со вложенной туда запиской на голубоватой бумаге.
Торрезани давился от смеха. Он раскашлялся. Ах-ха-ха-ха! В самом деле? Никогда не высказывался? Никто не слышал, чтобы он высказывался против властей и существующего строя? Нет. Не высказывался. Никогда. Ни прежде. Ни теперь. Замечательно! По-похвально! Умно! Ну что же. Тем лучше. Тем лучше для него.
Торрезани откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и задумался.
– Да, хорошо, что либретто у этого молодца в полном порядке. Абсолютно не к чему придраться. О, он гениальный композитор! Нет в этом никаких сомнений! Пусть пишет дальше. Было бы непростительно, было бы преступлением подрезать крылья такому гениальному дарованию. Во всяком случае, не я возьму на душу этот грех перед искусством.
Торрезани аплодировал. Он был в восторге. Он любил музыку и по-настоящему разбирался в ней. Он понимал в ней толк. Он умел слушать.
Шум в театре не смолкал. Аплодисменты и овации не прекращались.
– Преувеличенно, преувеличенно, – строго, начальническим тоном говорил генерал Горецкий. – Такой продолжительный шум в театре утомителен. И потом – эти слезы, эти рыдания… Все это в театре неуместно.
– Папа, замолчите, прошу вас, – сказала Эльза. – Перестаньте брюзжать. Возьмите конфету, вашу любимую. Засахаренный ананас. Дивно вкусно. – Она протянула отцу открытую коробку и показала щипчиками, какую конфету взять. – Вот, вот эту! И прошу вас, папа, аплодируйте, пожалуйста. На вас смотрят. И если вы не будете аплодировать, подумают, что вы не одобряете этой музыки. И тогда чересчур угодливые сложат губы бантиком или многозначительно подожмут их и тоже перестанут аплодировать. От этого ничего не изменится, уверяю вас. Но я не хочу, чтобы о моем отце были дурного мнения. Я сама перестану уважать вас, как ценителя музыки.
– Успокойся, детка, – сказал генерал. – Ты, как всегда, права. Мерси.
Он осторожно взял конфету. Потом, слегка вытянув руки, стал аплодировать. Он аплодировал, не торопясь и нехотя, похлопывая правой рукой по левой, которую держал неподвижно. Но Эльза не оставила его в покое.
– И, пожалуйста, папа, не протестуйте против тех, кто плачет. Пусть плачут. Я их понимаю. Я сама готова плакать. Хотя меня ни в какой мере не касаются эти истории, это рабство, эти цепи и так далее. Этот маленький композитор – варвар, чистейший варвар, и вместе с тем он немножечко волшебник. В его музыке скрыта страшная сила. Мне это нравится. И вам, пана, это тоже должно нравиться, я в этом уверена!
– Не спорю, – сказал генерал. – Музыка, без сомнения, хороша. Марш ассирийцев мне очень понравился. Несколько необычно, но хорошо.
– То-то же, – сказала Эльза лукаво. Она очень веселилась, так как была уверена, что генерал ничего не слышал. Он был все время занят делами.
– Это недопустимо, – говорил фон Ланцфельд, оглядывая партер. – Недопустимо! Публика не умеет себя держать. Подобная экзальтация может привести к эксцессам. А это было бы очень нежелательно, особенно в данный момент. Избави нас, боже, от эксцессов!
– Аминь, – ответил лейтенант граф Кайзерлинг.
– Этим овациям и крикам не будет конца, – недовольным тоном продолжал фон Ланцфельд. – Эта публика ни в чем не знает меры. Поверь моему опыту. Мне пришлось довольно много наблюдать здешних туземцев, именующих себя интеллигенцией. И, откровенно говоря, мне кажется, что для успокоения умов не мешало бы вызвать в театр наряд полиции.
– Обойдется и так, – сказал граф Кайзерлинг. – Кстати, обращаю твое внимание на то, что сам Торрезани здесь. Он, без сомнения, сумеет принять решительные меры, если найдет это целесообразным. Это его прямая обязанность.
– Его прямая обязанность – да, конечно. – Фон Ланцфельд горько усмехнулся. – Его прямая обязанность, – отчеканил он с явным презрением. – Посмотри на него. Аплодирует, как сумасшедший, и хохочет во все горло со своими подозрительными мальчишками. Скажи, пожалуйста, разве это допустимо, разве это прилично, чтобы начальник полиции появлялся в театре Ла Скала в обществе каких-то молодых, подозрительно смазливых мальчишек?
– А почему бы и нет? Они не обязаны быть уродами и внушать отвращение своим внешним видом. Это его сотрудники, его ученики.
– Боже правый! – с комическим ужасом воскликнул фон Ланцфельд. – Его ученики! Чему же он их учит?
Лейтенант граф Кайзерлинг пожал плечами и ничего не ответил. Он был озабочен. Анита Трабаттани так и не появилась.
– Удрала! – с досадой подумал Кайзерлинг. – Испугалась и удрала. Теперь ее не сыщешь. Придут за ней на квартиру, а там ее и след простыл! Осталась только ее семейка, куча кривляющихся обезьян. От них толку не добьешься. Немецкого языка они, конечно, не понимают, итальянского тоже не понимают, даже миланского наречия – и того не понимают. Изъясняются только на каком-то чертовском, не существующем в природе, им одним понятном жаргоне. – Кайзерлинг вздохнул. – Дикари, жалкие дикари! Но конечно патриоты. О, да! Вне всякого сомнения, патриоты. Patria, Patria! – это они понимают. Патриоты и вдобавок еще заговорщики! – Лейтенант раздраженно стукнул саблей об пол. Он был взбешен. – Хорошо, что патриотизм обезьян и подонков общества никому не страшен.
Оркестр настраивался перед последним действием. В театре было по-прежнему шумно и неспокойно. Спектакль продолжался.
Началось четвертое действие. Оно проходило в условиях на редкость благоприятных для восприятия вердиевской музыки. В зале царило особое настроение, взволнованное и приподнятое. Воздух казался душным и раскаленным, как перед грозой.
Четвертое действие проходило под несмолкаемые аплодисменты и щедро расточаемые возгласы одобрения. Музыка двух последних картин была принята всем театром заранее. Ее полюбили раньше, чем она прозвучала. Сюжет расшифровывали, как хотели. Навуходоносор, вчерашний враг-поработитель, понесший кару за свои злодеяния, был теперь тем, кто признал правоту и мощь народа, им порабощенного. Эта расшифровка была фантастической и наивной. Но фантастическое и наивное было как бы внешней оболочкой самого существа дела. Основой и сущностью переживаний оставалась по-прежнему музыка. Она была все та же – новая, смелая, стремительная. Она говорила о молодости, о возрождении, о мужестве, о победе. Финальный грандиозный гимн, объединивший в могучем хоре и пророка Захарию, и жрецов Ваала, и казавшегося непобедимым владыку Ассирии Навуходоносора, и старую женщину Анну, был гимном народа в честь величайшей святыни. А что было для народа святыней более великой, чем родина, ее слава, ее свобода?
И потому, хотя спектакль сильно затянулся и время было поздним, финальный гимн бисировали.
Верди выходил кланяться. Он смутно ощущал, что опера его имела бесспорный и огромный успех. У него даже мелькнула мысль, что успех «Навуходоносора» превосходит все театральные триумфы, при которых ему когда-либо довелось присутствовать. Но он с удивлением констатировал, что это сознание не приносит ему ощущения безумной, захлестывающей радости. Не приносит ему чувства упоения собственным торжеством. Он изнемогал от неимоверной слабости, разлившейся по всему телу. Ему казалось, что у него болят все кости, ноют все суставы. Ему казалось, что он может упасть и тут же, на деревянном полу сцены, заснуть свинцовым сном. Он вспомнил, что с утра ничего не ел. Выпил только немного черного кофе. К нему подошел Мерелли. Импресарио держался торжественно. Он шел как-то боком, втянув живот, выпятив грудь и скользя по шероховатому полу, как танцмейстер по зеркальному паркету. Мерелли был не один.
– Мой молодой друг, мой дорогой маэстро, – желая казаться изысканным, Мерелли вдруг заговорил в нос, – мой дорогой маэстро, с вами хочет познакомиться граф Ренато Борромео.
Граф Ренато Борромео принадлежал к высшей миланской знати. Он был преподавателем аристократического клуба Казино деи Нобили.
– Я хочу только возобновить наше знакомство, – сказал граф Ренато. – Мы с вами уже встречались. Лет восемь назад, если не ошибаюсь. Помните?
В его тоне была искренность и подкупающая теплота. Верди вспоминал с трудом. Лицо графа было ему совершенно незнакомо. Когда же он встречался с ним? Должно быть, в то время, когда композитор, будучи учеником Лавиньи, экспромтом разучил и продирижировал ораторией Гайдна «Сотворение мира». Исполнителями были любители, дилетанты. Многие из них пели очень фальшиво, и с ними пришлось повозиться. Это Верди помнил очень хорошо. Он весьма удачно продирижировал тогда гайдновской ораторией. И вдруг в его памяти всплыло забытое: он вспомнил. Его учитель Лавинья сообщил ему тогда, что граф Борромео возымел намерение заказать ему, Верди, начинающему композитору, и, в сущности, даже еще не композитору, заказать ему торжественную кантату по случаю бракосочетания одного из членов этой знатной миланской фамилии. Но молодой Верди так и не дождался этого предложения. Очевидно, нашли для столь ответственной работы композитора более опытного, чем неизвестный ученик малопопулярного учителя.
– Мы будем теперь встречаться с вами часто, надеюсь, – говорил граф Ренато. – Но я не хотел откладывать удовольствия выпить за вашу прекрасную оперу и за ваш сегодняшний успех.
Он повернул голову и сделал рукой жест куда-то в сторону. Верди увидел лакея, стоявшего с подносом. Другой лакей разливал шампанское в бокалы. Он ловким движением подымал и опускал бутылку. Вино пенилось. Композитор почувствовал, что во рту у него пересохло и подумал, что выпить будет очень приятно. Но сразу же испугался. Пить вино в состоянии такой смертельной усталости и на пустой желудок! Он заснет неминуемо и мгновенно тут же, на полу, у ног сиятельного графа. Он с тоской посмотрел на пол, как бы ища место, где он растянется. Ренато Борромео с улыбкой протянул ему бокал. Вино было золотистым. Со дна бокала один за другим быстро поднимались пузырьки.
– Пью за вашу сегодняшнюю победу, – сказал Ренато.
Они чокнулись. Композитор закрыл глаза и осушил бокал залпом. Он не упал. Наоборот. Он почувствовал себя лучше. Ренато Борромео казался ему очень симпатичным. У него было приятное открытое лицо. Композитор нашел сходство между ним и его прославленным предком, ученым кардиналом, основателем знаменитой миланской библиотеки. Ренато продолжал говорить. Он говорил негромко. У него был спокойный ровный баритон.
– Я думаю, что выскажу не свое личное, а наше общее – всех ваших сегодняшних слушателей – пожелание, если скажу вам: пишите. Не откладывайте в долгий ящик сочинение новой оперы, такой же прекрасной, как та, которую мы слышали сегодня. Пью за вашу следующую оперу.
Граф Борромео взял с подноса два холодных, чуть запотевших бокала (шампанское стояло во льду) и протянул один из них композитору.
«Теперь непременно будет плохо», – подумал Верди. Но он, не робея, взял бокал и опять осушил его до дна. Оказалось, что композитор и на этот раз ошибся. Ему не стало плохо. Он почувствовал себя неожиданно бодрым и сильным. И только перестал слышать то, что говорил ему граф Ренато Борромео. Он думал о том, что хорошо было бы выпить еще. И собирался сам, не дожидаясь приглашения графа, взять бокал с шампанским. И думал выпить его просто так, без всякого тоста. Он стал искать глазами лакея с подносом. Но того уже не было. И он не заметил, как и когда распрощался с милейшим графом Ренато. Он видел вокруг себя заискивающе-приветливые, улыбающиеся лица. Какие-то незнакомые люди окружали его, пожимали ему руки, говорили что-то о давнишнем знакомстве, о своей безусловной и непоколебимой уверенности в его таланте с того самого дня, как он впервые дебютировал в театре. Композитор слышал восторженные похвалы, изысканные комплименты, грубую лесть.
Пазетти по своему обыкновению суетился и громко разглагольствовал. По его словам выходило, что чуть ли не он «открыл» Верди как композитора.
– Я надеюсь, вы помните, маэстро, дорогой маэстро, что я ваш старейший друг. Я ваш друг еще со времен «Оберто».
– Неправда, – сказал Верди. Ему казалось, что он слышит отвратительную фальшивую ноту и обязан ее выправить. – Неправда, вы никогда не были моим другом.
Пазетти деланно рассмеялся. Он постарался обратить в шутку понятный только одному ему выпад Верди.
– Боже мой, маэстро, вы ужасно нелюбезны. Ужасно нелюбезны, – повторил он с огорчением. – Но что поделаешь! Победителей не судят! («До чрезвычайности груб и невоспитан – вот медведь» – подумал Пазетти про себя.)
В эту минуту быстрыми шагами подошел Солера. Он обнял композитора и чуть не задушил его в объятиях.
– Где ты пропадаешь? – спросил Верди, слегка отстраняя либреттиста, повисшего у него на шее.
– Тысячи, тысячи раз поздравляю, – взволнованно шептал Солера, дыша композитору в лицо и обдавая его запахом табака и душистой помады. – Будь мне благодарен за превосходное либретто. Твое дело в шляпе! Ты теперь знаменитость! Будущее в твоих руках. С завтрашнего дня тебе будут принадлежать любые женщины – сможешь выбирать среди самых недоступных, – прибавил он многозначительно. – Твое изображение украсит собой коробки конфет и миндальной пасты для смягчения кожи. Владельцы галантерейных магазинов назовут твоим именем галстуки и подтяжки, а хозяева ресторанов новые соусы! Это слава, мой друг! Завидная слава!
– Перестань дурачиться! – сказал Верди. И в первый раз за весь вечер улыбнулся. – Подожди меня, пожалуйста, – сказал он Солере. Но либреттист, не слушая его, куда-то помчался.
Композитора снова обступили незнакомые люди, претендующие на внимание с его стороны. Он чувствовал глухое раздражение и озирался по сторонам, как бы ища помощи. Он думал о том, что ему следует поблагодарить Джорджо Ронкони и синьору Стреппони за их прекрасное исполнение трудных ролей. Он был удивлен тем, что к нему не зашел Антонио Барецци. Может быть, он не сумел найти хода за кулисы?
В эту минуту он увидел Джованни, который осторожно пробирался по сцене, с опаской поглядывая на двигавшиеся блоки, на уходившие вверх декорации, на открытые люки. Верди бросился к нему навстречу.
– Уф, – сказал Джованни, вытирая платком красное, вспотевшее лицо. – Поздравляю тебя от всего сердца. Дай мне обнять тебя. – И он шумно расцеловал композитора в обе щеки. – Отец велел передать тебе его поздравления. Он говорит, что это настоящий, прочный успех. Он придет к тебе завтра на квартиру рано утром.
– Но почему же не сейчас? Почему он сейчас не пришел меня поздравить? – спросил Верди. В голосе его слышалась досада и огорчение.
Джованни замялся.
– Видишь ли, – начал он нерешительно, – он не совсем хорошо себя чувствует.
– Что ты говоришь? – Композитор побледнел.
– Да ты не беспокойся, – продолжал Джованни, все так же невозмутимо растягивая слова, – ничего особенного. Он поволновался и ему немного взгрустнулось. – Джованни запнулся. Верди смотрел на него вопросительно.
– Видишь ли, – Джованни заикался от смущения, – отец вспомнил Маргериту. Бедняжка так верила в тебя, и бог не дал ей дожить до дня твоей победы.
Верди помертвел. Зеленые круги поплыли у него перед глазами.
– Веди меня к отцу! – сказал он беззвучно.
– Что ты, что ты! Это невозможно! – Молодой Барецци всполошился. Он в отчаянии замахал руками. – Не проси меня об этом. Именно этого-то и не хотел отец. Он не велел мне говорить тебе о его слезах, а я, дурак, сам не знаю почему, все это выболтал… Сделай милость, не выдавай меня. Отец сказал, что ты не должен знать об этом. Ты сегодня принадлежишь родине, обществу, публике – так он сказал! Не думай ни о чем другом. А завтра рано утром мы будем у тебя. Очень рано утром. Ты, наверно, еще будешь спать. Мы тебя разбудим.
И Джованни, снова с опаской поглядывая вверх и вниз, поспешил уйти со сцены.
Композитор коротким поклоном распрощался с окружавшими его людьми – новыми знакомыми и просто любопытствующими, падкими на всякого рода сенсации – и направился по коридору прямо в уборную к синьоре Стреппони. Дверь была приоткрыта. Он постучался и вошел.
Уборная синьоры была полна цветов. Корзины стояли прямо на полу; на туалете, на мягких пуфах – всюду были разбросаны букеты. Композитор подумал, что и ему следовало послать примадонне цветы, а он этого не сделал.
Джузеппина сидела перед зеркалом. Выйдя со сцены, она внезапно почувствовала усталость. Горничная хотела тотчас расшнуровать ее, но примадонна не позволила прикоснуться к себе. Она захотела посидеть несколько минут неподвижно, в полной тишине, с закрытыми глазами, не снимая грима. Увидев Верди, Джузеппина просияла и встала к нему навстречу.
– Ну? – спросила она взволнованно, ласково и радостно. И протянула ему обе руки. Верди взял эти доверчиво протянутые руки и крепко, как товарищу, пожал их. Он хотел сказать Джузеппине, что он благодарен ей за внимание и тщательность, с которыми она разучила и исполнила свою партию, хотел сказать ей о том, как прекрасен ее теплый, звонкий и выразительный голос и как обаятелен образ Абигаиль, так умно и талантливо ею созданный. И еще: он хотел сказать, что она во многом содействовала успеху его оперы и что он этого никогда, никогда не забудет. Но он растерялся, и все слова мгновенно вылетели у него из головы. Он не узнавал синьоры Стреппони. Артистка не успела стереть с лица грим последнего действия, смущающей реализмом маски умирающей Абигаиль. На композитора смотрело чужое, незнакомое лицо с искусственно удлиненными глазами. Щеки синьоры покрывала мертвенная бледность. Вокруг рта лежали темные тени. Золотые волосы были полураспущены. И это было страшнее всего – живые, точно пронизанные лучами солнца золотые пряди вокруг мертвого застывшего лица… Композитор содрогнулся. «Что это? – мучительно подумал он, – откуда у нее эти волосы? Где она достала такие?»
В уборной было душно, пахло гримом и цветами – лилиями и розами. У Верди закружилась голова. Он закрыл глаза.
Джузеппина казалась разочарованной. Она повернулась к зеркалу и позвала горничную. Аннина вышла из-за портьеры, разделявшей уборную на две половины, и подала синьоре белый шелковый пеньюар. Джузеппина закинула голову назад. Аннина осторожно и ловко покрыла ее лицо толстым слоем вазелина и ватой стала снимать грим. Синьора Стреппони смотрела на Верди в зеркало.
– Довольны ли вы мной, маэстро? – спросила она спокойно. Голос ее донесся до композитора точно издалека. Но он заметил, что в этом прекрасном женском голосе пропали какие-то нежные призвуки, звучавшие в нем несколько минут назад.
– Я вам очень, очень благодарен, – с трудом проговорил композитор.
Джузеппина, казалось, не заметила его смущения.
– Я очень рада, что все так прекрасно удалось, – продолжала она спокойно. Теперь она говорила приветливо и чуть-чуть покровительственно, точно старшая. – Я слышала, что Мерелли собирается заказать вам оперу к следующему сезону. Несомненно, он предложит вам самому назначить цифру гонорара. Это надо обдумать, синьор маэстро. Приходите ко мне завтра к обеду… Впрочем – нет, завтра я занята, приходите послезавтра. Мы потолкуем об этом.
В коридоре гулко зазвучали шаги. Донесся оживленный разговор. К примадонне, по-видимому, шли гости. Верди поспешил откланяться и выскользнул в мало освещенный коридор. Ему хотелось остаться одному. Но он не представлял себе, каким образом ему удастся выбраться из театра незамеченным. Он остановился в раздумье. В эту минуту из темного пролета лестницы вынырнул человек и двинулся прямо на него. Это был Солера.
– Ага! – воскликнул либреттист. – Так и знал! Был у примадонны. Очень хорошо. В порядке вещей. А я за тобой. Пора двигаться, о триумфатор! Дозволь мне, жалкому и недостойному рабу, бежать, уцепившись за твою победную колесницу!
– У меня к тебе большая просьба, – тихо сказал композитор. – Помоги мне выйти из театра так, чтобы меня никто не видел.
Солера опешил. Он всплеснул руками, присел на корточки и хлопнул себя по коленям.
– Боже мой! – воскликнул он, – да ты совсем с ума спятил! Это чудачество превосходит все, что только можно вообразить. Не ожидал – даже от тебя – ничего подобного! И говорю тебе прямо. Я не желаю принимать участия в таком глупом фарсе, в такой нелепой выходке, в таком преступлении – да, да, в преступлении. Ты сегодня не имеешь права так поступать! Не имеешь права так поступать по отношению к публике, по отношению к обществу, по отношению к людям, которые оказали тебе столько внимания и любви, да, да, будем называть вещи своими именами – столько любви. Знаешь ли ты, что делается? Вся площадь, все улицы вокруг театра запружены народом. Тебя ждут! Тебя хотят видеть! Тебя хотят приветствовать! Студенты собираются проводить тебя домой с факелами. А ты замышляешь обидеть всех проявлением твоего необузданного, необъяснимо сумасшедшего характера. Это немыслимо! Это грубо, бестактно, неприлично!
Солера говорил бы еще очень долго. Но, взглянув на Верди, он понял, что понапрасну теряет и время и красноречивые доводы. Композитор не слушал.
– Я отдал им оперу, – сказал он тихо, – а теперь хочу остаться один.
– Ладно, – оборвал свою речь Солера. – Ладно! Я тебя, конечно, не понимаю. И по-моему, ты неправ. Но сегодня ты победитель, а победителей, как известно, не судят. Пусть будет по-твоему. Рискнем! Может быть, как-нибудь и проскочим.
Они спустились по лестнице, прошли через темное фойе, спустились еще ниже, очутились под сценой, в машинном отделении. Дежуривший там пожарный не смог отказать композитору в его просьбе выпустить его вместе с либреттистом через маленькую потайную дверь, открывать которую было строжайше запрещено. Узкая, еле заметная дверь была прорублена в глубоком подвальном помещении. Выскользнув из нее, композитору и либреттисту пришлось преодолеть несколько скользких каменных ступенек. Они оказались на улице, у задней стены театра.
Здесь было тихо. Но на площади перед Ла Скалой толпилось очень много народа. Ждали выхода композитора. Слышался смех и шутки. Насвистывали и напевали запомнившиеся мотивы из оперы. Во весь голос пели хором «Унесемся на крыльях мечтаний…». От театра отъезжали последние кареты. Под копытами лошадей вспыхивали искры. Свечи, мерцающие в граненых стеклянных фонарях, казались блуждающими огоньками. Композитор и либреттист, смешавшись с толпой, отошли от театра незамеченными. Они закутались в плащи и низко надвинули на глаза широкополые шляпы.
– Точно заговорщики, – смеялся Солера.
Они шли очень быстро. Ночь была безлунной, но небо светилось от множества звезд.
– Ура! – сказал Солера, когда они вышли на улицу деи Сорви. – Спасены!
Кругом было тихо. Городской шум остался далеко позади, на центральных улицах. Было темно и безлюдно. Фонари попадались редко. Прохожих в этот час совсем не было.
– Знаешь, – сказал Верди, – я пережил сегодня поистине ужасающую минуту. Во время первого финала. Когда раздались эти неожиданные крики и топот, и аплодисменты, я испугался до смерти. Мне показалось, что опера терпит фиаско, начинается кошачий концерт, и публика сейчас бросится в оркестр и растерзает меня в клочья. Это было очень жутко. Хорошо, что это состояние продолжалось недолго. Я бы не выдержал!
Верди тихо засмеялся. Солера пожал плечами.
– Нервы, – сказал он авторитетно, – нервы, нервы и нервы! Из-за твоего идиотского образа жизни. К счастью, всему этому теперь приходит конец.
Они шагали молча и дошли до низких строений на площади Сан Романо.
– Ну, вот я и дома! – сказал Верди. И остановился. Он выглядел смущенным.
Солера смотрел на него с удивлением.
– Послушай, – сказал Верди ласково, – я бы не хотел, чтобы ты обижался на меня. Но я хочу просить тебя не подниматься ко мне. Мне необходимо остаться одному. Не сердись на меня за это!
Солера хотел было дать волю своему возмущению. И вдруг в его лице произошла перемена. Глаза его стали влажными. Он с неожиданной, не свойственной ему нежностью обнял композитора за плечи и сквозь слезы посмотрел ему в глаза.
– Ты чудак! – сказал он голосом, прерывающимся от волнения. – Ужасный, неисправимый чудак! Ну и оставайся таким, бог с тобой. Но ты, несомненно, гениальный композитор. Знаешь ли ты это? Многие, очень многие поняли это сегодня. А завтра об этом заговорят все. Слышишь? Ты гениальный композитор и настоящий патриот. Лучшим людям во всем мире будет дорого твое имя, я совершенно уверен в этом. И родина будет гордиться тобой!








