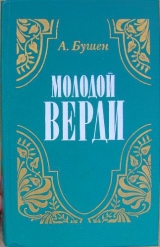
Текст книги "Молодой Верди. Рождение оперы"
Автор книги: Александра Бушен
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 24 страниц)
Синьора Стреппони топала ножкой и дрожала от нетерпения. Она захлопала в ладоши, как только увидела Верди.
– Боже мой, маэстро, где вы? где вы?.. Такая минута!.. А вас надо разыскивать, как булавку в щели! Идемте! Скорей, скорей!
Она вышла первой. Мерелли едва успел откинуть перед ней тяжелую бархатную портьеру и придержать рукой длинную золотую бахрому. Бахрома свисала очень низко. Она могла задеть и привести в беспорядок сложный головной убор примадонны.
Композитор шел за Джузеппиной Стреппони. У выхода на авансцену на полу была прибита деревянная рейка. Над ней висел блок. В этом месте ставили и укрепляли декорацию. Верди невольно подумал, что об эту рейку легко споткнуться. Он перешагнул ее особенно тщательно и очутился на виду у публики. Его появление было встречено тем ни с чем не сравнимым шумовым салютом, которым публика выражает артисту свое одобрение. Зал дохнул на него жарким дыханием первой любовной встречи. Три тысячи пар глаз были устремлены на него – с восхищением, с благодарностью, с надеждой, с любопытством…
Композитор поднял голову и смело посмотрел прямо перед собой. Театр показался ему небывало огромным, необъятным. Он ослепительно сиял золотом и горел огнями. Зажженные свечи множились, сотни раз отраженные в сотнях зеркал. Партер волновался, как море. Первые ярусы лож обегали театр, точно гирлянды свежих весенних цветов. Выше контуры лож и сидящих в них людей стушевывались. Было очень жарко. Под высоким расписным плафоном стояла дымка. Снизу она казалась легким золотистым туманом. В этом тумане тонул пятый ярус и шумный, переполненный слушателями лоджионе.
Освещение там, наверху, было плохим. Но настроение у людей было праздничным. Там, наверху, твердо верили, что час освобождения близок. Мелькали полные решимости радостные лица, сжатые кулаки, пылающие щеки. Сердца горели любовью к родине. Там, наверху, уже с увертюры признали композитора за «своего». Там поняли его с полуслова. Поняли и поверили ему.
Неумолкающие, ураганные аплодисменты казались объявлением войны, казались началом военных действий. Австрийским шпионам и провокаторам оставалось в тот вечер только одно – восхищаться и громко аплодировать. Аплодировать и громко восхищаться. Критиковать было опасно. Малейшая попытка высмеять композитора и его музыку могла кончиться катастрофически для каждого, кто осмелился бы это сделать. И шпионы аплодировали и восхищались. Они переходили от одной группы к другой и, аплодируя, слушали, слушали, слушали. И, восхищаясь, подмечали, подмечали, подмечали.
Исполнители главных ролей и композитор выходили кланяться. Сверху они казались маленькими куклами, ярко и богато наряженными. Искрились чешуйчатые доспехи Абигаиль. Желтело золото одеяний Навуходоносора. Развевались яркие плащи – синий плащ Фенены, оранжевый – Измаила. Среди блестящих доспехов ассирийцев, среди живописных одеяний других оперных героев одиноко чернел сухой, резко очерченный силуэт композитора в скромном сюртуке. Среди улыбающихся, ловко раскланивающихся актеров композитор казался негнущимся и неподвижным как острая скала, веками стоящая над волнами бесследно проносящейся мимо воды.
Верди не понимал, как можно так долго раскланиваться, сохраняя на лице всегда готовую, застывшую улыбку. Для него это было невозможно. Он выходил на авансцену и останавливался. Потом коротким кивком головы он благодарил публику за прием. Поблагодарив, он охотнее всего тотчас ушел бы за кулисы. Но он понимал, что поступить таким образом он не имеет права. Он выходил кланяться не один, а в обществе знаменитых певцов. Не известно, как приняла бы публика его оперу, если бы не нашлось для исполнения главных ролей таких замечательных артистов, как Джузеппина Стреппони и Джорджо Ронкони. Поэтому он не мог уйти со сцены раньше, чем соблаговолят это сделать они. В особенности же он должен был считаться с синьорой Стреппони. Уйти со сцены раньше примадонны было бы вдвойне непростительно. И он поневоле должен был ждать и благодарить публику за овации.
А Джузеппина Стреппони все кланялась и кланялась, низко приседала, улыбалась, прикладывала руки к сердцу. Когда примадонна наконец решала, что своими поклонами достаточно отблагодарила публику за внимание, она поворачивалась и быстро уходила. Каблучки ее звонко стучали по деревянному полу. Ее панцирь переливчато блестел и мгновенно потухал, когда артистка заходила за тяжелую бархатную портьеру у входа за кулисы. Джузеппина скрывалась, а золотая бахрома продолжала трепетать, как трепещет трава, по которой проскользнула серебристая ящерица. Композитор шел за примадонной. Зайдя за портьеру, он облегченно вздыхал.
– Все идет прекрасно, – говорила синьора Стреппони. – Я очень, очень довольна.
Джузеппина казалась необыкновенно возбужденной. Глаза ее блестели. В этот вечер она выглядела чрезвычайно привлекательной. Мерелли поглядывал на нее с нескрываемым удовольствием. Он искренне любовался ею. Каждый раз, когда Джузеппина ловила на себе его взгляд, на лицо ее точно падала тень, и оно становилось печальным и строгим.
Шум в театре не прекращался. Публика была ненасытна в своих требованиях. И опять – все в том же порядке – актеры шли кланяться и благодарить. Композитор тщательно переступал через рейку, выходил на авансцену и останавливался на виду у публики. Он начинал чувствовать усталость и легкое раздражение. А публика все не унималась и по-прежнему настойчиво вызывала его.
В самый разгар приветственных демонстраций дверь в ложу № 16 широко раскрылась. Вошел генерал Горецкий. Он казался удивленным.
– Что здесь происходит?
– Ах, папа, вы, как всегда, опоздали, – сказала Эльза с досадой.
– Что здесь происходит? – переспросил генерал.
– Только что кончилось первое действие оперы, – сказала Эльза. – Мне жаль, что вы не слышали этой музыки. Это очень странная, варварская музыка. – Эльза смущенно засмеялась. – Я не уверена, что она очень хорошего тона. Может быть, она груба, может быть, даже несколько вульгарна, но в ней чувствуется сила. И она волнует… Очень волнует.
Аплодисменты не прекращались. Верди выходил кланяться.
– Посмотрите, папа, вот и композитор, который написал эту странную музыку. – Эльза смотрела на сцену в лорнет. – Он небольшого роста, ужасно худ и очень некрасив.
– Эльза, перестань разглядывать актеров в лорнет, – сказала госпожа Горецкая, – это неприлично!
Генерал послал адъютанта за майором фон Ланцфельдом. Верди опять вышел кланяться. В тридцатый раз. Эльза, не отрываясь, смотрела на композитора в лорнет.
– У него интересные глаза. Они посажены очень глубоко, поэтому их нельзя оценить сразу. Они какие-то бездонные и, представьте себе, папа, светлые. Странно, не правда ли? При таких темных волосах и такой черной бороде! Предупреждаю вас, папа, он несомненно карбонарий, заговорщик и бог знает что! Но у бедняги ужасный teint[1]1
teint – (фр.) цвет лица.
[Закрыть]. И на лице оспенные знаки. Да, да, увы! – оспенные знаки.
Генеральша была вне себя. Лицо ее покрылось багровыми пятнами.
– Эльза, сию минуту опусти лорнет! Это неприлично!
Эльза бегло взглянула на мать и подумала, что ей не следует украшать прическу такими яркими лиловыми перьями. Она – Эльза – никогда этого не сделает. Правда, у нее хороший цвет лица и белая кожа, но это ровно ничего не значит. Она ведь молода, а впоследствии… кто знает? Наследственность – ужасная вещь! К счастью, она мало похожа на мать. К тому же, этот ядовитый лиловый тон ужасен. Когда перья перейдут к ней, она отдаст их перекрасить. Мадам Майер в Париже делает это превосходно.
Генеральша все время говорила о поведении молодой девушки – той идеальной молодой девушки, которую Эльза ненавидела с детства, о правилах приличия, о положении, которое обязывает. Эльза не слушала. Это были вещи, слышанные тысячи раз. Все это надоело.
– Мама, посмотрите в зал и успокойтесь! Ни один человек не обращает внимания на дочь генерала Горецкого, уверяю вас. Все заняты только одним: этим новым композитором, у которого такой плохой teint и на лице оспенные знаки.
– Не вижу никаких оспенных знаков, – сказала генеральша Горецкая. – Ты, как всегда, преувеличиваешь! – И генеральша огорченно вздохнула. Эльза своим упрямством портила ей кровь. Но генеральша считала себя идеальной матерью, матерью-христианкой. Воспитание непокорной дочери она склонна была рассматривать, как ниспосланное ей свыше испытание, и на борьбу с Эльзой смотрела почти как на подвиг. Тем более как на подвиг, что в своих непрестанных пререканиях с молодой девушкой она чувствовала себя совершенно одинокой. Генерал проявлял по отношению к дочери непростительную слабость. Вот и теперь он рассеянно мычал себе под нос напев любимого марша, делая вид, что не замечает очередного конфликта между женой и дочерью. Лицо генеральши стало фиолетовым, почти одного цвета со страусовыми перьями, касавшимися ее левой щеки. Она снова обратилась к дочери:
– Эльза, перестань смотреть в лорнет! Повторяю в последний раз: это не-при-лич-но!
Дверь в ложу распахнулась. Вошел майор фон Ланцфельд. Щелкнул каблуками, застыл в почтительной позе.
– Что скажете о спектакле, майор? – весело спросил Горецкий. – Моей дочери понравилась музыка.
Фон Ланцфельд поклонился.
– Ваше превосходительство, я скажу об этой музыке так: это не парад, а настоящая война!
Горецкий насупил седые брови:
– То есть?
– То есть, ваше превосходительство, я хочу сказать, что такая музыка может содействовать взрыву пороховых погребов!
Эльза опустила лорнет и отвернулась от сцены.
– Вот замечательное открытие! – засмеялась она. – Честь его принадлежит вам, майор? Оно, вероятно, изменит технику ведения войны. Музыка вместо адских машин и фугасов!
Фон Ланцфельд галантно изогнулся перед Эльзой.
– Прошу извинения, – сказал он, – не всякая музыка, не всякая! Я имел в виду ту музыку, которую мы только что слышали.
Эльза смеялась. Майор стоял перед ней, почтительно склонившись. У него было розовое, свежевыбритое лицо. Светлые волосы были разделены прямым пробором до самого затылка. Белый мундир плотно облегал крепкую фигуру. У майора были широкие плечи и тонкая талия, затянутая в корсет, как у женщины.
Эмилия Гаргантини сидела в глубине ложи. Время от времени она поднимала руку и вытирала платком уголки глаз. Девочки были предоставлены самим себе. Они были очень возбуждены и много аплодировали. Изредка они поглядывали на мать, как бы ища у нее сочувствия.
– Как хорошо, как хорошо! – восторженно повторяла Карлотта. – Что же ты не аплодируешь? – шепнула она сестре. – Боишься мамы? Смотри, он опять вышел кланяться. Я потеряла счет вызовам. Сосчитала до тридцати двух, а теперь спуталась. А ты не считаешь? Он ужасно печален. Почему бы это? Он написал такую замечательную музыку, и все так довольны!
Пеппина была сдержанна.
– Он пережил страшное горе, – сказала она, – у него умерли жена и дети.
– О, боже! Возможно ли? – Карлотта всплеснула руками. Плечи ее задрожали. Она заплакала.
– Карлотта, не надо, – ласково сказала сестра.
– Не могу, не могу, – сквозь слезы лепетала девочка. – Мне его слишком жалко!
Дверь в ложу приоткрылась. Пеппина нежно дотронулась до руки Карлотты.
– Успокойся! Мы не одни: к маме гости.
Вошли Люциан Манара и Энрико Чернуски. Оба были молоды. Обоих жизнь манила еще не изведанными радостями. Но оба были готовы отдать эту прекрасную, непрожитую жизнь за освобождение родины. И оба страстно желали того дня, когда родина потребует от них этой жертвы.
Карлотта с живостью обернулась и украдкой вытерла слезы. Потом она наклонилась к сестре. Маленькой ручкой в короткой розовой перчатке она отвела от щеки шелковистый каштановый локон.
– Пеппина, – зашептала она, волнуясь. – Скажи мне, почему Энрико называют Дантоном?
– Тише! – строго сказала Пеппина.
Джузеппина Аппиани рассеянно играла веером.
Иногда она закрывала им лицо. Щеки ее горели. Она была задумчива.
– Мой дорогой друг, – сказала она робко, точно чувствовала себя в чем-то виноватой, – мой дорогой друг, эта музыка кажется мне прекрасной!
Доницетти аплодировал, не переставая. Он был очень серьезен.
– Скажите лучше: эта музыка гениальна, – ответил он. Потом помолчал и снова повторил как будто для одного себя: – Гениальна!
Дверь в ложу Клары Маффеи открывалась и закрывалась. Завсегдатаи салона заходили приветствовать милую хозяйку. Делились впечатлениями. Алессандро Путтинати возмущался постановкой оперы: поблекшими декорациями, сборными костюмами. Только музыка, сильная и красочная, позволяла вынести зрелище этого распадающегося хлама. Джулио Каркано находил, что либретто сделано очень ловко, Солера безусловно многообещающий поэт! Франческо Гайэц напевал запомнившуюся ему тему из увертюры. Он был очень доволен. Он чувствовал себя помолодевшим. Прекрасная музыка! Героическая, проникновенная музыка!
Клара безвольно уронила руки на колени. Глаза ее были широко открыты. Лицо казалось спокойным. Но по щекам катились слезы. Она их не вытирала, и тяжелые капли скользили и падали одна за другой. Кларе казалось, что неизвестный ей бледный и внешне ничем не примечательный композитор – всемогущий маг и волшебник. Он точно подслушал ее самые сокровенные мысли. Подслушал и превратил их в музыку. И теперь эти мысли-мечты живут новой, преображенной жизнью. И в этой новой, лучезарной жизни они приобрели бессмертие.
– Кларина, дитя мое, – говорил ей муж, – мы должны радоваться. Нам удивительно посчастливилось. Мы присутствуем при рождении необыкновенного композитора. Какое интересное, своеобразное дарование!
Андреа Маффеи заговорил о новой опере. Он говорил о музыке, говорил о поэзии. Речь его лилась легко. Он недаром пользовался репутацией блестящего салонного оратора. Сегодня он чувствовал себя в ударе. Неглубокие, но изящные мысли, изысканные, грациозные обороты рождались сами собой. Ему нужна была аудитория, чуткая, легко воспламеняющаяся – внимание ласковых растроганных женщин. Он с сожалением взглянул на Клару. Она была настоящим ребенком – наивным и вместе с тем слишком серьезным. Андреа чувствовал себя виноватым перед ней. Но помочь ей ничем не мог. Дело было непоправимым. Лучше было не думать об этом. Зачем мучить себя бесполезной жалостью и запоздалым раскаянием? Андреа Маффеи был эпикурейцем. Он направился в ложу к графине Вимеркати.
Клара не заметила, как вышел муж. Она, не отрываясь, смотрела на сцену. В гладком розовом платье, тонкая и побледневшая, она казалась испуганной девочкой.
У графини Вимеркати было шумно. Знатоки и любители обсуждали первое действие оперы. Дон Джованни Балабио формулировал свои мысли точно и обстоятельно. По его мнению, композитор злоупотребляет звучностью медных инструментов.
– Впрочем, – при этом дон Балабио мечтательно закатил глаза, – старая венецианская школа отличалась таким же пристрастием. Вспомним хотя бы хор всадников в опере Кавалли «Пелей и Фетида».
Но никто из присутствующих не знал хора всадников из оперы Кавалли «Пелей и Фетида», и дон Джованни умолк. Он чувствовал себя одиноким и обиженным. Он шевелил губами, точно прикладывал их к отверстию воображаемой флейты.
Граф Кастельбарко спорил с Джульеттой Пецци. Он доказывал ей, что Верди слепо подражает Беллини в манере строить кантилену. В устах страстного поклонника беллиниевской музы это утверждение звучало как похвала. Но Джульетта Пецци не соглашалась с доводами просвещенного теоретика. У нее были свои, ей одной известные мысли по поводу музыки Верди. И эти мысли заставляли ее лукаво улыбаться в ответ на рассуждения графа Кастельбарко.
– Добрый вечер! – воскликнула она громко, увидя входящего Андреа Маффеи. – Я в восторге от этой музыки. В ней есть жизнь, самая настоящая, самая подлинная жизнь. Слушая ее, я чувствую себя среди живых людей, а не среди бутафорских богов и карнавальных чучел. Я покидаю туманные выси надоевших картонных Олимпов и с радостью ступаю на землю. – Она смотрела на Андреа в упор и говорила вызывающе. – На цветущую землю моей освобожденной родины.
Андреа Маффеи любовался Джульеттой Пецци. Он смотрел на ее золотисто-огненные волосы, на ее полные белые плечи, на красные маки, приколотые к ее корсажу. Он считал себя патриотом не хуже других. Но стоял за мирное сожительство с иноземными хозяевами. У него были приятели среди австрийских офицеров. Он охотно принимал бы их у себя, если бы не Клара. При первом намеке на эту возможность кроткая голубка превратилась в тигрицу. «Только через мой труп, – сказала она тогда. – Только через мой труп сможет австрийский офицер войти в дом, где я хозяйка!»
Андреа осуждал подобную нетерпимость. Нелепо так усложнять жизнь. Но он не спорил с женщинами. От этого правила он не отступал никогда. Никаких споров с женщинами! Ни с собственной женой, ни с другими. И особенно с такими, как Джульетта Пецци. За такими он предпочитал ухаживать.
– Вы сегодня точь-в-точь вакханка Тициана, – сказал он.
Джульетта смеялась.
– Не доверяйте своему впечатлению, – сказала она. – Присмотритесь внимательно. У меня нет ни тирса, ни виноградных листьев. Неужели вы приняли букет красных маков за гроздья винограда? – Джульетта смеялась, глядя на Андреа в упор. – О, язычник! Неисправимый язычник! Запомните раз и навсегда. Бога Вакха больше нет. Вакханки бежали, куда – не знаю, может быть, на другую, более молодую и счастливую планету. У нас другая религия. Мы стали старше и несчастней. И теперь мы превращаем вино в кровь. Это не всегда заметно, так как вино и кровь одного цвета. Думали ли вы об этом, беспечный еретик? – Джульетта говорила загадками. Андреа не было никакого дела до тайного смысла ее слов. Это его не интересовало – пустая женская болтовня! Важнее было другое: Джульетта смеялась и смех ее был чарующим.
– Но мы говорим о пустяках, – сказала поэтесса, – а я до сих пор не знаю вашего мнения об опере, – Она перестала смеяться. Лицо ее стало неожиданно серьезным, даже строгим.
Тогда Андреа Маффеи заговорил об опере Верди. Он смотрел на алые цветы, расцветшие так пышно на груди Джульетты Пецци. Он не мог оторвать глаз от этих алых цветов. Они казались ему пылающим костром. Они казались ему вызовом. И он говорил о музыке, говорил о поэзии. Речь его лилась легко. Он был в ударе.
На сцене была уже установлена декорация второго действия. Мерелли бесцеремонно выпроваживал всех посторонних, пробравшихся за кулисы. Горничная синьоры Стреппони накинула на плечи своей госпожи бархатную пелерину. В театре были сквозняки. Примадонна почти бегом понеслась по коридору. Времени для переодевания оставалось очень мало. «Синьора едва успеет переменить костюм и совсем не успеет отдохнуть», – озабоченно бормотала горничная.
Верди остался вдвоем с Мерелли.
– Я не пойду в оркестр, – сказал композитор, – я останусь здесь, за кулисами.
Импресарио засуетился.
– Прошу тебя не делать этого. Не нарушай традиции. Ты видишь, все идет прекрасно. Но прошу тебя еще раз. Не нарушай традиции.
Он взял композитора под руку и увел его со сцены. Верди нехотя снова занял отведенное ему место в оркестре.
Спектакль продолжался. Началось второе действие. Занавес поднялся над одной из зал во дворце ассирийского царя. На сцене была Абигаиль, одна. Она лежала на низком ложе, покрытом тигровой шкурой. Все лорнеты партера направились на актрису. Джузеппина приложила так много ума и стараний для того, чтобы выглядеть как можно эффектней, что это ей вполне удалось. Примадонна была абсолютно уверена в успехе оперы молодого Верди. Откуда взялась эта уверенность, она не знала и над этим не задумывалась. Но твердо знала одно: знала, что желает способствовать предстоящему успеху всеми зависящими от нее средствами и тем самым сыграть в радостном для Верди событии заметную и, может быть, даже незабываемую роль. Вот почему она посвятила немало времени разучиванию вокальной партии, неутомимо репетировала перед зеркалом позы и жесты создаваемого ею сценического образа и тщательно продумала малейшие детали своего сложного театрального костюма. Джузеппина Стреппони была мала ростом. Но здесь, в роли воинственной дочери ассирийского царя, в роли одержимой жаждой власти, снедаемой ревностью Абигаиль миниатюрная фигурка была ей помехой, препятствием для создания впечатляющего сценического образа. И артистка сделала все возможное, чтобы скрыть этот свой недостаток. На ней были длинные одеяния из тончайших, как бы струящихся тканей, расшитых блестками. Они ниспадали до самого пола и скрывали двойную подошву и высокие каблуки на золотых, плотно облегающих ногу котурнах. Но особенно много внимания Джузеппина уделила прическе. Именно прическа должна была увеличить рост актрисы в этом действии, где нельзя было появиться в боевых доспехах, в высоком серебряном шлеме с развевающимися перьями. Для роли Абигаиль синьора Стреппони заказала себе парик в Париже, у знаменитого мастера мосье Антуана, «поэта театральной прически», как его называли. Парик прибыл два дня назад. Он был очень хорош – из настоящих волос, необыкновенно блестящих, золотисто-рыжих. Прическа была выполнена художественно. Это было высокое сооружение – целая башня – из мелко завитых кос, чрезвычайно искусно уложенных и перевитых жемчугом. Идея представить себе Абигаиль блондинкой была сама по себе оригинальной. Она оказалась очень удачной и для внешности синьоры Стреппони. В светлом парике синьора очень выиграла. Светлые волосы выгодно оттеняли ее выразительные черные глаза и придали ее лицу что-то экзотическое.
Страстно-взволнованный речитатив. Мягко и упруго, как хищный зверь, Абигаиль спрыгнула со своего ложа и выпрямилась во весь рост. В ниспадающих прямыми складками одеждах она казалась неожиданно стройной и высокой. Ария. Прекрасная, свободно льющаяся мелодия. Мелодия, почти лишенная украшений, но полная смысла и содержания. Голос Джузеппины Стреппони придавал каждой фразе теплоту и задушевность. Вокальное исполнение арии было безупречным. Публика заслушалась. Дружные аплодисменты были наградой артистке за ее высокое мастерство.
В покои Абигаиль вошли жрецы Ваала. Они требовали уничтожения всего плененного народа.
И опять действие понеслось вперед в том стремительном ритме, который держал слушателей в напряжении с самого начала спектакля. И опять пришлось подчиниться сокрушающей силе властной, не допускающей сопротивления музыки. Ритмы, грохочуще-чеканные, как поступь богатырей, ритмы, упруго пружинящие, как натянутая тетива, вызывали представление о действии, о стройном движении какой-то организованной силы. Они включали слушателя в это действие, они включали слушателя в это движение.
Интонации музыкального языка волновали несказанно. Они звучали непосредственно, они были понятны, как язык самой жизни. И опять казалось, что композитор подслушал то, что являлось насущно необходимым и для всех желанным, то, о чем другие – до него – говорили только вполголоса и намеками. И опять казалось, что, подслушав чутким внутренним слухом музыканта и горячим сердцем патриота все это насущно необходимое и для всех желанное, композитор превратил и чувства, и мысли, и желания в музыку. И теперь языком музыки говорил о насущно необходимом и для всех желанном громко и захватывающе.
Величественно прозвучало моление Захарии. В плену у вавилонян духовный вождь бесправных и порабощенных не терял веры в конечное торжество, в победу своего народа. Потрясающее впечатление произвел хор обращенных в рабство при встрече с Измаилом, повторяющих слова проклятия изменнику, повторяющих проклятие тому, кто, ослепленный любовью, забыл свой долг перед родной страной.
Театр рукоплескал. Восторженные крики заглушали музыку. Хор пришлось бисировать, несмотря на существовавшее запрещение нарушать течение спектакля повторением отдельных номеров. Можно было подумать, что на сегодняшнюю премьеру отменены все когда-либо установленные запреты. Второе действие было снова победой как для композитора, так и для исполнителей.
Во время антракта в театр приехал барон Торрезани. Совершенно случайно у него оказалась свободной часть вечера. Он тотчас вскочил в экипаж и велел кучеру вести себя в Ла Скала. Барон Торрезани был начальником миланской полиции. Он был итальянцем и служил Австрии. Патриоты его ненавидели. Австрийское правительство ему доверяло, хотя и с опаской. Он был талантливым актером, но никогда не играл на сцене. Предпочитал разыгрывать разнообразные роли в жизни. В частной жизни, в общественной жизни. В тех случаях, когда в этом возникала необходимость по долгу службы. И в тех, когда прямой необходимости в этом не было. Для собственного удовольствия. Из любви к искусству. Он работал не один. Он был окружен огромным штатом способных и ловких агентов, очень точно выполнявших его поручения. Они незаметно проникали всюду. Во дворцы и в лачуги, в дома разоряющихся и в дома богатеющих, на главные улицы и на рабочие окраины. Они были духовниками и добрыми знакомыми, горничными и лакеями, приказчиками и покупателями, мастерами и подмастерьями. Они были звеньями единой непрерывной цепи. Они были петлями огромной, искусно сплетенной сети, накинутой на всю страну. Они были везде. Они были всюду.
Барон Торрезани был страстным меломаном. Он любил музыку. Он по-настоящему понимал в ней толк. Он был завсегдатаем в Ла Скала. Он не пропускал ни одной премьеры. И сегодня, как только выяснилось, что он свободен, он поспешил в театр. Он приехал в самом конце антракта. Его, так же как и генерала Горецкого, поразило необычайное возбуждение зрительного зала. В театре было шумно. Слишком шумно.
Торрезани подозвал одного из увивавшихся вокруг него молодых людей и, улыбаясь, что-то сказал ему на ухо. Юноша тотчас направился к выходу. В эту минуту антракт кончился.
Третье действие началось воинственно-праздничным хором ассирийских воинов. На сцене было светло, красочно и нарядно. Декорация была подобрана весьма удачно. Она изображала какой-то фантастический висячий сад. Вдали желтели пески пустыни. На переднем плане, в тени роскошно разросшихся пальм был поставлен трон. На троне сидела сверкающая бриллиантами Абигаиль. Она сидела выпрямившись, вытянув руки на коленях, неподвижная и загадочная, как сфинкс.
В третьем действии были две картины. Они казались ярким и нарочитым противопоставлением двух миров. Противопоставлением мира победителей, хвастливых и бесчеловечных, миру побежденных и порабощенных. Действие второй картины происходило на пустынных берегах Евфрата. Плененный народ был превращен в рабов. Люди, закованные в цепи, оплакивали родину, оплакивали свободу…
Унесемся на крыльях мечтаний
Мы к потокам, холмам и равнинам,
К рощам нашим, к цветущим долинам
И к озерам родимой страны…
Это была песня, простая и величественная, как печаль народа. Это был скорбный гимн памяти погибшей родины.
Песня лилась, песня ширилась, песня наполняла сердца слушателей. Мелодия ее была новой. Но всем она казалась знакомой и родной. Точно память о ней хранилась где-то в глубинах подсознания, вместе с напевами, которыми убаюкивала мать.
О, родина моя, прекрасная и погибшая,
Воспоминание драгоценное и горькое…
Песня неслась, песня ширилась, песня росла. Росла в звучности. Росла, как растет человек, из ребенка превращающийся в юношу и зрелого мужа. Мелодия была новой, но всем казалась знакомой. Каждый мог повторить ее. И многие, почти незаметно для себя, стали подпевать хору. А потом запели все. Пел хор на сцене, и пела публика в зрительной зале. Это звучало торжественно. Это звучало мощно.
Но люди не только пели. Они пели и плакали. Плакали многие. Не только Клара Маффеи. Плакали в партере и в ярко освещенных ложах, плакали в пятом ярусе и в полутемном шестом. Плакали о несчастной порабощенной родине, плакали о близких и друзьях, живущих изгнанниками на чужой земле, плакали о приговоренных заочно к смертной казни, скитающихся по свету без крова и пристанища, плакали о тех, кто за любовь к народу томился в казематах и темницах, плакали обо всех казненных и замученных, жизнью заплативших за любовь к родной стране.
На сцене среди рабов появился Захария. Он поднял руки. Сильные, смелые руки, закованные в цепи. «Кто плачет здесь? Или вы трусливы? Или малодушны?» – Вопросы казались обращенными к зрительному залу. Стало тихо. «Слушайте, страдающие братья! Слушайте, что я скажу. Читаю ваши судьбы во тьме грядущих дней. И говорю вам: скоро, скоро падут позорные, мучительные цепи!»
Это был речитатив – всего-навсего речитатив. Но в нем была заложена выразительность огромной силы. Речитатив потрясал, как речь вдохновенного оратора. Он утешал и волновал. Он звал к победе. Голос Захарии проникал в самые отдаленные углы зрительного зала. От тихого шепота он возвышался до громких возгласов. Оркестр вторил ему звуковыми раскатами, точно подземным гулом, предшествующим взрыву. Рабы, закованные в цепи, ощущали себя будущими воинами.
Публика встала, как один человек. Многие в партере вскочили на бархатные диваны. Неистовыми криками, несмолкаемыми аплодисментами, топотом ног, стуком палок об пол публика требовала повторения финала.
Собственно говоря, обычного, общепринятого финала действия, финала широко развитого, полифонически расцвеченного здесь не было. Было только пророчество Захарии с припевом хора. Пророчество Захарии – лаконичное и безоговорочное. Лаконичное, как лозунг, безоговорочное, как приказ по армии.
Овации переходили в демонстрацию. В демонстрацию патриотическую. В демонстрацию любви и преданности родине. В демонстрацию протеста. Протеста против иноземных завоевателей. Финал бисировали. И не один раз. Пришлось повторить его и два, и три раза. Ответить отказом на страстные требования публики было невозможно. Это представлялось небезопасным. Слишком велико было возбуждение умов. Театр казался вулканом, казался пороховым складом. Малейшая неосторожность могла вызвать взрыв. Малейшая попытка охладить разгоревшиеся страсти путем административного воздействия могла привести к непоправимому. Могла привести к враждебным действиям со стороны тех, которые пока требовали только одного: повторения понравившейся музыки. И финал повторяли. Повторяли по требованию публики. Повторяли потому, что публике понравилась музыка. И публика слушала. Слушала стоя, как слушает свободный народ свой национальный гимн. Слушала, восторженно крича и аплодируя. Слушала и пела – полным голосом, вместе с хором на сцене.
Овации по адресу композитора носили характер какого-то стихийно возникшего безудержного обожания. Джузеппина Стреппони вместе с Ронкони и Деривисом почти насильно вывели Верди на авансцену к самой рампе. Затем певцы повернулись лицом к композитору и начали аплодировать ему. Верди кланялся. Теперь ему приходилось кланяться одному. Исполнители главных ролей его оперы стояли рядом с ним и, как будто не обращая внимания на публику, аплодировали ему. Аплодировали и улыбались. Это было торжественно и необычно.








