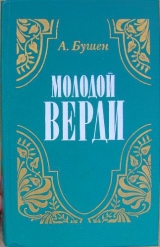
Текст книги "Молодой Верди. Рождение оперы"
Автор книги: Александра Бушен
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 24 страниц)
– Ему еще нет двадцати лет, – сказал Тассинари, – но он сумел написать весьма торжественный гимн в честь императора. Гимн называется «Амнистия» и в самых красноречивых и возвышенных выражениях прославляет милосердие и великодушие лучшего из монархов.
– Солера… Знаю, – сказал Массини. – Его стихи «Первые песни» – так, кажется, называется книга? – свидетельствуют о недюжинном поэтическом даровании.
– Под явным влиянием Манцони, – добавил Пазетти.
– Это влияние благотворное, – сказал Массини, – лучшего и желать нельзя.
– Он столько же поэт, сколько и композитор, – заметил Пазетти, – я знаю очаровательные вещицы для голоса, вышедшие из-под пера этого одаренного юноши.
– Этот одаренный юноша, – сказал Тассинари, – яркий пример того, как в нашей стране изменились и, я бы сказал, смягчились нравы. Отец его был государственным преступником, а он, сын преступника, воспевает великодушие императора.
– О, – сказал Пазетти, – государственным преступником? Я этого не знал.
– Он был приговорен к смертной казни августейшим отцом ныне здравствующего императора, – сказал Тассинари.
Массини поперхнулся вином и закашлялся.
– Смертная казнь была заменена пожизненным одиночным заключением, – сказал Тассинари.
– Позвольте, позвольте, – Пазетти очень оживился, – значит, амнистия непосредственно касается этого Солеры. Как это интересно!
– Не совсем так, – Тассинари скривил рот, как бы желая улыбнуться, – она касалась бы его, если бы он был жив. Но он уже умер.
– Ах, так, – сказал Пазетти, – в таком случае… ну, конечно…
Композитор не думал тогда, что ему придется работать с Солерой.
А с Джузеппиной Стреппони композитор встретился еще раньше, чем стал работать с Солерой. Он встретился с синьорой Стреппони в тот момент, когда постановка «Оберто» стала острой жизненной необходимостью – необходимостью, требовавшей безотлагательного решения.
Композитор переселился в Милан. Он порвал с родным городом. Он отказался от занимаемой им должности городского maestro di musica. Он переселился в Милан с Маргеритой и шестимесячным сыном, и здесь в Милане у него не было ни службы, ни постоянного заработка. От постановки оперы зависело все его будущее. Он даже не мог представить себе, как стал бы существовать, если бы опера не была поставлена. Поэтому он даже не допускал мысли, что опера может не увидеть света рампы.
Он понимал, что переезд в Милан был шагом рискованным. Рискованным, конечно, но не опрометчивым. Он много думал, прежде чем решиться на этот шаг, много думал и взвешивал все обстоятельства за переезд и против него и все же решил переехать. Вечером накануне отъезда он говорил синьору Антонио:
– Вы знаете, что не жажда наживы заставляет меня поступать так, как я поступаю. Вы знаете, к чему я стремлюсь и на что надеюсь. Я хочу работать и проявить себя. Я хочу стать настоящим человеком, а не бесполезным существом, какими вижу многих.
Это была для него очень длинная речь и очень трудная, потому что он не любил говорить о себе. И теперь, когда он счел себя не вправе молчать и сказал то, что имел сказать, – это далось ему нелегко, и ему казалось, что он говорит неестественно, по книжному. А это он ненавидел больше всего.
Но синьор Антонио понял его, как нужно было понять; он обнял его и ничего не сказал, но в глазах у него были слезы.
Композитор приехал в Милан озабоченный, но полный энергии и решимости победить. Энергия и решимость – их потребовалось очень много, чтобы продолжать бороться с препятствиями, которые неизменно вырастали у него на пути. Он приехал в Милан в феврале 1839 года с Маргеритой и малюткой сыном.
В Милане для него ничего не изменилось. Влиятельных друзей не было. Оперой «Оберто» не удалось заинтересовать ни одного импресарио.
Тотчас по приезде Верди направился в Ла Скала с твердым намерением добиться свидания с Мерелли. Теперь он решил взяться за дело сам, ни на кого не рассчитывая. Влиятельных друзей, как и прежде, не было. Надо было продвигать оперу самому.
Но ему так и не удалось повидаться с Мерелли. Импресарио был недосягаем и недоступен. Застать его в театре было невозможно.
Однажды композитор раскричался на секретаря дирекции, который с улыбкой сказал ему, как только он отворил дверь: «Синьора Мерелли нет и сегодня его в театре не будет». Композитор был уверен, что это ложь, а ложь всегда оскорбляла и возмущала его. Он ушел, хлопнув дверью, а пока он стоял на площади, съежившись от бешенства и жгучего чувства обиды, к театру подъедал новый нарядный экипаж с черным лакированным кузовом и высокими колесами, в которых мелькали красные и желтые спицы. На высоких козлах сидел кучер в ливрее с золотым позументом и золотыми пуговицами, в цилиндре с кокардой. Верди видел, как из театра вышел Мерелли и, небрежно бросив сигару, поднялся в экипаж и развалился на сиденье, и проехал мимо композитора, даже не взглянув на него, а полицейский на углу, пропуская нарядную коляску, приложил два пальца к треуголке. Ай да Мерелли! Ай да импресарио!
Однажды Верди подумал о Пазетти. Композитору не очень нравился инженер, любитель музыки – он казался человеком пустым и ненадежным. Но этот Пазетти настойчиво и неоднократно предлагал свою помощь и посредничество для переговоров с импресарио, и композитор решил, что нельзя пренебрегать никакими возможностями, чтобы как-то наладить дело с постановкой «Оберто».
Он направился к Пазетти. Инженер встретил его очень радушно и стал сыпать именами влиятельных людей, которые ни в чем не могут ему отказать. В ответ на все возражения и оговорки композитора он твердил одно:
– Пустяки, пустяки, и говорить об этом не стоит. Раз я за это берусь, все будет улажено!
И, конечно, как и следовало ожидать, он ничего не сделал. Проходили дни и недели – и все оставалось по-прежнему. Пазетти куда-то скрылся. Композитор нигде не встречал его. О Мерелли и о том, что он заинтересовался «Оберто», не было никаких сведений.
Так закончился карнавальный сезон и незаметно подошел весенний. Он начался первого апреля, на второй день Пасхи.
Утром композитор встретил на улице Мериги, виолончелиста из оркестра театра Ла Скала, и тот сказал ему:
– Приходите сегодня вечером в театр, послушайте новую примадонну. Идет «Лючия». Я оставлю вам в конторе входной билет в партер.
Вечером Верди пошел в театр и видел и слышал Джузеппину Стреппони.
Молодая артистка выступала в Милане впервые и сразу завоевала симпатии публики. После первого действия ее вызывали двадцать три раза. Вокальное мастерство ее было безупречно, а игра ее захватывала зрителей искренностью и силой чувства. Роль Лючии она проводила продуманно и проникновенно. В ней было редкое, ей одной присущее тонкое обаяние. Голос ее был прекрасен – высокое сопрано большого диапазона, окрашенное каким-то особенным, необыкновенно волнующим и неожиданным у такого высокого сопрано грудным тембром.
– Она кончила Миланскую консерваторию с отличием пять лет назад. За эти пять лет она выступила в двадцати семи театрах… И всюду с возрастающим успехом. И теперь она абсолютная примадонна.
Все это сообщил композитору Пазетти, которого он неожиданно встретил в антракте. Пазетти, как всегда, бросился к нему с распростертыми объятиями. Он держался так, как будто между ним и композитором никогда не было деловых разговоров и Пазетти не брал на себя обязательства переговорить с Мерелли об опере Верди. Он жил легко, этот инженер – любитель музыки. Он обладал счастливым умением брать от жизни только одно приятное. А хлопоты о людях неизвестных связаны, как известно, с затратой каких-то усилий, и не всегда приводят к блистательной победе. Пазетти имел обыкновение широковещательно обещать поддержку тем, кто в ней нуждался – ему было приятно чувствовать себя в роли благодетеля, – но, пообещав, он никогда не тревожил себя воспоминаниями о необходимости выполнить свои обещания.
Он считал, что человек действительно выдающийся так или иначе выбьется на дорогу; что же касается тех, которые по существу не заслуживают признания, то о них и беспокоиться нечего.
Всего приятнее было для него суетиться и шуметь вокруг молодой восходящей звезды. Это безопасно и не лишено выгоды.
Когда композитор столкнулся с Пазетти во время антракта, инженер – любитель музыки был всецело поглощен Джузеппиной Стреппони.
– Какова примадонна, а? – спрашивал он у всех. И вид у него был торжествующий, как будто именно он «открыл» и предложил вниманию публики новую замечательную артистку. – Мила, – говорил он, – очень мила, изящна, грациозна, хотя и не блистает неотразимой красотой. Это жаль. Зато умна, неслыханно умна и в высшей степени образованна. Некоторые из наших газетных сотрудников имели беседу с синьорой Стреппони, в частности молодой Солера. Он передал мне вкратце содержание беседы. Не скрою, я был поражен, поражен до глубины души. У синьоры Стреппони светлый ум, безусловно светлый ум и, кстати, очень оригинальный. Не мог отказать себе в удовольствии записать некоторые мысли синьоры. Это очень интересно. Вот послушайте…
Пазетти держал в руках раскрытую записную книжку. Они стояли в партере, сразу за креслами. Мимо них все время проходили те, которые направлялись в фойе или возвращались оттуда. Пазетти раскланивался направо и налево.
– Послушайте, послушайте… – говорил он, перелистывая книжку. Тонкая бумага шелестела у него под пальцами. И он стал читать, поминутно прерывая чтение восклицаниями и комментариями:
– «В беседе с представителями печати синьора Стреппони сказала, что в исполняемой ею музыке она больше всего любит и ценит выражение сильных страстей и глубоких переживаний». Каково, а? «И хотя ее голосовые связки и упорная работа над усовершенствованием вокального мастерства позволяют ей с легкостью преодолевать любые трудности виртуозного характера – виртуозное пение никогда не увлекало ее. Почему? Потому, что виртуозность, как самоцель, кажется ей ненужной и для искусства оскорбительной». Что? Виртуозность оскорбительна для искусства? Этого я, однако, не понимаю. Хотя отдаю должное силе и смелости такой мысли. Может быть, над этим следует призадуматься. Читаю дальше. «Цель искусства, говорит она, представляется ей очень высокой. Искусство не должно вызывать пустого удивления перед ловкостью и подвижностью человеческого голоса, искусство должно волновать сердца людей». Вот это красиво, не правда ли? И совершенно верно! Я с этим вполне согласен. Поэтому, говорит синьора Стреппони, она особенно любит те партии, где музыка наиболее сильно и правдиво – она так и сказала «правдиво» – выражает чувства героев. Эта музыка помогает ей создавать сценические образы, способные взволновать и растрогать слушателей, а это как раз то, к чему она стремится. Ну что ж, это вполне естественно для примадонны. Слушайте дальше! Из композиторов она, оказывается, больше всех любит Доницетти и Беллини, особенно Доницетти за то, что он, видите ли, ближе всех других стоит к реальной жизни. Вот тут я, собственно говоря, не совсем понимаю, что прелестная синьора хочет сказать. Реальная жизнь в искусстве – что это такое? И не кощунственно ли это по отношению к искусству? Я думал сначала, что она оговорилась, но нет, дальше она говорит, что «Доницетти ощущает в музыке подлинную правду острее, чем кто бы то ни было из композиторов современности, и это придает его творчеству необыкновенную убедительность и образность». Ну, знаете, в жизни не слышал ничего подобного! Я поражен, я не нахожу слов, чтобы выразись свое восхищенное изумление! Никогда не слышал, чтобы молодая девушка выражала мысли об искусстве с легкостью и уверенностью опытного теоретика. Это очень интересно, не правда ли? И тут же с очаровательной женской скромностью она просила не доводить через прессу до сведения широкой публики этих высказываний, потому что оба композитора – и Беллини и Доницетти – великие маэстро, и память маэстро Беллини для нее священна, и у него такая божественно певучая мелодия, как ни у кого на свете. Ну, что вы на все это скажете?
И Пазетти размахивал рукой, в которой держал записную книжку, и возводил глаза к театральному плафону, как бы призывая в свидетели хороводы фигур, написанных аль фреско художниками Гайэцом и Ваккани.
Но композитор ничего не сказал. У него не было никакого желания разговаривать и, тем более, делиться впечатлениями с Пазетти.
А когда он шел из театра домой, он думал о том, что никогда еще не слышал голоса такой необыкновенной чистоты и своеобразной окраски, что синьора Стреппони – пытливая и очень значительная артистка и что она умно и проникновенно работает над ролью. И еще он подумал: было бы хорошо, если бы «Оберто» был поставлен в Ла Скала и роль Леоноры исполнила бы Джузеппина Стреппони.
А потом для композитора опять потянулись серые, трагические в своей однообразной и безнадежной пустоте будни…
Между тем сезон в Ла Скала проходил блестяще. С утра в кассу выстраивалась очередь. Она тянулась вдоль стены театра и заворачивала на улицу Санта Маргерита, и несколько раз толпа опрокидывала и ломала деревянные загородки, которые с двух сторон устанавливались вдоль очереди, образуя узкий проход по направлению к кассе.
В публике говорили, что Мерелли подобрал труппу на редкость удачно. Джузеппина Стреппони и танцовщица Фанни Черрито насчитывали в Милане сотни самых горячих поклонников. Джорджо Ронкони и Наполеон Мориани были уже давно знаменитыми певцами и артистами. Говорили также, что импресарио чрезвычайно доволен. Доходы его в этом сезоне весьма значительны.
Однажды, проходя мимо театра, композитор встретил Мериги.
– Мне очень жаль, – сказал виолончелист, – что с вашим «Оберто» ничего не получается, я искренне огорчен этим. К Мерелли не подступиться. Он отмахивается от новой оперы. Жаль, что у вас нет влиятельных друзей, которые могли бы заставить его заинтересоваться вашей работой. С моим мнением он, к сожалению, мало считается. Но вы, маэстро, не огорчайтесь. Я уверен, что в конце концов опера ваша будет поставлена.
Потом Мериги заговорил о Джузеппине Стреппони.
– Славная, хорошая девушка, – сказал Мериги. – Я близко знал ее отца, маэстро Феличиано Стреппони. Способный был композитор, но прожил жизнь неудачником. Женился он рано, когда был еще студентом консерватории. Средств к существованию у него не было никаких. Жил впроголодь, отказывая себе во всем. Но все же кончил консерваторию с отличием. Мечтал о карьере оперного композитора, но очутился соборным хормейстером в Монце. Так сложилась его жизнь – ничего не поделаешь! У него уже тогда было четверо детей. Джузеппина была старшей – очень способная девочка. Феличиано сам учил ее игре на фортепиано и правилам контрапункта и гармонии. Бедный Феличиано! Он умер совсем молодым – ему не было тридцати пяти – и оставил семью в горькой нужде – вдову и четверых детей. Даже хоронили его по подписке – на средства добрых людей, которые помогли сделать это прилично. Джузеппине было тогда шестнадцать лет и она училась в консерватории. Училась она прекрасно и кончила с отличием по классам пения и фортепиано, но горя до окончания она видела достаточно. Горя и бедности, чтобы не сказать нищеты. Да! Я об этом кое-что знаю. Слава богу, теперь все это позади. Она содержит всю семью – мать и сестер. У нее много денег. Очень много денег! И слава богу! Я рад за нее. Она это заслужила. Она славная девушка и настоящая артистка.
В конце месяца приехал из Болоньи Массини. Он приехал на несколько дней и был неприятно поражен, узнав, что «Оберто» по-прежнему лежит без движения в портфеле композитора.
– Это недопустимо, – сказал Массини, – надо что-то предпринять, чтобы импресарио принял оперу к постановке.
– Я бы считал целесообразным, – сказал композитор, – чтобы мою работу просмотрела комиссия, состоящая из авторитетных музыкантов. Если они признают оперу достойной, она должна быть поставлена на сцене. Если же они найдут ее неудачной – я сам буду против того, чтобы выносить ее на суд публики.
Массини пожал плечами:
– Ах, оставь, пожалуйста! Ну, что ты говоришь! Какая комиссия, какие музыканты? Ну, кто, скажи мне, будет заниматься этим? Кто будет оплачивать работу такой комиссии? Ты сам не знаешь, что говоришь. Нет, надо поискать что-нибудь другое.
И тогда Массини придумал тактический ход, который должен был, по его мнению, положить конец безуспешным попыткам пристроить оперу Верди в театр Ла Скала.
Накануне отъезда он пригласил композитора пройтись с ним пешком. Оба они любили далекие прогулки. Они шли очень долго. В предместье, по дороге к Восточным воротам, они вошли в остерию. В этот час там никого не было. Они сели у окна. Было очень тепло. В саду напротив цвели каштаны и акации. Воздух был напоен ароматами. От запаха акаций кружилась голова. Каштаны были очень красивы. Цветы их напоминали зажженные свечи. Крепкий желтый стебелек стоял очень прямо, и тоненькие веточки на нем были опушены бахромкой розоватых волосинок.
Массини смотрел в окно на цветущие акации и могучие каштаны. Он казался погруженным в невеселые думы. Потом он вздохнул и сказал:
– А весна нынче поздняя, – и опять замолчал. Может быть, он ждал, чтобы композитор сам заговорил об опере. Но композитор хранил молчание.
Массини неожиданно хлопнул композитора по колену. Композитор вздрогнул.
– Вот что: с твоей оперой ничего не получается. Я хочу дать тебе хороший совет. Вот какой: обратись к Джузеппине Стреппони. Это, по-моему, единственный выход из положения. Если ей захочется петь партию Леоноры, ты выиграл дело. Мерелли не отказывает ей ни в чем.
У композитора был недоумевающий и недовольный вид. Он потирал рукой колено и собирался что-то сказать. Массини не дал ему открыть рот. Он поднял руку.
– Не возражай! Пожалуйста, не возражай! Я знаю, что такой выход тебе не по сердцу. Рад бы найти другой, но другого нет. Надо пользоваться случаем, пока не поздно. Мерелли ни в чем не отказывает Джузеппине Стреппони.
Композитор ничего не понимал:
– Джузеппина Стреппони… Почему?
– Почему, почему… – горячился Массини, – Ты, однако, не очень догадлив. Потому, что она его любовница, вот почему. Это тебя удивляет?
Композитор сказал, что это его нисколько не удивляет. Он просто не знал об этом.
– Не знал, не знал, – сказал Массини, – ну, так теперь знай! Это известно всем. Во всяком случае, многим.
– Это никого не касается.
– Ты прав, ты прав, – сказал Массини. – В конце концов, это действительно никого не касается. Связи этой уже не один год; говорят даже, что синьора Стреппони подарила Мерелли сына. Но это только говорят, никто его не видел, этого ребенка, и правда это или нет – я не знаю. Одно я знаю точно. Мерелли ни в чем не отказывает синьоре Стреппони и ревниво заботится о ее карьере. Вот обрати внимание. Пригласив ее впервые сюда, он построил весь сезон так, чтобы показать ее в самом выгодном свете. Право, похоже, что, строя сезон, он думал о ней одной. Ей лучше всего удается Доницетти – и вот, пожалуйста, весь сезон доницеттиевский. Он подобрал ей таких партнеров-мужчин, с которыми успех оперы обеспечен, и не пригласил в труппу ни одной сколько-нибудь выдающейся женщины-певицы. Ты заметил это? Впрочем, чему тут удивляться? Говорят, он сильно увлечен ею, а по годам мог бы вполне быть ей отцом. Вот он и старается.
– Это бывает, – сказал композитор. Он чувствовал себя неловко. Он испытывал непреодолимое отвращение к разговорам подобного рода. Он называл их пересудами и праздной болтовней.
– Бывает, бывает, – ворчал Массини. – Конечно, бывает, о чем говорить! Он очень богат и влиятелен. А она была бедна, ей нечем было жить, ей и семье, которая фактически могла ждать помощи только от нее, и ей надо было делать карьеру как можно скорее. Это надо понять. Тут ничего не скажешь. Жизнь подчас жестокая штука.
– Каждый живет, как хочет, – сказал композитор.
Массини покачал головой:
– Каждый живет, как ему удается, вот как надо сказать!
– Пусть так, – сказал композитор, – мне все равно. – Он слушал рассеянно и, видимо, тяготился тем оборотом, который принял разговор.
– А впрочем, – сказал Массини, – как знать? Может быть, она испытывала к нему нежные чувства. Этот мошенник пользуется успехом у женщин.
Композитор ничего не ответил. Он больше не хотел говорить на эту тему. Он уже решил показать оперу Джузеппине Стреппони и добиться ее поддержки. И он попросил Массини познакомить его с примадонной. Но Массини не мог этого сделать, потому что уезжал на другой день рано утром. Он посоветовал композитору обратиться к Пазетти.
Композитор не стал терять времени. На другой же день он разыскал Пазетти и сообщил ему о своем желании.
Пазетти засуетился. Он охотно брался за дела, благоприятный исход которых не оставлял никакого сомнения. Он уже заранее предвкушал удовольствие говорить направо и налево: «Этот молодой композитор всецело обязан мне. Одному мне. Я все это устроил, я, я, я!»
Познакомить Верди с Джузеппиной Стреппони было для Пазетти делом пустячным, но он считал, что Верди не должен этого знать. Выслушав просьбу композитора, инженер – любитель музыки дал ему понять, что устроить встречу с Джузеппиной Стреппони у нее в номере гостиницы – дело чрезвычайно трудное.
– О, да, чрезвычайно трудное, – торопливо говорил Пазетти, – скажу прямо, почти невозможное, но я сделаю все, что от меня зависит, маэстро, дорогой маэстро! Я обещаю вам приложить все усилия.
Но он ничего не достиг этой довольно ловко разыгранной комедией. Он не испугал композитора и не заставил его униженно и с волнением просить о посредничестве. И даже, сам того не зная, Пазетти чуть не лишился участия в интересном для него деле. Верди сразу решил обратиться к синьоре Стреппони без помощи посредников: написать ей письмо и попросить разрешения показать ей оперу в фойе театра Ла Скала или у нее дома, или где-нибудь в другом месте, которое она укажет по своему усмотрению. И он уже сел писать это письмо, когда пришел рассыльный с запиской от Пазетти. Пазетти вызывал композитора в кафе Мартини. И когда он пришел туда, Пазетти уже ждал его и, завидев его издали, вскочил с места и уронил стул, и монокль выпал у него из глаза, и он, казалось, не помнил себя от удовольствия и возбуждения.
– Победа! Победа! Едем к ней!
– Когда?
– Завтра утром.
И на другой день утром они отправились к Джузеппине Стреппони.
Синьора Стреппони жила в гостинице на Корсо Франческо. Помещение, которое она занимала, находилось в конце коридора. Пазетти легонько постучал в дверь набалдашником своей палки. За дверью торопливо залаяла собачонка. Им открыла горничная – очень молоденькая, хорошенькая и бойкая. Мохнатая собачонка бросилась им под ноги с явным намерением искусать их. Пазетти осторожно отгонял ее палкой. Горничная тараторила:
– Пожалуйста, синьоры, пожалуйста, прошу вас. Бьюти, перестань! Не бойтесь, синьоры, она не укусит. Заходите, сделайте милость! Вам придется подождать. Синьора еще за туалетом. Бьюти, перестань!
Она открыла дверь в гостиную. Комната была угловой. В ней было очень светло. Повсюду были расставлены вазы с цветами. В простенке между окнами стояло фортепиано. В золотой клетке качался на трапеции зеленый попугай.
– Присаживайтесь, синьоры. Присаживайтесь, прошу вас!
Они сели. Собачонка не отставала от них ни на шаг. Она заливалась неистовым лаем. Глазки-бусинки вылезали из орбит.
– Настоящий дракон, – сказал Пазетти.
Горничная засмеялась.
– Это болонка, синьор. Болонка. Бьюти, перестань!
Композитор смотрел на дверь. Пазетти с интересом разглядывал попугая. Попугай застыл на трапеции головой вниз. Он казался искусственным. Пазетти отважился просунуть палец между золотыми прутьями клетки. Попугай оживился. Он расправил крылья и зашипел, широко раскрыв клюв. Язык у него был черный и острый.
– Занятная птица, – сказал Пазетти. Он защелкал пальцами, продолжая дразнить попугая. Попугай вцепился когтистыми сморщенными лапками в золотую жердочку трапеции и закричал. Он закричал громко и резко неприятным голосом чревовещателя: «Hello, hello! All right!»
Собачонка бросилась к клетке и пронзительно завизжала. Горничная подхватила ее на руки. Пазетти замахал на попугая шляпой. Горничная свободной рукой зажала собачонке морду. Собачонка вырвалась и завыла. Попугай надсаживался в крике. Пазетти был вне себя.
– О, боже, боже! Что мы наделали! Это ужасно! Какой шум!
Джузеппина Стреппони вошла в комнату неожиданно. Она показалась композитору много меньше, чем на сцене. Ничего удивительного в этом не было. На сцене все кажется иным, чем в действительности. Синьора была очень маленького роста. Очень миниатюрная. Маленькая и очень тонкая. Она вошла в комнату неожиданно. Она улыбалась гостям любезной, хорошо заученной улыбкой – привычной улыбкой актрисы. Можно было так улыбаться и думать о другом. О чем-то своем. Она улыбалась приветливо, но глаза ее оставались печальными. Это он заметил тогда же. Она сказала:
– Беттина, унеси Бьюти!
Она говорила негромко, и голос у нее был глуховатый, даже немного хриплый.
Пазетти рассыпался в восторженных комплиментах. Синьора Стреппони слушала терпеливо и рассеянно. По-прежнему улыбаясь, она теребила конец своего длинного пояса, завязанного узлом на боку. На ней было очень красивое утреннее платье – композитор в первый раз видел такое – розоватое платье из очень легкой, почти воздушной ткани. Оно было пышное и мягкое.
Пазетти заговорил о деле, которое привело их к ней. Он говорил в таких изысканно-выспренных выражениях, что композитор не сразу понял, что речь идет о нем. Синьора Стреппони взглянула на него. У нее был очень внимательный, может быть, слишком пристальный взгляд, и глаза оставались печальными.
Он истолковал ее взгляд как приглашение перейти к делу и стал развязывать шнурок, которым была перевязана панка с клавиром оперы. Попугай не переставая орал свое hello, hello! Композитору становилось не по себе от этих незнакомых слов, от этих скрипучих и гортанных звуков.
Синьора Стреппони повернула голову. У нее были черные волосы, очень гладкие и блестящие, и она иногда проводила по ним ладонью.
– Занятная птица, – сказал Пазетти.
– Это подарок из Америки, – сказала синьора. Она подошла к клетке и несколько раз ударила рукой но золотым прутьям. Попугай перелез с трапеции в костяное кольцо и продолжал орать. Синьора Стреппони поднесла пальцы к ушам.
– Он меня совсем оглушил, противный! Замолчи, Лорито!
– Замолчи, Лорито, – повторил Пазетти.
Синьора Стреппони взяла с кресла черную шелковую шаль и накинула ее на клетку. Попугай сразу умолк. Синьора Стреппони улыбнулась с облегчением.
– Он больше не будет нам мешать. Я слушаю вас, маэстро. – И опять посмотрела на композитора. Она была очень маленькой и тонкой. Ей уже исполнилось двадцать три, а выглядела он лет семнадцати, не больше. Совсем девочка.
Он прокашлялся и начал рассказывать содержание оперы. Она почти сразу перебила его. Она сделала это как-то очень ловко и умело, необыкновенно ловко и умело, потому что он даже и не заметил, как это получилось и как она взяла у него из рук клавир оперы и пошла с ним к фортепиано и Пазетти с поклоном пододвинул ей табурет и поднял пюпитр. Она поставила перед собой его оперу, быстро перелистала страницы и стала играть. Верди растерялся от неожиданности и, говоря откровенно, испугался: ну что она там разберет в рукописи новой оперы, – но опасения его были напрасны, потому что она играла очень хорошо, бойко и почти без ошибок. И тогда он вспомнил: да, да, Мериги говорил ему, что она окончила Миланскую консерваторию по классу фортепиано и окончила с отличием. Но он еще ни разу не встречал певицы, которая бы так свободно читала с листа неизвестную ей рукопись. Она получила, по-видимому, очень солидное музыкальное образование. Может быть, потому, что ее отец был даровитым композитором. Феличиано Стреппони. Две оперы его были поставлены в Ла Скала.
Синьора напевала свою партию вполголоса и время от времени повторяла:
– Мне нравится. Мне нравится.
На правой руке, на безымянном пальце у нее было кольцо с большим синим камнем. Должно быть, очень дорогое кольцо. Оно было укреплено на руке совсем особым образом. От него была протянута цепочка, которая соединяла его с браслетом. Браслет плотно обхватывал кисть руки – так, что потерять кольцо было невозможно. Очень ценный подарок, должно быть. Цепочка была довольно длинной и, по-видимому, она совсем не мешала синьоре играть, потому что синьора играла очень ловко. Она очень быстро перебирала пальцами.
Но все же она играла не совсем то, что ему хотелось, и он все время собирался сказать ей это, но никак не мог улучить подходящей минуты, а когда он наконец решился, синьора Стреппони перестала играть, повернулась к нему и сказала:
– Это в самом деле очень хорошо, маэстро. Это отличная музыка. Я непременно уговорю моих партнеров выступить в этой опере.
Конечно, о Мерелли она не обмолвилась ни единым словом, но само собой подразумевалось, что она прежде всего поговорит с ним и, конечно, добьется его согласия на постановку оперы.
И в эту минуту кто-то опять постучал в дверь, вышла горничная и что-то сказала синьоре шепотом. Синьора нахмурилась и сказала:
– Нет, нет, нет, я не принимаю. Скажи, что я еще не одета. – И встала.
Тогда Пазетти вскочил с места, как ужаленный, стал лепетать что-то о драгоценном времени синьоры, о преступлении, которое они совершают, отнимая это драгоценное время, и так далее, и так далее – какие-то общепринятые преувеличения и несообразности. Синьора слушала его и между бровей у нее была складка, которая так и не разгладилась до их ухода.
– Я непременно уговорю моих партнеров выступить в этой опере, – сказала она. А партнерами были не кто-нибудь, а Джорджо Ронкони и Наполеон Мориани. Вот какие знаменитости! Ронкони был певец, любимый всем народом, великий артист и горячий патриот. А Мориани был недавно вошедшим в моду тенором, баловнем миланской публики и кумиром женщин. Уговорить таких знаменитых певцов выступить в опере неизвестного композитора – дело нешуточное. Он сам отлично сознавал это.
И все же она сумела это сделать. Они даже начали разучивать свои партии. Ну, конечно, без того энтузиазма, с которым это делала синьора Стреппони, но все же они начали разучивать. Композитор сам занимался с ними раза два. Один раз он ездил к ним в гостиницу, а другой раз это было у синьоры Стреппони. Да, не больше двух раз это было. Потом заболел Мориани.
Сначала это не показалось композитору катастрофой. Никаких угрожающих симптомов не было – просто недомогание, а может быть, всего-навсего каприз, приступ тщеславия, желание порисоваться перед публикой, желание стать, хотя бы на время, единственным предметом самых возбужденных разговоров в театре, в салонах и кафе. Знаменитые тенора взбалмошны и прихотливы, как женщины. Не все, конечно. И не всегда. Но зачастую. Так что сначала это не показалось композитору катастрофой.








