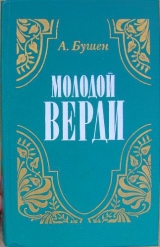
Текст книги "Молодой Верди. Рождение оперы"
Автор книги: Александра Бушен
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 24 страниц)
– О, – сказал он наконец, не добившись от композитора никаких занимательных сведений, – хотел бы я послушать увертюру к вашей новой опере.
Композитор удивился:
– Почему именно увертюру?
– Почему? – Пазетти хитро улыбнулся. – Потому что, имея в распоряжении такой выдающийся оркестр, как оркестр театра Ла Скала и такого превосходнейшего дирижера этого оркестра, каким является Эудженио Каваллини, вы, конечно, должны были написать весьма значительную увертюру, чтобы дать возможность всем этим артистическим силам достойно проявить себя и тем самым порадовать пашу высокопросвещенную публику.
– Увертюры нет, – сказал Верди, – шестнадцать тактов музыки, поднимается занавес и вступает хор.
– Не может быть, – закричал Пазетти, – не может быть, чтобы вы так разочаровали и огорчили нашу высокопросвещенную публику!
Композитор пожал плечами.
– Ваша высокопросвещенная публика никогда не слушает увертюры. Для чего писать? Для того, чтобы было веселее разговаривать и рассаживаться?
– О, – сказал Джованни, – что ты говоришь? Как можно? Ты же так замечательно пишешь увертюры. Синьор инженер, знаете, он с детства уже писал замечательные увертюры. Ему было пятнадцать лет, когда он написал увертюру, которую в нашем городе исполняли перед оперой великого маэстро Россини, перед «Севильским цирюльником». Вы не поверите, какая это была увертюра, синьор инженер, и какой это был успех!
– Глупости, – сказал композитор, – есть о чем говорить! Он строго посмотрел на Джованни. Кто разрешил ему болтать всякий вздор, да еще в присутствии Пазетти?
Джованни осекся. Пазетти казался крайне заинтересованным. Наконец-то он узнал нечто, еще никому не известное.
– Какая любопытная подробность, – сказал он, – увертюра к «Севильскому», написанная в пятнадцатилетием возрасте. Маэстро, маэстро, ваш молодой друг прав. Вы не можете оставить вашу теперешнюю оперу без увертюры. Увертюра должна быть! Вы сами должны понять это. Даже в маленьком провинциальном городе потребовалась увертюра к опере. Даже к опере божественного маэстро Россини! А вы хотите свою оперу, о которой говорят так много, оставить без вступления, нет, нет, это невозможно, вы сами понимаете это!
– Так это или не так – об этом сейчас говорить и спорить бесполезно, – сказал композитор. – У меня уже не осталось времени написать эту увертюру.
– О, – сказал Джованни, – тебе стоит только захотеть и ты напишешь. Я уж знаю.
– Уверяю вас, маэстро, – настаивал Пазетти, – это необходимо. Вы пожалеете, если не снабдите оперу торжественным вступлением. Публика любит это, а публика – это тиран и деспот, которому следует угождать. Не пренебрегайте ни одним шансом на успех, дорогой маэстро. Не делайте этого, предостерегаю вас от души.
Композитор ничего не ответил. Пазетти и Джованни ему надоели. У него было желание избавиться от них обоих. Он подумал было сказаться больным и повернуть домой, но тотчас отказался от этого намерения. Этим ничего не изменишь. Джованни все равно не отвяжется от него и не оставит его в покое.
В кафе, куда привел их Пазетти, было много людей. Они нашли свободный столик в нише, в глубине зала. У Пазетти было много знакомых; он раскланивался направо и налево и пожимал множество рук. Джованни не помнил себя от удовольствия. Он не сводил глаз с Пазетти и слепо верил каждому его слову, а Пазетти, очень довольный впечатлением, произведенным им на молодого провинциала, обращался с ним покровительственно.
Они заказали кофе. Композитор по обыкновению молчал. Он думал об увертюре. Пожалуй, он ее напишет.
Пазетти называл Джованни имена известных людей, сидевших за столиками, рассказывал о них сплетни и анекдоты и комментировал их поведение. Джованни слушал, вытаращив глаза и недоумевая. Он заметил, что очень многие смотрят на их столик и это его смущало. Почему бы это? Может быть, его, Джованни, любопытные взгляды по сторонам, может быть, это его настойчивое разглядывание публики выдавали в нем плохо воспитанного провинциала? Но только он собрался как-нибудь иносказательно спросить об этом у Пазетти, как инженер неожиданно встал и пошел обходить знакомых. Джованни был предоставлен самому себе. Он посмотрел на Верди. Композитор только что про себя решил, что напишет увертюру к опере. Это вполне возможно, и он это сделает. Тематического материала в опере достаточно. Надо только выбрать и хорошо распланировать его.
– Иду домой, – сказал он неожиданно.
Джованни опешил. Он собирался возразить, но не успел этого сделать, потому что в эту минуту вернулся Пазетти. Он был весь улыбка, весь любезность и предупредительность.
– Маэстро, – сказал он, – все говорят о вашей опере.
– Что же говорят? – не утерпел Джованни.
– В том-то и дело, что никто не говорит ничего определенного. Никто толком ничего не знает. Носится какие-то слухи, идущие из театра. Говорят о необыкновенной музыке, любопытство возбуждено до крайности, и все с величайшим нетерпением ждут премьеры. Все это очень хорошо. Рад за вас, маэстро.
– Благодарю за компанию, – сказал Верди, – мне пора. – И встал из-за стола.
– Я с тобой, – сказал Джованни самоотверженно. Конечно, очень жаль было покидать ярко освещенное кафе, где так много интересного, и у него даже мелькнула мысль остаться здесь с Пазетти, но он подумал об отце. Что скажет он отцу, когда тот спросит, как он провел первый вечер по приезде в Милан? Нет, нет, оставаться без Верди здесь ему нельзя. И Джованни тоже встал.
– Я с тобой, – повторил он решительно.
– Куда же вы, маэстро? – удивился Пазетти. – Ведь еще рано. – Впрочем, Пазетти удерживал своих гостей не очень настойчиво. Бог с ним, с этим композитором. Он был не особенно нужен инженеру – любителю музыки. Слишком молчалив и примитивен. Все видели его за столиком Пазетти. Этого вполне достаточно. Даже хорошо, что он уходит, думал Пазетти, бог с ним совсем. Без него свободней. Присутствие Верди чем-то стесняло словоохотливого инженера.
Композитор прошел между столиками к выходной двери. Все посетители кафе оборачивались и смотрели ему вслед. Но он шел с опущенными глазами и не видел этого.
Джованни, весь красный от смущения, бодро шагал за ним.
Едва только захлопнулась за ними дверь, как в кафе разыгралась маленькая сценка интермедийного характера, совершенно неожиданная для Пазетти. В кафе зашел второй хормейстер театра Ла Скала Джулио Гранателли и занял один из освободившихся столиков. И, конечно, к нему тотчас бросились с расспросами.
Обступили столик и ждали, что он скажет. Потому что кто же, если не хормейстер театра, мог сообщить самые исчерпывающие и точные сведения о новой опере?
Джулио Гранателли был человек пожилой, тучный и коротконогий. У него было круглое мясистое лицо, обрамленное седоватыми бачками, и маленькие бесцветные глазки. Он был человеком озлобленным и недалеким, но если слабость его умственных способностей была известна многим, то злобность он очень ловко скрывал под видом хорошо наигранной прямоты и добродушия. Он был неудавшимся певцом и неудавшимся композитором. В молодости у него был небольшой голос, тенор не очень приятного тембра, но все же тенор, и он певал в театрах в маленьких городках, где оперные труппы гастролировали только во время ярмарок. Но голоса он лишился очень скоро и был вынужден уйти со сцены.
Что же касается написанных им немногочисленных опер, то ни одна из них успеха у публики не имела. Теперь он был вторым хормейстером в театре Ла Скала, хитро играл роль добродушного старичка, писал только поздравительные и торжественные кантаты по заказу высокопоставленных лиц и был на самом лучшем счету у австрийского начальства. Гранателли считал за композиторов только тех, которые были общепризнаны и знамениты. Таким композиторам он кадил и славословил, начинающих же нещадно критиковал и преследовал. Все это, однако, под видом участия и простоты душевной.
Джулио Гранателли спросил себе вина.
– Скажите, маэстро, правда, что у вас в театре разучивают какую-то необыкновенную музыку? – Гранателли смотрел вокруг маленькими бесцветными глазками и не торопился с ответом. – Ну, маэстро, не делайте из этого секрета. Скажите нам, что это за музыка?
– Скажу, дорогие мои, – ответил Гранателли. Он был родом из Альтамуры и до старости сохранил манеру говорить и произношение, выдававшее в нем южанина.
– Скажу, скажу, конечно. Очень много шумят и болтают об этой опере. И напрасно, дорогие мои, напрасно. Не следовало бы делать этого. – Он замолчал и отхлебнул вина. – Напрасно, напрасно, – говорил он, качая головой, как бы сетуя и сокрушаясь. Он поднял голову и заговорил громче, но по-прежнему мягко и вкрадчиво. – Музыка плохая, дорогие мои, грубая музыка, плохо написанная музыка, дорогие мои, вот что я вам скажу!
– Да как же так?
– Что вы говорите, маэстро?
– Однако все в театре говорят совсем другое!
Гранателли презрительно махнул рукой.
– Кто говорит, дорогие? Кто? Кого слушаете? Шутники какие-нибудь посмеялись, а по городу пошло и пошло. О чем говорить? Плохая музыка! Грубая. Звучит напряженно. Голоса срывает. Не нужна нам такая музыка, дорогие. Сами знаете, что не нужна. Мы любим певучесть, мы любим красивую мелодию, грацию, изящество, легкость, не так ли? А тут этого нет. И не ищите! Тут не поймешь что! Чертовщина какая-то! Можете мне поверить! – И Гранателли благодушно прихлебывал вино.
Пазетти был как нельзя больше раздосадован. Все шло так удачно и гладко. Он привел с собой композитора, он был в центре внимания и ему верили. А теперь нелегкая принесла этого Гранателли, который опровергает все то, что говорил Пазетти. О, конечно, он был до чрезвычайности раздосадован. Однако он постарался скрыть свои чувства и смеялся, и беседовал с приятелями, и как будто не слышал разглагольствований Гранателли. Но на самом деле он напряженно прислушивался к речам старика и обдумывал, как ему поступить, чтобы выйти из игры невредимым и не быть случайно втянутым в разговор, который, как ему казалось, грозил осложнениями.
И действительно! За соседним столом сидела компания молодых людей, которые очень внимательно слушали то, что говорил Гранателли. И едва только он умолк, как один из молодых людей, спешно посовещавшись со своими товарищами, встал и обратился к хормейстеру театра Ла Скала. Юноша говорил громко и ясно, и разговоры за другими столиками мгновенно прекратились.
– Маэстро, – сказал юноша, – вы старый опытный хормейстер, за вами много лет работы и за это вас следует уважать. Но сейчас вы солгали. Мы знаем и совершенно точно, что музыка маэстро Верди прекрасная музыка, мы знаем, что эта музыка волнует сердца тех, кто с ней соприкасается, и, может быть, это как раз та музыка, о которой мы тоскуем и к которой мы стремимся. И мы не уважаем вас за то, что вы нарочно умаляете достоинства нового композитора и стараетесь навязать нам вашу личную, извините, замшелую точку зрения.
Ну, конечно, как всегда в таких случаях, в кафе поднялись невообразимый шум и крики, и пошла суматоха. Кто-то кричал о патриотизме, кто-то требовал справедливости, и топали ногами, и стучали кулаками по столам, и все поддерживали неизвестного юношу.
Маэстро Гранателли не на шутку струсил. Он оправдывался с виноватым видом:
– Я ведь не говорю, что маэстро Верди плохой композитор. Кто мог понять меня так, дорогие? Я уверен, что он даровит. Почему же нет? Таланты в нашей стране не переводятся.
Но его не слушали. Его слова о новой опере вызвали всеобщее негодование. Его седоватые бачки и бесцветные глаза вызывали отвращение, и эта его нездоровая тучность…
– У нас всегда так, – говорил молодой человек со строгим лицом и горящими глазами, – появляется что-то новое, чего еще никто не знает, но что заранее волнует и захватывает многих, и тотчас находится этакая скверная личность, готовая прислужиться к начальству, и заранее оплевывает ядовитой слюной то, что может для всех стать дорогим и нужным.
И кто-то крикнул:
– Долго ли мы будем терпеть такую мразь?
И тогда хозяин кафе торопливо вышел из-за стойки: он был очень встревожен. Атмосфера в кафе была накаленной донельзя, но так как никакой политической окраски в этом инциденте не было, ему не могли грозить неприятности. Во всяком случае, вмешательства полиции сегодня не требовалось, и это было хорошо. Но, конечно, в кафе могли быть люди, которые всегда готовы по-своему истолковать любое происшествие, такие люди, которые во всем видят политическую неблагонадежность, и тогда хозяину кафе несдобровать. Поэтому-то он и был встревожен. Надо же было случиться такой неприятности! И с кем? С таким почтенным завсегдатаем, как маэстро Гранателли. И хозяин своим появлением среди столиков старался навести в кафе порядок и водворить тишину. Но он был – увы! – бессилен внести успокоение в разбушевавшееся море страстей. Этот разговор о новой опере грозил поистине принять весьма опасный характер.
Все были возбуждены до чрезвычайности. В кафе стоял невообразимый шум и гомон. Отодвигали стулья, переходили от одного столика к другому: все говорили сразу и уже трудно было понять, что собственно, здесь происходит и чем вызвано такое волнение. Но прислушавшись повнимательнее, можно было понять, что люди говорят о любви к родине и о героях, об угнетении народа и о тех, кто продался чужеземцам…
Пазетти воспользовался суматохой и выскользнул из кафе на улицу. Он был очень рад, что сумел сделать это незаметно. Ужасно неприятная история!
Верди шел к дому быстрым шагом. План увертюры был ему совершенно ясен. Надо было как можно скорее записать его. Джованни попробовал было заговорить о чем-то, но композитор резко остановил его: «Помолчи, пожалуйста!»
Так молча они дошли до дома, поднялись по лестнице, вошли в комнату. Композитор сразу сел к письменному столу. Джованни походил немного по комнате, несколько раз зевнул, шепотом пробормотал «спокойной ночи» и, вздыхая, стал укладываться спать.
Композитор, не подымая головы, писал увертюру. Он построил ее на контрастах и противопоставлениях. Начиналась она торжественным, плавным и полнозвучным вступлением и непосредственно переходила к теме хора, проклинающего Измаила, переходила в шепот, в отрывистую скороговорку с резкими громогласными возгласами всего оркестра. Среднюю часть занимала тема хора порабощенного народа, взятая композитором для большего контраста в трехчетвертном размере. Затем возвращалась тема проклятия, сопоставленная на этот раз с темой неистовства ассирийцев. И это последнее настроение – жестокость и жажда разрушения завоевателей – приводило к финалу увертюры, к коде, опять к теме проклятия изменнику Измаилу, но на этот раз в звучности, устрашающей по силе и нарастающей до самого конца.
Композитор писал быстро и непосредственно. К утру он кончил. Поставил на бумаге последнюю ноту и облегченно вздохнул. Он был доволен. Увертюра вышла такой, какой была задумана: лаконичной, яркой и сильной.
Как всегда после бессонной ночи, он открыл окно. Было тихо, пасмурно и туманно, но дождя не было и было необыкновенно тепло и парно. В такую погоду быстро набухают и распускаются почки. Начиналась весна.
Джованни крепко спал, повернувшись лицом к стене. Он с вечера так ни разу и не проснулся. Композитору совсем не хотелось спать. Он решил, что ложиться не стоит. Сел к письменному столу и стал аккуратно расписывать оркестровые партии законченной им увертюры.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
У Клары Маффеи не было определенного дня для приема друзей, но все знали, что ее можно застать дома каждый вечер от семи часов, за исключением тех вечеров, которые она проводила в Ла Скала. И каждый вечер кто-нибудь заходил к ней, и у нее можно было всегда застать гостей: тесный кружок или многочисленное общество. К ней ходили запросто. Ходили писатели и художники, музыканты и актеры. Это вошло в обычай. Встречались и говорили друг другу: «Идемте к графине Маффеи». Так называли ее: графиня Маффеи. Хотя муж ее, Андреа, не имел титула, и Клара, графиня Каррара-Спинелли, утратила титул, выйдя замуж.
Это было десять лет назад. Ей было тогда восемнадцать, а Андреа Маффеи тридцать четыре. Он был поэтом и поэтом известным. Он писал изящные, легко льющиеся стихи и с успехом переводил Шиллера. Он вырос в Мюнхене и отлично знал немецкий язык. В Милане Андреа служил в высшем апелляционном суде. Чиновником он был нерадивым, к службе относился равнодушно и испещрял стихотворными строками широкие ноля официальных бумаг. Однажды кто-то сказал ему:
– Вам следовало бы жениться!
Он засмеялся и ответил: – Ну что ж, я, пожалуй, не прочь.
Отец Клары был вдов и со страхом думал о том дне, когда ему придется взять взрослую дочь из пансиона мадам Гарнье. Андреа был очень хорош собой, и он был поэтом. Клара со всей горячностью молодости отдала ему сердце.
Разочарование наступило очень скоро. Андреа обнаружил, что он не создан для семейной жизни. Привычки холостого человека сильно укоренились в нем. Он смолоду пристрастился к азартной игре, любил выпить и повеселиться в мужской компании. Возвращаясь со службы, он неизменно заходил в кафе – к Мартини, к Кова. Он был в самых лучших отношениях с австрийским начальством и сослуживцам и австрийцами. И среди этих сослуживцев-австрийцев было у него немало приятелей и собутыльников.
А вот Клара – та ненавидела австрийцев. Она не могла иначе. Она привыкла видеть в них угнетателей родины. Это не нравилось Андреа. Он называл жену глупенькой девочкой и провинциалкой. Провинциалкой потому, что Клара родилась и провела детские годы в Бергамо. Андреа уверял, что среди австрийцев, и особенно среди офицеров, есть очаровательные люди, безупречно воспитанные, с отменными манерами. Клара выслушивала мужа молча, но не соглашалась с ним.
Иногда Андреа возвращался домой очень поздно. Клара грустила, поджидая его терпеливо и безропотно.
Через год у них родилась девочка. Клара преобразилась. Жизнь ее наполнилась смыслом. Она ощущала себя безгранично счастливой матерью. Через десять месяцев ребенок умер. Клара не помнила себя от горя. Ей было девятнадцать лет – и уже не хотелось жить. Она казалась окаменевшей и ко всему безучастной.
Андреа по-прежнему бывал в обществе. Он говорил о жене: «Бедняжка очень тоскует!» Клару навещали приятельницы. Они приносили с собой рукоделие, усаживались поудобнее и, вышивая шелками и шерстью замысловатые узоры по канве и бархату, мило щебетали и рассказывали друг другу новости.
Среди подруг и приятельниц Клары были дамы молодые и красивые. Андреа с удовольствием заходил к жене, когда у нее были гости. А потом он стал приглашать к себе в дом людей, пользовавшихся известностью в артистическом мире.
Однажды с ним вместе пришли Массимо д’Адзелио и Томмазо Гросси. Массимо д’Адзелио был человеком светским, блестящим рассказчиком и остроумным собеседником, талантливым художником и прославленным писателем. Он очаровал общество, собравшееся в тот вечер у Клары.
Томмазо Гросси был нотариусом, но все знали его как знаменитого поэта. А совсем недавно было опубликовано его первое произведение, написанное прозой, – исторический роман «Марко Висконти». И эта книга наделала много шума. Потому что в ней убедительно и громко звучала нота патриотизма, потому что в ней говорилось о борьбе народа с иноземным императором, пришедшем из-за Альп и ограбившим страну. И хотя твердая рука цензуры произвела в тексте романа самые чудовищные сокращения и даже смысловые изменения, книгой зачитывались. Потому что все умели читать между строк и упивались аналогиями и намеками.
Клара оказалась отличной хозяйкой дома. Она была молчалива, но слушала других с подкупающим вниманием и глубоким интересом. Она владела секретом располагать к себе людей. Ей охотно поверяли и горести, и сомнения, и она всегда умела обласкать и оказать поддержку: искренним сочувствием, добрым советом.
Она с детства любила искусство и глубоко чувствовала его. Она инстинктивно и безошибочно отличала подлинно прекрасное от ловкой подделки. С годами же она научилась по-настоящему, строго и проникновенно разбираться в искусстве и в суждениях своих была смела и самостоятельна. Однако она не любила высказываться громко и безапелляционно и не старалась навязывать свое мнение другим.
Андреа стал редко заходить в гостиную к жене. Он предпочитал проводить вечера в кафе и за игорными столами. Игру он вел крупную и проигрывал значительные суммы. Клара уже не раз оплачивала выданные им векселя.
К коронационным торжествам 1838 года Андреа написал текст кантаты в честь императора. Простить ему этого Клара не могла. Ненависть ее к угнетателям принимала характер протеста, глубоко скрытого и молчаливого, но тем более жгучего.
В самый разгар коронационных празднеств, торжественных процессий, парадных спектаклей и банкетов Андреа Маффеи тесно подружился с художником Мольтени, награжденным австрийским орденом за пышно приукрашенный портрет Фердинанда. Мольтени изобразил большеголового эпилептика с мутными глазами и потухшим взором – величественным и важным, – изобразил его с высоким лбом государственного человека и зоркими глазами мудрого правителя.
И вот, в то время как Андреа в доме у Мольтени осушал кубок за кубком за здоровье и благоденствие монарха и импровизировал витиеватые тосты во славу императора, Клара проводила долгие часы в Брере, где народ толпился перед новыми работами скульпторов, перед тремя мраморными группами, где был трижды и по-разному, но каждый раз с новыми реалистическими подробностями изваян закованный в цепи Уголино, умирающий голодной смертью со своими детьми. Так – молча – протестовал Милан против навязанного стране торжества коронации Фердинанда. И вместе со всеми протестовала и Клара.
Андреа совсем перестал появляться в салоне жены. Все реже и реже бывали у Клары мило щебечущие дамы. Зато все чаще стали собираться у нее патриоты – люди, готовые отдать жизнь за счастье родной страны, страстные почитатели и приверженцы Мадзини. И хотя имя борца за освобождение родины, имя вождя и проповедника идеи народного возрождения вслух не произносилось, каждая опубликованная им в изгнании статья благоговейно прочитывалась и горячо комментировалась. Так постепенно гостиная Клары Маффеи стала местом встречи лучших людей Милана – патриотов и людей искусства. И хотя у Клары Маффеи не было определенного дня для приема друзей, все знали, что она дома каждый вечер от семи часов, за исключением тех вечеров, которые она проводила в Ла Скала.
Каждый вечер кто-нибудь заходил к ней, и в ее гостиной всегда можно было застать гостей – тесный кружок друзей или многочисленное общество.
Так было и сегодня.
Весь день лил дождь, и до восьми вечера у Клары никого не было. Она сидела одна в своем любимом глубоком кресле с вязаньем в руках. Сначала она работала очень прилежно и быстро перебирала спицами, а потом опустила вязанье на колени, прислонилась к бархатной спинке кресла, сложила руки, опустила глаза и сидела так, праздно и неподвижно.
В комнате было тепло и уютно. Горела только одна лампа, большая фарфоровая лампа под розовым абажуром на рабочем столике. Под лампой в стеклянной вазе стояли цветы – гиацинты, тюльпаны и нарциссы, и от них исходил еле ощутимый, точно разбавленный водой аромат. Было тихо – так тихо, что когда неожиданно осыпался тюльпан, Клара слышала, как лепестки его упали на стол. Кларе было очень приятно сидеть так и ни о чем не думать, и ей было хорошо оттого, что кругом так тихо, тепло и спокойно.
Но ровно в восемь в соседней комнате зашуршало шелковое платье, и в гостиную быстрыми шагами вошла донна Каролина Барбьери, давнишняя подруга Клары по пансиону мадам Гарнье. Она вошла, смеясь и поправляя немного развившиеся локоны, и сразу заговорила весело и торопливо:
– Боже мой, дорогая, что за погода! Служанка держала надо мной зонтик, но, выйдя из экипажа, я ступила в лужу, а с зонта на меня полились потоки воды. Что за погода, боже мой! У тебя никого, дорогая? Ты совсем одна? Бедняжка!
Она обняла Клару и поцеловала ее в лоб. И вдруг увидела серого котенка, который спал, свернувшись клубочком на широком подоле Клариного платья. – Ах, какая прелесть! – Проворно нагнулась, схватила спящего котенка и стала ласкать его и целовать в розовую мордочку. А котенок вырывался у нее из рук и отталкивался от нее, и царапал, и рвал острыми когтями черный атласный лиф.
– У-y, разбойник! – Донна Каролина сбросила его на пол, потом расправила широкую юбку и села на низкий табурет у ног Клары.
– Фи, – сказала она, – какая скучная расцветка.
Клара вязала детскую кофточку из серой шерсти.
Она давно забросила вышивание красивых, но ненужных безделушек, и если брала в руки иглу или спицы, то шила или вязала теплые вещи для маленьких детей, родители которых были бедны.
Клара подняла работу поближе к свету.
– Зато не марко, – сказала она деловито.
– Но очень скучно, – настаивала донна Каролина.
– Нет, ничего, – сказала Клара, – я обвяжу это кругом цветной каемкой.
– Дай, я подберу тебе хорошие тона, – сказала донна Каролина.
Клара передала ей корзиночку с моточками разноцветной шерсти. Донна Каролина взяла корзиночку к себе на колени и наклонилась над ней.
Дамы помолчали. Донна Каролина поглядывала на дверь, которая вела в маленькую гостиную, а оттуда – в прихожую.
– Вот самые чудесные цвета, – сказала она. – Обвязывай!
Клара подняла голову, и обе засмеялись. Донна Каролина держала на ладони три клубочка шерсти: розовый, зеленый и белый – цвета национального флага.
– Я не хочу, чтобы у малютки были неприятности, – сказала Клара. – Тем более, что это мальчик.
– О, – воскликнула донна Каролина, – в таком случае это, действительно, опасно. Впрочем… – и вдруг остановилась на полуслове и сказала шепотом: – Кто-то идет, – и повернула голову к двери.
Они вошли вместе: художник Босси и доктор-алиенист Алипранди – известный психиатр. И с доктором – неизвестный человек, еще молодой, но необыкновенно бледный, бледный до желтизны, как человек, долгое время лишенный воздуха и солнечного цвета. Такими выходят из больниц и тюрем.
Клара встала навстречу гостям. Котенок, который снова заснул, свернувшись на подоле ее широкого платья, покатился по ковру и запищал.
– Мой друг, синьор Мартини, – сказал Алипранди. – Адвокат из Генуи. В Милане проездом.
– Очень приятно, – сказала Клара, – рада видеть вас.
Синьор Мартини поклонился молча и без улыбки. Лоб его перерезали глубокие морщины. Рука, державшая шляпу, казалась восковой. Доктор Алипранди оказывал ему почтительное внимание. Дамы переглянулись. Адвокат из Генуи! Как интересно! Донна Каролина взволнованно вздохнула.
Сначала разговор никак не налаживался. Говорили о каких-то пустяках. О том, что февраль был на редкость дождливым, – посмотрим, что покажет март; о том, что у модистки, мадам Софи на Корсо Франческо, получены модели весенних капоров, и эти капоры очень неизящны по форме: «караульные будки, а не капоры», – сказала донна Каролина; говорили о том, что по городу ходят слухи о новой опере, но проверить, что в этих слухах правда, а что вымысел, – невозможно: Мерелли держит оперу в строжайшем секрете.
– Ждать недолго, – сказала Клара, – всего пять дней. Премьера девятого.
В ответ на это Босси сказал, что в ближайшее время предстоит еще одна премьера, и тут уж заранее можно сказать, что произведение, которое намечено к исполнению, гениально и вдохновенно.
– В Болонье пойдет Stabat Mater Россини, – сказал Босси. – Все с величайшим нетерпением ожидают этого события. – И прибавил – Многие хотят надеяться, что после Stabat Mater маэстро снова вернется к музыке для театра.
И тотчас разговор сделался общим и принял самый оживленный характер. Каждому хотелось сказать свое слово о Россини. То, что маэстро в течение тринадцати лет не написал ни одной оперы, никому не давало покоя. К этому печальному факту возвращались постоянно и горевали, и надеялись, и горячо спорили, и высказывали всевозможные догадки, и строили самые различные предположения.
Так и теперь. Алипранди сказал, что появление Stabat Mater нисколько не изменяет существующего положения вещей; считать эту премьеру событием большого общественного значения нельзя, потому что не такого рода произведения являются сейчас насущными и жизненно необходимыми. Не Stabat Mater следовало бы ожидать от маэстро Россини, а произведения для сцены. А этого он не написал и, по всей вероятности, не напишет.
– Это ужасно, – сказала Клара. – Горестно и больно, что маэстро Россини перестал писать для театра.
Горестно сознавать, что он оторвался от своей страны, от ее интересов и нужд. Этого я никак не могу понять.
– Маэстро Россини – гениальный композитор и плохой патриот, я уже давно поняла это, – уверенно сказала донна Каролина.
– Не говори так, – воскликнула Клара, – больно слышать это!
И тут заговорил синьор Мартини. Он заговорил негромко и проникновенно, оставаясь неподвижным и устремив глаза куда-то вдаль.
– Маэстро Россини, – сказал он, – появился в период поистине ужасающего для нашего искусства безвременья. Он выступил бесстрашно и самозабвенно, как революционер и новатор. Он восстал против тирании тех, кто не способен творчески мыслить, но сумел навязать свою волю творчески одаренным художникам. Он выступил против устаревших и омертвевших правил, сковывавших вдохновение музыкантов. Он провозгласил свободу и независимость творчества, оплодотворил застывшее и захиревшее музыкальное искусство. Мало того, он согрел и воспламенил это искусство, он насытил его напевностью, он спас его от гибели и возвратил к жизни. Разве можно забывать об этом? И хотя великий маэстро ныне умолк и не внемлет голосу друзей, тщетно взывающих к нему, и можно подумать, что он далек от нас и далек от родины и, может быть, – увы! увы! – так оно и есть, – долг велит нам свято хранить память о том, что маэстро Россини – именно он и никто другой! – спас от гибели музыку нашей родины. За это – слава ему!
– Слава, слава ему! – воскликнул Босси.
Синьор Мартини поднял руку.
– Это не все, не все, что сделал великий маэстро для своей страны и своего народа. В те тяжелые годы, когда родина была так беспредельно принижена, что завоеватели отказывали нашему искусству в праве на самобытность и низвели нашу несчастную страну до положения поставщика вокальных виртуозов для иностранных дворов, маэстро Россини – именно он и никто другой! – силой гениального своего дарования доказал существование оперной музыки, выросшей на нашей родной земле, оперной музыки, вспоенной и вскормленной лучшими творческими силами нашего народа. Вот что еще сделал маэстро Россини для своей страны и своего народа! Разве можно забывать об этом? И если сейчас маэстро не тот, каким мы бы хотели его видеть, то мы всегда должны помнить одно: имя Россини – это слава Италии!








