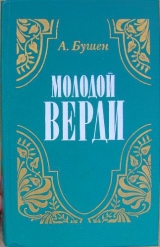
Текст книги "Молодой Верди. Рождение оперы"
Автор книги: Александра Бушен
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 24 страниц)
Так было и теперь.
Публика вела себя по-прежнему шумно и развязно. И сегодня особенно развязно и особенно шумно. Она была лихорадочно возбуждена и настроена воинственно, как в день премьеры новой оперы или дебюта нового артиста. Она была насторожившейся и опасной. А сегодня особенно опасной.
Мария Малибран вышла на сцену несколько позже, чем обычно выходила Паста. Все лорнеты и зрительные трубы уже давно обшаривали полинялую зелень обветшавшего леса друидов и дуб Ирминзула, и широкий каменный жертвенник, и громкие голоса в разных местах театра иронически спрашивали: «Где она? Я ничего не вижу!»
Но когда она появилась, разговоры мгновенно смолкли, и стало тихо, и ничего не было слышно, кроме торжественно льющейся музыки, а затем вырвались единодушные и громкие аплодисменты. Что-то подкупающее было в облике артистки, что-то небывало вдохновенное, что-то захватившее зал еще прежде, чем публика услышала голос примадонны.
Она была стройна и казалась высокой. У нее были огромные заплаканные глаза, и руки ее, прижимавшие к груди золотой серп, заметно дрожали. Но дрожащие руки и заплаканные глаза – вот все, что осталось и перешло на сцену от огорчения, пережитого артисткой Малибран, узнавшей, что ее хотят освистать поклонники Пасты. Только эти незначительные, чисто внешние признаки мимолетной и вполне простительной женской слабости. Только это! – Потому, что сейчас на сцене не было артистки Малибраи. На сцене была Норма, жрица Ирминзула, вещая дочь друида Оровеза, тайная возлюбленная римлянина Поллиона и бесстрашная мать его детей. Артистка целиком ушла в роль. Она несла в себе всю сложность многогранного образа, и образ был живым и реальным. Настолько живым и реальным, что все другие действующие лица оперы казались рядом с Марией костюмированными куклами.
Публика сразу и безоговорочно подчинилась силе артистического обаяния Малибран. За каждым ее движением следили с восторгом и затаив дыхание.
Первый речитатив («Голоса войны, голоса восстания») произвел на публику ошеломляющее впечатление. Голос Марии Малибран был поистине феноменальным. Могучий и звучный, как колокол, он проникал в самое сердце, поражая и захватывая необыкновенной силой и насыщенностью чувства. Верди никогда не слышал ничего подобного. Он звучал выпукло и живо, этот речитатив, – живая человеческая речь в музыке, способная выразить самые трепетные человеческие чувства. Никогда Верди не думал, что это может быть так прекрасно, так естественно и живо, и что посредством речитатива можно выразить такие противоположные переживания и такие быстрые смены настроений. Никогда он не думал, что в речитативе могут быть отображены такие тонкие изменения душевных состояний и найдена такая детальная и верная обрисовка внутреннего мира человека, и зафиксированы мимолетные мысли и еле уловимые оттенки чувств, и мгновенные переходы от одного чувства к другому.
Конечно – и в этом не могло быть никакого сомнения, – все эти тончайше подмеченные и гениально зафиксированные колебания человеческих переживаний и эмоций существовали в самой музыке, написанной маэстро Беллини. Но другие исполнители не понимали этого. Они искажали замысел композитора. Они губили его. Губили безжалостно и тупо. Губили по-разному. Вокальной виртуозностью, эффектом ради эффекта, условной приподнятостью, ложноклассической традицией. И только одна Мария Малибран сумела по-новому, по-настоящему проникнуться сущностью музыки маэстро и разгадать интонации его музыкальной речи. Она одна сумела раскрыть содержание музыкального образа, созданного маэстро, и сделать этот образ живым, и донести его до самого сердца слушателей. Она одна сумела это сделать. Это было необычайно прекрасно. И тогда же Верди сказал себе: «Да, да – вот это настоящее. Вот это задача исполнителя: вживаться в образ и до конца проникаться намерениями композитора».
Он был потрясен и захвачен искусством Марии Малибран. Он не слыхал ничего подобного. Нет. Никогда! Он загорелся желанием написать оперу, где была бы роль для Марии. Необыкновенно сильная и живая роль. Он чувствовал себя в силах написать такую оперу и такую роль. Он был уверен, что Мария поймет его намерения. Он не сомневался в этом. Впрочем, он еще точно не знал, какую роль он хочет написать. Но он был уверен, что роль эта будет необыкновенной и сильной. В этом он был безусловно уверен. Он был необычайно возбужден. Он говорил вслух и смеялся.
Он не спал всю ночь. Под утро, снова и снова перебирая в памяти особенности исполнения Марии, он с удивлением вспомнил, что верхние ноты звучат у певицы резковато. И тут же он вспомнил, какая у нее необычная и чудесная манера произносить выраженное музыкой слово. Она как-то особенно значительно и четко выговаривала его, она артикулировала и ясно произносила все согласные буквы, и эта артикуляция, эта «выговоренность» слова во всем его звучании придавала вокальной партии небывалую естественность и силу выразительности. Нет, нет, никогда он не слышал ничего подобного!
На другой день в Милане только и было разговора, что о примадонне Малибран. Поклонники Пасты притихли. Много видевшие и слышавшие на своем веку дилетанты задумчиво и печально покачивали головами. Они чувствовали, что в искусство входит нечто новое. И многие говорили о неминуемой гибели bel canto.
В миланских газетах появились рецензии о прошедшем спектакле. Не все эти рецензии были восторженными. Критики, по обыкновению, хитрили. Однако к мнению газетных рецензентов никто не прислушивался. Их похвалы и порицания ровно ничего не значили. Над рецензентами подсмеивались. Мария была необыкновенной певицей и необыкновенной актрисой. Самая широкая публика была за нее. Молодежь безумствовала. Не было еще артистки, которая с такой силой увлекла и захватила бы всех – весь зрительный зал от партера до шестого яруса.
На улицах и в кафе разгорались неожиданно страстные споры. До сих пор искусство Пасты считалось непревзойденным и совершенным. В один вечер это искусство померкло и для многих отошло на второй план. И на этот раз увлечение новой примадонной нельзя было приписать капризу переменчивой моды. Нет, это свидетельствовало о другом – о сдвигах и переменах, происходивших в душе и в сознании слушателей, оно свидетельствовало о зарождении новых запросов и тайных стремлений. И о том, что Мария своим исполнением шла навстречу этим нарождавшимся чувствам и тайным стремлениям.
Через неделю Мария Малибран выступила в роли Дездемоны, и Верди, благодаря заботам маэстро Лавиньи, снова попал в Ла Скала. Огромное здание театра было и на сей раз до отказа переполнено необыкновенно возбужденной и шумной публикой.
И опять в королевскую ложу вошли вице-король и вице-королева, и Мария-Луиза Пармская, и герцог Моденский. И опять все встали и кланялись, и смотрели на их ложу. Но Джудитты Пасты на этот раз в театре не было. Зато поклонники ее, за последние дни совсем было притихшие, снова оживились. Они заговорили о том, что ничего особенного от Марии Малибран в роли Дездемоны ожидать не следует, ибо давно уже установилась традиция исполнения этой роли и нельзя провести ее иначе, чем это делает несравненная Джудитта и чем делала это до нее Елизавета Кольбран, неаполитанская примадонна, для которой маэстро Россини и написал в свое время эту роль. Так говорили поклонники Пасты.
И, однако, Мария Малибран играла роль Дездемоны так, как никто до нее не делал этого. Она создала новое представление о Дездемоне в опере Россини. Она сумела обойти все отклонения от шекспировской трагедии как в самом сюжете, так и в его развитии, прошла мимо всех искажений бессмертной трагедии, внесенных в оперное либретто либреттистом маэстро Россини маркизом Берио – и она по-своему воскресила в опере образ героини Шекспира.
Появление Марии на сцене сразу взволновало весь зал. Она была неузнаваемой. Она была совсем иной, чем в роли Нормы. Она казалась необыкновенно хрупкой и юной, шестнадцатилетней. В ее фигуре, в походке, в манере держаться было что-то девическое и целомудренное, и голос ее звучал чистым и легким сопрано. Ее встретили громом долго не смолкавших аплодисментов, и она поклонилась, глядя в зал удивленными, невидящими глазами. Она всецело была в роли – была в Венеции, супругой Отелло, тайно с ним обвенчанной и в тот же час с ним разлученной. Кто-то из поклонников Пасты сказал, что Дездемона в изображении Марии Малибран – не взрослая женщина, а девочка, почти ребенок: не Дездемона, а Джульетта. И, может быть, на первый взгляд могло показаться, что это так. Однако только на первый взгляд.
В сцене с Эмилией Дездемона плакала от страха и досады при мысли, что дар, предназначенный любимому супругу, попал в чужие руки. И она действительно казалась девочкой, беспомощной и робкой.
А в пышном зале, среди гостей, перед отцом, который хочет выдать ее замуж за Родриго, она была иной. Вся – напряжение и воля. «Что вижу? Сердце, не выдай!» Она была находчива и изобретательна. На просьбу отца она отвечала отказом. Не сразу. Понимала, что сразу нельзя. Боялась себя выдать. Собиралась с мыслями. Инстинктивно выигрывала время. Но при появлении Отелло она переставала скрывать свои чувства, и, боже, с какой гордостью, как радостно и смело она признавалась: «Да, это правда, я поклялась ему».
Любовь к Отелло была содержанием ее жизни. Любовь придавала ей и силу, и смелость, и находчивость, и решительность. И если у нее бывали взрывы отчаяния, то это отчаяние было мимолетным и было бурно и страстно, как протест, и она быстро приходила в себя и снова боролась за свою любовь, за счастье, за Отелло.
Так понимала и переживала роль Мария Малибран, и так вместе с ней переживала судьбу Дездемоны многотысячная публика всех театров, где Мария играла эту роль.
В сцене поединка между Родриго и Отелло Мария захватывала и подчиняла себе весь театр силой и страстностью чувства. Она смотрела на Отелло с обожанием, с восхищением, она считала его неуязвимым и непобедимым, она готова была жалеть Родриго, этого глупого мальчишку, который дерзает меряться силами с героем! Но как только она оставалась одна и ее поражала мысль, что исход поединка может быть смертельным для Отелло, она мгновенно преображалась. Теперь она вся – порыв и страстная мольба. «О, небо! Безжалостно оно, если меня с любимым разлучит! Спаси его, молю, меня убей! За счастье я сочту погибнуть за него!»
И когда она узнавала, что опасности больше нет и что Отелло жив, все существо ее точно растворялось в огромном, переполняющем ее ощущении счастья. И она бежала к рампе и простирала вперед руки, как бы желая приобщить весь мир к этому счастью. «Спасен! Спасен! Вот все, что сердцу надо!» И голос ее звучал так светло и ярко, и радостно, как еще ни разу, и этим звучанием она усиливала и окрашивала и образ и переживание.
Тотчас после этого камнем падал на нее неумолимый гнев отца. И опять менялся ее облик, и она опять жила новым, необыкновенным, трогательным чувством. Не так-то просто вытравить из сердца взлелеянные с детства любовь и уважение к отцу. Мария глубоко чувствовала мучительное внутреннее противоречие. С какой задушевностью и непосредственной дочерней нежностью звучала у нее фраза: «Если отец меня покинул, ах! – от кого мне ждать пощады?» Все украшения, из которых как бы соткана эта фраза, все эти завитушки из восходящих и нисходящих гамм она наделяла волнующим смыслом и обезоруживающей теплотой.
И, наконец, последняя сцена.
Когда поднимался занавес, Дездемона стояла у высокого стрельчатого окна, спиной к публике, и смотрела вдаль. И так, спиной к публике, она отвечала Эмилии: «Нет, я не надеюсь увидеть его снова». Потом она поворачивалась и отходила от окна. Она шла медленно, в тяжелом раздумье, и когда публика видела ее лицо, всем казалось, что целая жизнь прошла между первым и последним действием оперы и что ничего не осталось от обаятельной, сияющей молодостью девушки, которая так страстно и решительно боролась за свое счастье. Мария проводила эту сцену с каким-то особенным внутренним напряжением. Она двигалась медленно, скользила по сцене неслышно, почти автоматически, почти как лунатик. Она пребывала в каком-то глубоком и мучительном оцепенении. И так – глубоко ушедшая в себя – она как бы случайно подходила к арфе и перебирала струны, и вполголоса напевала печальную песенку: «О, ива зеленая, тихая тень, из листьев сплетите венок на могилу».
Она не распевала эту песню как выигрышную оперную арию, изысканно и эффектно играя голосом – так обычно делали другие певицы, – нет, нет, она напевала почти вполголоса, бесхитростно и задушевно, как бы складывая песню для себя одной. Это производило необычайное впечатление. О, как она заставляла себя слушать! Кажется, никогда еще не было в театре такой напряженной, такой трепетной тишины.
Раскат грома и внезапно налетевший порыв ураганного ветра, и треск рамы, и звон разбитых стекол нарушали интимное очарование этой сцены и выводили Дездемону из состояния подавленности и тихой печали. Дездемона вздрагивала, она прерывала песню, ее охватывало предчувствие беды, ощущение неминуемой, быстро надвигающейся гибели. И Мария так остро и болезненно переживала это, что вместе с ней переживали и заранее содрогались все сидящие в зале.
Появление Отелло воспринимали с нескрываемым волнением. Правда, выход мавра был поставлен очень эффектно и впечатлял сам по себе. Отелло появлялся на верху витой лестницы, освещенный дрожащим пламенем светильника, который он держал в руке. Мавр спускался бесшумно, мягкими, скользящими движениями, как хищный зверь, готовый к прыжку. Каждый поворот лестницы скрывал его от зрителей и, когда он скрывался, сразу становилось темно, а потом Отелло появлялся ниже, и пламя освещало его черное суровое лицо и белую одежду, и драгоценные камни на рукоятке кинжала, заткнутого за широкий пояс. Это было само по себе очень эффектно и всегда нравилось публике.
Но сегодня настроенность предыдущего действия, настроенность, созданная игрой Марии, заставляла воспринимать сцену появления Отелло как сцену, полную зловещего смысла.
Отелло отдергивал полог. Дездемона просыпалась. Быстрым движением спрыгивала со своего ложа. Смотрела на Отелло с любовью и надеждой. Но надежду сразу уносило чувство тревоги. Короткий, стремительный диалог. Несколько реплик. Опять обвинение. «Ты изменила клятве!» – «Я не виновна». – «Клятвопреступница!» – «Моя вина – любовь к тебе».
Надо было видеть и слышать, как Мария проводила эту сцену. Потрясающе! Незабываемо! Все существо ее восставало против несправедливости. Она твердила одно: «Я не виновна». Стояла перед супругом самоотверженно-бесстрашно. Видела в руке его кинжал. Готова была умереть, лишь бы он ей поверил: «Не сдерживай удара – вот мое сердце, умру без страха, я не виновна!» Смотрела в перекошенное яростью лицо Отелло, видела его налитые кровью глаза, но еще не верила в возможность злодеяния. Она любит, она готова бороться.
Но новые преграды, как горы, громоздятся перед ней.
«Погиб Родриго, Яго убил его». – «Яго? О, боже! Как мог довериться ты Яго?» Как побороть препятствия, закрывающие ей путь к сердцу Отелло? И в этом месте Мария в беспредельной тоске заламывала руки. «Ах, какой день!» И Отелло отвечал: «Последний день». – «Что говоришь?» И Отелло опять: «Последний для тебя!»
Двумя репликами Мария потрясала весь театр. В двух репликах решалась человеческая судьба.
«Что говоришь?» Мария вкладывала в четыре нисходящие ноты содрогание осужденного, услышавшего смертный приговор.
«Ах, какой день!» – на этих словах голос ее звучал еще ярко и насыщенно. «Что говоришь?» – вторая реплика наступала через несколько секунд после первой и производила поистине ошеломляющее впечатление. Голос Марии звучал на словах «что говоришь?» глухо и безжизненно, тембр его становился неожиданно беззвучным и таил в себе такой неподдельный ужас, что дрожь пробегала по залу. О, только великая артистка и великий мастер вокального искусства мог найти такой тембр голоса и такую манеру произносить омузыкаленное слово. «Что говоришь?» – четыре ноты – и решена человеческая судьба.
Потому что с этой минуты Дездемона знает, что жизнь кончена, что Отелло неумолим, что он убийца.
На мгновение она застывала в полной неподвижности, точно остолбенев от ужаса. Она, еще недавно смело говорившая о смерти, тогда еще не верила в нее. А теперь она знает, что спасения нет и что ее ждет смерть. Ждет ее этой ночью. Ждет ее сейчас. Страшная, мучительная смерть от руки того, кого она беззаветно полюбила.
И всеми силами души она протестует и противится смерти. Она не хочет умирать. Она не хочет быть казненной за преступление, которого не совершала. И она пытается спастись бегством. Она бежит к двери и бьется о тяжелые дубовые створки; она бросается к высоким стрельчатым окнам и силится расшатать неподвижные рамы; она мечется по комнате с ужасом смерти в сердце, с ужасом смерти на прекрасном побледневшем лице, с безумно расширенными глазами, в развевающейся белой одежде.
И ни вспышки молний, следующих почти непрерывно одна за другой, ни гром и вихрь и дождь, бушующие на сцене, – все, что касалось эффектов машинерии всегда стояло в театре Ла Скала на несравненной высоте! – ничто не устрашало и не волновало публику. Все мысли и чувства – все было захвачено и поглощено одним: сочувствием к человеческой судьбе, которая решалась здесь на сцене, на глазах у всего зала, и самым волнующим и мучительно впечатляющим была не внешняя сценическая декоративность, не постановка, не чудеса машинерии, а мечущаяся белая фигурка – живой человек в отчаянной схватке со смертью.
В театре рыдали громко и безудержно. И когда Отелло настиг Дездемону у высокого ложа, точным взмахом руки всадил кинжал ей в грудь и она, вскрикнув, упала, одновременно с ней и громче нее закричали женщины в зрительном зале, и публика встала с мест, взбудораженная и потрясенная, потому что многим казалось, что на сцене действительно произошло убийство.
Дездемона лежала на спине поперек постели, головой вниз; руки ее были откинуты назад; распущенные волосы свисали до пола. Нельзя было подумать, что живой человек может лежать в такой позе.
А потом – такие восторженные крики и аплодисменты наполнили все огромное здание театра, что не стало слышно музыки, и только восторженные возгласы, и плач, и аплодисменты. И хотя тенор Рейна был отличным, эффектным Отелло и пришелся по вкусу миланской публике, о нем сразу же забыли, как будто его и не было на сцене.
Верди насилу выбрался из театра. Публика стояла во всех проходах между креслами и толпилась у выходов из партера. Воздух дрожал от криков и аплодисментов. Когда композитор вышел в вестибюль, крики и аплодисменты слились в сплошной гул и вой.
На служебном подъезде ему сказали, что оркестр театра в полном составе отправляется на улицу Черва, к палаццо герцога Висконти ди Модроне, где остановилась Мария, и там в саду будет исполнена в ее честь приветственная серенада. На площади стояли толпы народа. Дымили факелы. Летели искры. Строилось шествие. Часть публики направлялась на улицу Черва. Другая часть ждала выхода Марии.
Верди не пошел на улицу Черва, к палаццо герцога Висконти ди Модроне. Ему хотелось остаться одному. Он пошел домой и всю дорогу думал и вспоминал мельчайшие подробности сегодняшнего, уже прошедшего вечера.
Он был глубоко взволнован искусством Марии Малибран. Он был растроган простотой и силой, и обаянием созданного ею образа. Он был взволнован тем, что она не заботилась о внешней красоте заранее задуманного жеста или позы, так же, как не заботилась об эффектах виртуозной вокализации. Она по-настоящему, искренне и самоотверженно переживала и любовь, и страх, и радость, и сомнения, и боль, и жгучую тоску, и переживала все эти чувства в постоянном движении, в непрерывном развитии. О, она, несомненно, остро чувствовала законы театра, знала, что останавливать развитие действия на сцене не должно и нельзя.
Потом он подумал, что Мария своим высоким мастерством певицы сегодня совершила чудо. Да, да. Во всяком случае, ему это сегодня показалось чудом.
Она пела партию, написанную не для нее, партию очень подвижную, построенную на тончайшем плетении самых изысканных украшений, в стиле голоса и характера примадонны, по существу ей чуждой – и все же она сумела согреть эту вокальную партию искренней эмоцией, трепетным и неподдельным чувством и сделала это так правдиво и сильно, что партия виртуозная превратилась в ее исполнении в подлинную драму, переживаемую в музыке и посредством музыки. Это было величественно и впечатляюще. И ему это показалось чудом. Да, да – чудом, тайну которого, впрочем, можно было разгадать. Чудом исполнительского искусства.
Конечно, он считал маэстро Россини великим и величайшим мастером, мастером-виртуозом и всегда удивлялся его неиссякаемой изобретательности, красочной и выразительной инструментовке, и остроумию, и меткости отдельных штрихов и оркестровых характеристик. Но сегодня он подумал, что музыка маэстро Россини не соответствует силе и глубине тех человеческих эмоций, из которых родилась трагедия Шекспира. И что сюжет такой трагедии, как «Отелло», не совместим с музыкой, столь бездумно-оживленной и невозмутимо-изобретательной. И что Мария Малибран внесла в россиниевскую музыку то внутренне движение чувства, которого в этой музыке нет. И что в сегодняшнем спектакле – он ощущал это ясно – не музыка диктовала артистке сценическое поведение, а сама артистка собственным проникновением во внутреннее содержание роли и эмоциональным развитием этой роли как бы двигала музыку вперед, неудержимо и восторженно.
Он остановился на этой мысли, удивляясь и недоумевая. Так, значит, музыка пластически прекрасная, но драматургически пассивная может быть приведена в движение силой огромного драматического дарования певицы, силой ее артистического темперамента и поразительной творческой волей. Так, значит, прав маэстро Лавинья и все те, которые говорят, что певец сам, исполнением своим, вносит в музыку определенное содержание? Нет, нет. И он опять, как всегда, когда слышал подобное утверждение, внутренне запротестовал против этого. Нет, это не так. И тут он вспомнил о «Норме» и о речитативе маэстро Беллини, и о том, что Мария открыла и донесла до сердца слушателей только то, что заложено в музыке самим композитором. И, как тогда – после представления «Нормы» – он повторил себе еще раз, упрямо и настойчиво: вот это настоящее, это именно то, что нужно. Певец должен понимать и всецело проникаться намерениями композитора.
И уже подходя к дому, он подумал о музыке, которая сама, силой собственного чувства и собственного напряжения, и собственного развития двигала бы и обусловливала развитие сюжета и сценическое действие.
…Все это было давно. Это было семь лет назад, и много воды утекло с тех пор, и многое переменилось.
Верди вспоминал Марию Малибран такой, какой он видел ее в последний раз. В роли Дездемоны. После спектакля. Она была в белой одежде, свободной и мягкой. В том костюме, в котором играла в последней картине. Только на плечи она накинула легкий шарф. Она шла по сцене стремительно, и концы шарфа развевались за ее спиной, как крылья. Глаза ее сияли. Она была счастлива. Такой она осталась у него в памяти навсегда.
Больше он ее не видел. Она умерла через два года. В расцвете сил. Двадцати восьми лет. 23 сентября 1836 года. В один день с маэстро Беллини. Ровно через год после него. Такое совпадение.
Но она оставила глубокий и неизгладимый след в искусстве. Разве не была она всем существом своим обращена в будущее? В будущее нового оперного действия? Разве не знаменовала она собой движение исполнительского искусства к новым идеалам? Разве не говорило ее искусство о новых стремлениях и новых возможностях, и новых достижениях? Без сомнения – это было именно так. Он был в этом твердо убежден…
Что же болтает этот нелепый Солера? Что это за певцы, которые могут заставить композитора писать музыку так, как это угодно им? Как будто можно повернуть назад колесо истории!
Солера расхаживал по комнате и все говорил и говорил:
– Ну, вот что я тебе скажу, и это добрый совет. Прежде всего, не задавайся невыполнимыми целями. Это ни к чему не приведет. Уверяю тебя. То есть – нет. Это приведет к неприятностям. Бьюсь об заклад, что приведет к неприятностям. Ни к чему другому! К неприятностям! А я тебе вот что советую: пиши изящную, красивую музыку. Такую, которая может приятно волновать душу и сердце. Пусть даже волновать до слез. Пожалуйста! Это не плохо, это даже хорошо, если музыка волнует до слез; я скажу, что это даже очень здорово по теперешнему времени потому, что мы теперь не так слезливы, как раньше. Но только смотри, помни одно: помни, что чувства, вызванные музыкой, должны быть всегда сладостными и приятными, и печаль, вызванная музыкой, не может быть похожа на реальное страдание, на то страдание, которое ломает человека, которое пригибает его к земле свинцовой рукой… Это я хорошо сказал, правда? Свинцовой рукой… Одним словом, печаль, вызванная музыкой, должна быть приятной и тихой, как… подожди… вот и не знаю, как сказать… ну, как летняя ночь, или там что-нибудь в этом роде.
– Замолчи, замолчи! – Верди заткнул уши.
– Не перебивай, – закричал Солера, барабаня кулаками по спинке стула, – не перебивай и слушай! Дай мне кончить! Что это такое, в самом деле! Я говорю золотые слова, а ты не слушаешь! Пиши какую хочешь музыку, черт с тобой, веселую или печальную – все равно; скорее печальную – веселая музыка – это не по тебе. Ну, в общем, пиши какую хочешь музыку, лишь бы она была изящна и красива. Понял? Лишь бы она доставляла удовольствие. Ну, что ты уставился на меня? Ты думаешь, я шучу? И не думаю. Я никогда не был так серьезен. Удовольствие – это и есть задача искусства! «Не забывайте, итальянцы, что основная цель музыки – доставлять наслаждение». Кто так сказал? Не знаешь? Так сказал величайший маэстро нашего времени, так сказал божественный маэстро Россини. Помни это!
– Россини, Россини, – повторил Верди. Вид у него был рассеянный и недоумевающий.
– Но я не могу писать, как маэстро Россини.
Солера захохотал.
– Этого от тебя никто не требует. Это, знаешь ли, дорогой друг мой, не всем дано.
– Нет, я не то хотел сказать. – Верди говорил через силу. Видно было, что ему трудно подбирать слова.
– Ладно, – сказал Солера. – Я и так понял. А теперь я ухожу. Рекомендую в одиночестве обдумать все, что я тебе сказал. Золотые слова! Золотые мысли! Засим прощай. – И Солера направился к двери.
Но только он взялся за ручку, как хлопнул себя по лбу, громко захохотал, сделал какой-то неудачный пируэт, чуть не упал, опять захохотал, и вернулся к композитору, который по-прежнему неподвижно сидел за столом.
– Слушай, вот это здорово! Чуть не забыл! Новость! Да я, собственно, с этой новостью и шел к тебе. О господи! До чего может быть рассеян человек! Слушай, пиши свою оперу и договорись с Мерелли, чтобы он поставил ее в следующем карнавальном сезоне. У него будет такая труппа, такая труппа… – Солера тихо свистнул и поцеловал кончики пальцев. – Джузеппина Стреппони и Джорджо Ронкони! Что ты на это скажешь?
– Это хорошо, – сказал Верди.
– Ну, еще бы не хорошо! Джузеппина Стреппони – Абигаиль – это будет нечто из ряда вон выходящее, нечто выдающееся. – Солера опять поцеловал кончики пальцев. – А Ронкони – Навуходоносор… Нет, ты только подумай… Ронкони – Навуходоносор! Ой-ой-ой! Голова начинает кружиться, когда подумаешь, какой это Навуходоносор! Невероятный! Просто невероятный!
– Это хорошо, – заметил Верди. Потом, помолчав – Только опера ведь еще не написана.
– О чем говорить! – воскликнул Солера. – О чем говорить? За это время можно написать не одну, а пять опер.
Верди пожал плечами.
– Ничего, не огорчайся, – хвастливо сказал Солера. – При моей помощи ты, надеюсь, справишься с этой одной оперой. Чудак ты, в самом деле.
– Приходи завтра с самого утра, – сказал Верди. – Начнем работать.
Солера не собирался уходить. Он был очень недоволен тем, как композитор принял известие о предполагаемом составе труппы на карнавальный сезон 1842 года. Он ожидал совсем другого эффекта, и он не мог уйти, не вознаградив себя за неудавшийся сюрприз. Он искал, что бы ему такое сказать, чтобы вывести композитора из себя. Однако ничего такого он придумать не мог.
Верди сидел у стола. Он, казалось, перестал замечать Солеру. Либреттист стоял посреди комнаты.
– Смотрю на тебя, – сказал он, – и думаю: везет же человеку, просто удивительно везет.
– Это ты про кого? – спросил Верди.
– Да про тебя, боже мой, про тебя, конечно. Приезжает этакий молодой маэстро из глухой провинции, приезжает с готовой партитурой оперы, хорошей оперы, кстати сказать, но написанной, между нами говоря, на никуда не годное либретто. Приезжает этакий провинциальный молодой маэстро искать счастья в Милан, приезжает в первый раз – и, пожалуйста, сразу находит такого либреттиста, как я, и такую покровительницу, как Джузеппина Стреппони. И вот, написано изумительное либретто, опера поставлена в Ла Скала, в первом театре мира, и имеет успех. И все это сразу по приезде. Как в сказке! Как по мановению волшебного жезла! Нужен человек, слово которого – закон для импресарио, – пожалуйста, есть такой человек; нужен поэт-либреттист, который из беспомощных виршей сделает подлинное произведение искусства, – есть такой человек! Все к услугам молодого угрюмого маэстро!
– Это не так, – сказал композитор.
– Что не так? – вспыхнул Солера. – Ты мой должник на вечные времена. Мой и, пожалуй, синьоры Стреппони, – прибавил он, подумав.
– Не сразу, – сказал Верди. – Это сделалось не сразу. Я приезжал с готовой оперой в сентябре тридцать восьмого года и очень мучился, и мне тогда ничего не удалось. Я уехал, не зная даже, здесь ли ты. Я ни разу тебя не встретил. Только слышал о тебе мельком.
– А что ты слышал?
– Ничего особенного, – сказал композитор.
– Пусть так, – сказал Солера, – все равно тебе везет.
– Ладно, – сказал композитор. – Приходи завтра с утра. Начнем работать.








