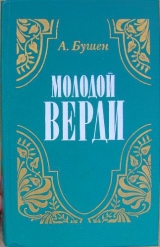
Текст книги "Молодой Верди. Рождение оперы"
Автор книги: Александра Бушен
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 24 страниц)
Композитор остановился. Он не узнавал улицы, по которой шел. Как он попал сюда? Он огляделся. И вдруг понял, что идет по направлению к улице Сайта Марта. По направлению к дому профессора Селетти…
Учебная стрельба все еще продолжалась, только теперь залпы слышались реже и звучали глуше.
Композитор повернул обратно. Он шел по незнакомой улице. С правой стороны был дом с глубокой сводчатой галереей. Он зашел гуда. В галерее помещались какие-то склады. Они были закрыты. На железных засовах висели тяжелые замки. Под низкими сводами было совсем темно.
Композитор прислонился к стене. Он чувствовал себя безмерно усталым. Сердце его билось тяжело и неровно. Голову точно стянуло обручем. Он прижался лбом к каменной колонне. Крепко, двумя руками держал клавир «Навуходоносора». Так он простоял долго. Камень был гладкий и очень холодный, и ему стало казаться, что холод проникает в сердце. Он перестал слышать тяжелые удары. Боль, точно обручем стягивавшая голову, отпустила его. Теперь он чувствовал непреодолимую слабость. Это было очень приятно. Такая внезапная тишина и успокоение. Не надо думать, не надо бороться. Все уплывало куда-то вдаль. Нет ни прошлого, ни настоящего. Сознание сковывало холодом. Тишина и успокоение. Ему казалось, что он тихо засыпает.
Он не знал, сколько времени это продолжалось. Он насильственно заставил себя очнуться. Насильно оторвался от холодного камня. Провел рукой по глазам. Глаза были мокрые. Он удивился. Не сразу понял, что это слезы.
Когда на другой день Верди зашел к Мерелли, импресарио встретил его преувеличенно восторженно и шумно. Он не дал композитору выговорить ни слова.
– Знаю, знаю, – закричал он, как только Верди появился в дверях кабинета. – Знаю, знаю! Ты выиграл! Я хозяин своего слова! Как сказал, так и будет. Поставим твоего «Навуходоносора» в карнавальном, хоть это для меня чертовски невыгодно. Убийственно даже! Но ничего не поделаешь. Тебе повезло. Ты счастливчик.
Композитор хотел узнать подробности относительно постановки своей оперы. Мерелли замахал на него руками:
– Нет, нет, нет! Сейчас ни о чем не спрашивай. Незачем! Успеешь! Времени много. «Навуходоносор» будет поставлен. Я дал слово. Чего тебе еще? – И, хлопая его по спине, пожимая ему руку, громко хохоча и заглядывая ему в глаза, импресарио вытолкал композитора из кабинета.
Все последующие дни Верди искал случая повидаться с Мерелли. Однако это ему не удалось. Импресарио перестал бывать в театре. Публика была очень недовольна осенним сезоном. Говорили, что труппа подобрана на редкость неудачно, что постановки убоги, что заболевшую примадонну никем не заменяют, и во всем этом обвиняли импресарио. Мерелли совсем перестал бывать в театре и в середине ноября уехал в Вену.
Так композитор и не узнал ничего более определенного о судьбе своей оперы. Он должен был удовольствоваться словесным обещанием Мерелли. Но можно ли было принимать заверения импресарио за чистую монету? Можно ли было считать разговор с Мерелли подлинной договоренностью? Этого он не знал. Однако он старался и мысли не допускать о том, что импресарио может его обмануть.
Двадцать первого декабря должна была выйти сводная афиша карнавального сезона. Утром композитор ходил в Ла Скала. День был холодный. Лужи на улицах подмерзли и временами шел снег. В театре композитору сказали, что афиша еще не доставлена из типографии, но что за ней послан человек, который должен вернуться с минуты на минуту. Композитор не захотел дожидаться этого человека. Он продрог и ушел домой. Он чувствовал себя взволнованным и раздраженным. Прошедшая ночь была для него мучительно бессонной. Мысли о постановке оперы не дали ему уснуть до самого утра. Он боялся признаться себе в том, что ждет со стороны Мерелли какого-нибудь подвоха.
После обеда он снова пошел в Ла Скала. Ветер стих. Снег валил густо, большими мокрыми хлопьями. Афиша уже висела на стене. Композитор увидел ее сразу. Он подошел к стене почти вплотную. Быстро пробежал афишу глазами. Сердце его билось беспорядочно и учащенно. «Навуходоносора» в репертуаре не было. Композитор снова – на этот раз уже более внимательно – просмотрел объявление о карнавальном сезоне. Прочел названия опер, фамилии приглашенных артистов. «Навуходоносора» в репертуаре не было. Относительно этого не могло оставаться никаких сомнений. Сколько бы раз он ни перечитывал печатные строки, «Навуходоносора» в репертуаре не было.
Композитор не мог сразу отойти от афиши. Читал ее и перечитывал, теперь уже почти бессознательно. Прочел, что приглашены две знаменитые примадонны: Софи Лёве и Джузеппина Стреппони. Прочел, что Софи Лёве будет петь с начала сезона до середины февраля, а Джузеппина Стреппони – с середины февраля до конца сезона. Прочел, что карнавальный сезон откроется, как обычно, в вечер св. Стефана (26 декабря) оперой Доницетти «Мария Падилла», специально написанной для театра Ла Скала, и что в этот вечер пойдут два балета: «Последний мексиканский император» и «Сон в Китае».
Итак, «Навуходоносора» в репертуаре не было. В этом не было никаких сомнений. Композитор дал себя провести. Мерелли все-таки обманул его. Сумел усыпить его настороженность. Обвел его вокруг пальца. Настоял на своем. Поставит «Навуходоносора» в весеннем сезоне. Когда не будет ни Джузеппины Стреппони, ни Ронкони. Когда будут неизвестные композитору певцы, для которых придется переделывать вокальные партии. Певцы, которые, конечно, без всякого энтузиазма отнесутся к опере еще не прославившегося композитора и неминуемо провалят ее.
Он вернулся домой почти в беспамятстве. Не снимая пальто, сел к письменному столу. Схватил первый попавшийся ему лист бумаги. Написал письмо импресарио. Писал, не помня себя. Требовал в самой категорической форме постановки «Навуходоносора» в карнавальном сезоне. Напоминал импресарио о данном им слове. Угрожал судом. Все это в самой резкой форме. Не стесняясь в выражениях. Ни разу в жизни не писал он такого письма.
Потом он вышел из дома и пошел в Ла Скала. В третий раз. Хотел узнать, по какому адресу надо отослать письмо Мерелли. В Ла Скала узнал, что импресарио сегодня утром вернулся из Вены и завтра будет в театре. Тогда он оставил письмо режиссеру Басси с просьбой вручить его импресарио, как только тот появится. После этого ему стало лучше. Он немного успокоился. По дороге домой он даже почувствовал нечто вроде раскаяния. Почти пожалел о том, что написал Мерелли такое резкое, грубое письмо. Вряд ли было целесообразно в данный момент ссориться с импресарио. Впрочем, он не стал останавливаться на этой мысли. Что сделано – то сделано. Лучше об этом не вспоминать.
На другой день рано утром из театра пришел рассыльный. Мерелли вызывал композитора к себе.
На сцене шла репетиция оперы Доницетти «Мария Падилла». Когда Верди проходил по коридору, он слышал звуки доницеттиевской музыки, и у него на одно мгновение мелькнула мысль зайти в зал и послушать неизвестную ему оперу прославленного маэстро. Впрочем, он не остановился на этой мысли и прошел, не обернувшись, мимо дверей, ведущих на сцену.
Мерелли сидел у себя в кабинете. Импресарио был настроен весело и благодушно. Дела у него шли отлично. К карнавальному сезону ему удалось подобрать поистине первоклассную труппу. В Вене отпустили театру солидную субсидию. Дела шли отлично.
В кабинете толпился народ. Теснота. Не повернуться. Одни входили, другие выходили. Дверь в коридор была открыта. Композитор вошел незамеченным. Вслед за ним вбежал режиссер Басси. Он требовал, чтобы Мерелли тотчас появился в зале.
– Репетиция проходит с осложнениями, – взволнованно говорил Басси. – Софи Лёве подает реплики, сидя в ложе первого яруса. Красавица примадонна с ног до головы закутана в меха и отказывается петь на сцене. Говорит, что там сквозняки и отовсюду дует.
– Черт с этими женщинами! – сказал Мерелли. – Сейчас приду. – Он встал из-за стола и тут увидел Верди. Всплеснув руками и притворяясь разъяренным, импресарио набросился на композитора.
– Ты с ума сошел! – кричал Мерелли громко и яростно. – Ты с ума сошел, честное слово! Слыханное ли это дело? Разве так пишут другу? Хорош, хорош, нечего сказать! И вежлив и корректен. Да у тебя стоит поучиться, клянусь богом! Ну, ну, не сердись, – захохотал импресарио, заметив, что композитор вовсе не в настроении шутить. – Ладно, если хочешь знать, я тебя понимаю. Ты по-своему прав. Но ты мне вот что открой. Кто тебе сказал, что я не поставлю твоего «Навуходоносора»? А? Кто тебе это сказал? Кто тебя надоумил на такую глупость? Вот что я бы хотел знать! Три новых оперы в один сезон – это, конечно, страшно ответственно для импресарио. При этом поставить четвертую – это ой-ой-ой как трудно! Но я обещал и поставлю. Только я не хотел объявлять об этом сразу. Понимаешь? Потому, что у меня один раз уже стояла в репертуаре опера с таким названием – «Навуходоносор», помнишь? В карнавальном прошлого года. Ужасно подвел меня тогда этот чудак Николаи, который не написал этой оперы. Ведь я из-за него обманул публику, а на такие случаи публика очень злопамятна, поверь мне! Какой же мне расчет теперь самому напоминать об этом? А? Как ты думаешь? Чтобы опять все кричали, что я жулик и мошенник? Очень мне это нужно!
Мерелли хохотал раскатисто и безудержно.
– А я собирался сделать совсем другое. Я думал для твоей оперы выпустить отдельную афишку, так, неожиданно, к концу сезона. Думал я порадовать публику такой афишкой, объявлением о новой опере. Хотел, чтобы было возбуждено любопытство, чтобы публика сразу заинтересовалась этой неожиданной новой оперой. Вот чего я хотел! И все для тебя! А ты сразу грубить и ругаться! Как это умно и рассудительно! Ты мне не доверяешь, а сам ни капельки не разбираешься в делах. Ничего не понимаешь! Посидел бы ты на моем месте, хотел бы я на это посмотреть!
Басси торопил Мерелли.
– Идемте, идемте, вас ждут!
И, уже уходя, импресарио через плечо крикнул композитору:
– В общем, я твою оперу поставлю, будь на этот счет спокоен. И афишу я выпущу на днях. Пусть будет по-твоему. Только уж извини, ни новых костюмов, ни новых декораций – ничего этого не могу. Ни под каким видом! Ничего нового! Только то, что найдется на складе.
Верди согласился сразу. Декорации, костюмы – все это казалось ему несущественным. Лишь бы опера была поставлена.
Двадцать четвертого декабря, в пятницу, появилась обещанная Мерелли афиша. Это был большой лист белой бумаги, без обычной виньетки и распластанного двуглавого орла. На этом листе крупными, издалека видными буквами было напечатано объявление о «Навуходоносоре»:
НАВУХОДОНОСОР
лирическая драма
в четырех действиях
сочинение
Фемистокла Солеры
будет представлена
в императорско-королевском
театре
Ла Скала
в карнавальном сезоне 1842 г.
И под этим была большая лира, окруженная замысловатым орнаментом. Это изящное и вместе с тем бросающееся в глаза объявление было напечатано в лучшей городской типографии у Гаспара Труффи.
Итак, Мерелли сдержал слово. Объявление о новой опере привлекало к себе внимание публики. И хотя имени композитора на афише не было, Верди знал теперь совершенно точно, что «Навуходоносор» будет поставлен в карнавальном сезоне. Этого было достаточно.
– Понимаешь, – сказал композитору Мерелли, – это совсем не плохо, когда на афише нет имени композитора. Это сразу заинтриговывает. Кто же композитор? Спрашивают друг у друга. Стараются разузнать. Ломают над этим голову. Строят догадки. Кто бы это мог быть? Никто этого не знает. Носятся какие-то слухи. Это очень подогревает интерес к опере, уверяю тебя. А имя Солеры вызывает доверие, он популярен, Солера, он любим публикой, вот уже два года, как он проходит с неизменным успехом. Ну, а о тебе напоминать сейчас не так уж выгодно, поверь моему опыту!
Премьера «Навуходоносора» была назначена на девятое марта. Репетиции в фойе для артистов начались двадцать седьмого февраля, и накануне этого дня первый репетитор хора, Антонио Каттанео провел с хористами две спевки.
Когда Верди пришел в театр, до начала репетиции оставалось семь минут, но все, кому предстояло участвовать в этой репетиции, были уже в сборе. Служащие в театре Ла Скала подчинялись строжайшей дисциплине. Оркестр и хор должны были являться в театр за четверть часа до начала как репетиции, так и спектакля, и время прихода каждого артиста отмечалось табельщиком, мимо будки которого проходили все без исключения.
Композитор вошел в фойе и сел в угол, спрятавшись за колонну. Он вошел бесшумно и никто его не заметил. Хористы сидели в глубине зала на деревянных скамьях – с одной стороны мужчины, с другой – женщины. Мужчины тихо переговаривались, женщины зевали и кутались в платки и шали. В фойе было не топлено.
Солисты вошли в фойе все вместе: Джузеппина Стреппони и Джорджо Ронкони, синьора Беллинцаги – Фенена, тенор Миралья и бас Деривис. Солисты были, по-видимому, неприятно удивлены тем, что композитор не вышел к ним навстречу. Синьора Стреппони искала его глазами по всему фойе, а Ронкони своим прекрасным, густым и звучным голосом громко спросил:
– Позвольте, позвольте, а где же наш маэстро? – И в вопросе его слышалось недовольство.
Тогда композитор вышел из своего угла и пошел по направлению к группе собравшихся артистов. И пока он шел по блестящему паркету в противоположный конец фойе, все собравшиеся без всякого стеснения рассматривали его с головы до ног. Это было очень неприятно. Он дошел до того места, где стояло чембало, и поклонился. К нему тотчас обратился Антонио Каттанео.
– Маэстро, – сказал он, – хористы театра Ла Скала с удовольствием разучили хоры в вашей опере. Замечательные хоры. Звучат грандиозно.
Композитор поклонился. Хористы улыбались. Улыбалась и синьора Стреппони. Она была очень оживлена. Два дня назад она вызвала композитора к себе и прошла с ним свою партию. Она пела все наизусть, с неподдельным увлечением и до чрезвычайности выразительно. Она умела работать и вживалась в роль необыкновенно осмысленно и проникновенно. Работая, она преображалась. Композитор не узнавал ее. Глаза ее блестели, щеки покрылись румянцем.
– Я много думала над ролью, – говорила она, – и чем больше думала, тем больше увлекалась. Но я очень боюсь ввести в свою партию что-либо не соответствующее вашим намерениям, маэстро. Я очень старалась понять все как следует, и теперь вы должны сказать, удалось ли мне это.
И она напевала и наигрывала отдельные места из своей партии и, как послушная ученица, заглядывала ему в глаза и спрашивала:
– Так, маэстро? Верно ли я поняла? Нравится ли это вам? А здесь? – И показывала какое-нибудь другое место. – Она представляется мне очень сильной, эта Абигаиль, очень сильной и многогранной, эта рабыня, мечтающая о царской короне. Она умна, властолюбива, жестока, коварна и обаятельна. А как в последней сцене? Мне кажется, она должна быть совсем другой – несчастной девушкой с разбитым сердцем. Она должна вызывать сочувствие, не правда ли? Так ли я поняла роль, маэстро? – И синьора Стреппони смотрела на композитора внимательно и серьезно своим чуть-чуть слишком пристальным и напряженным взглядом и казалась не избалованной примадонной, а послушной ученицей, ожидающей указаний учителя.
Но композитор не мог сказать ей ничего существенного. Он удивлялся ее уму и ее взыскательности и строгости к себе, и восхищался ее голосом – таким неслыханно выразительным, с таким редким для сопрано грудным тембром, и восхищался ее вокальным мастерством, которое поистине казалось безграничным. И думал о том, что лучшей исполнительницы для роли Абигаиль ему не найти.
До начала репетиции оставалась одна минута. Хористы перестали разговаривать. В фойе стало тихо. Слышно было, как ливень потоками льет по окнам. Синьора Беллинцаги наклонилась к тенору Миралье.
– Возмутительно! – зашептала она. – Мы все простудимся. Разве можно репетировать в нетопленном фойе? Я буду жаловаться!
Тенор Миралья так берег голос, что не отвечал ни слова. Только кивал головой и улыбался.
Джузеппина Стреппони мельком взглянула на синьору Беллинцаги. Синьора Стреппони не чувствовала холода. Свою роскошную, вышитую цветами и сказочными птицами шаль она повесила на спинку кресла.
Вошел Эудженио Каваллини с партитурой под мышкой. «Надо очень точно установить темпы, маэстро, – сказал он композитору. – Репетиций с оркестром будет всего три; из них третья – генеральная.»
Джованни Байетти сел за чембало. Он был вторым концертмейстером и заменял маэстро Паниццу, когда тот был нездоров. Эудженио Каваллини хотел, чтобы композитор вместе с ним смотрел в партитуру, но Верди сел за чембало рядом с Байетти. Репетиция началась ровно в девять. Хор пел по нотам, но звучность была отличной. Из солистов только одна синьора Стреппони знала свою партию наизусть. Ронкони не поднимал глаз от нотной тетради, которую держал в руках. Он еще не мог оторваться от привычных путеводных знаков. Синьора Беллинцаги выучила свою партию очень чисто и добросовестно, и только один Деривис чувствовал себя неуверенно и плохо знал музыкальный текст, особенно в ансамблях. Он приехал только накануне и еще не успел позаняться с репетитором. И теперь он старался как можно внимательнее следить за своей партией и пел вполголоса. Композитор смотрел на него с плохо скрываемой неприязнью. Что если он провалит роль Захарии, этот Деривис? Это было бы тем более обидно, что внешние данные артиста не оставляли желать ничего лучшего. Он был молод и очень хорош собой, бас Деривис, с большими выразительными глазами и величественной осанкой, и голос у него был мягкий и мощный.
Деривис поймал на себе строгий, полный укоризны взгляд композитора.
– Не беспокойтесь, маэстро, – сказал он, – денька два, и все пойдет. Времени много. Сегодня двадцать седьмое, а премьера девятого. – Он улыбался самым приветливым образом, был непосредственным и добродушным.
Репетиция прошла благополучно, но композитор был очень недоволен. Он находил эту первую читку своей музыки до чрезвычайности вялой и лишенной жизни.
Он пообедал в ближайшем кафе и, не заходя домой, вернулся в театр работать с солистами. Роль Захарии очень его беспокоила. Сумеет ли Деривис хорошо справиться с ней? Но, поработав с певцом в течение часа, композитор понял, что дело обстоит не так уж безнадежно. Деривис оказался очень понятливым. Он не щадил голоса и с удовольствием впевался в партию Захарии. Она пришлась ему по душе. Артист был очень приятным, скромным человеком.
– Не беспокойтесь, маэстро, – говорил он с готовностью, – через денька два я все выучу.
На другой день композитор проводил репетицию сам. Он поставил хор перед собой, а солистов пригласил стать по обе стороны чембало. Байетти стоял тут же. Каваллини сидел в кресле с партитурой «Навуходоносора» на коленях. Дирижер оркестра уже накануне внимательно прислушивался к тому, что говорил композитор, и делал в партитуре какие-то пометки.
Сегодняшняя репетиция сильно отличалась от вчерашней. Воля композитора чувствовалась во всем. Верди заставил хор петь полными голосами и произносить слова со смыслом.
– Нет, нет, – закричал он, как только прозвучала первая фраза. – Нет, нет, совсем не то! Откуда такое, благодушие? Что вы изображаете? Надо понимать и чувствовать, что делаешь. Вы сейчас народ, на который напали враги. Чужеземные войска окружили храм. Вам предстоит гибель или плен. Надо, чтобы все чувствовали это. Ну, вперед, вперед, давайте еще раз!
Композитор был строг и неутомим. Он был полон творческой энергии. Он заново создавал написанную им на бумаге музыку. Он помогал ей родиться на сцене, он заставлял ее звучать в сознании исполнителей, он внедрял им эту музыку в душу и в сердце настолько, чтобы исполнители могли стать достойными проводниками созданного им произведения. Сейчас все были для него равны. Он не делал различия между примадонной и последней хористкой. Партия Фенены была для него не менее значительной, чем партия Навуходоносора. Все – и хор, и солисты, – все были только «голосами», только «партиями» в задуманной и написанной им партитуре.
Теперь композитор проводил в театре целые дни. Он разучивал партии с солистами и работал с хором. Так как хору в опере было отведено очень большое место, то на занятия с хористами дали несколько дополнительных спевок. Артисты хора встречали композитора восторженно. Он сумел внушить им, что они не пассивно наблюдающая инертная масса, а активно действующее лицо. Он говорил им, что они изображают реальный народ, почему и должны петь естественно и выпукло, выражая подлинные чувства и переживания живых людей. Хористы и хористки были увлечены той новой ролью, которая была отведена им композитором в его опере. Хор пел тщательно и выразительно. Захватывающе тревожно звучал первый хор мужчин и женщин в храме, горячо и чисто неслась молитва девушек, проникновенно сопровождал народ пророческие слова Захарии, уничтожающе грозно гремело проклятие изменнику родины. Что же касается хора народа плененного и порабощенного, то его пели чуть ли не со слезами, свободно и вдохновенно, как настоящую арию. Хор чувствовал себя солистом.
Репетиции происходили каждый день, и очень скоро повсюду в городе – в кафе и в частных домах – заговорили о том, что Верди написал замечательную и какую-то необыкновенную, пожалуй, даже неслыханную доселе музыку. Слухи шли из театра.
Но композитор ничего не знал ни об этих слухах, ни об этих разговорах. Он был рассеян и равнодушен ко всему, что не касалось процесса рождения его оперы на сценических подмостках. Голова его гудела от звуков. Он искал самое точное и самое совершенное звучание написанной им музыки. Он добивался самого тонкого, самого живого, самого убедительного выражения чувств, являвшихся содержанием рожденного им музыкального произведения. Ко всему остальному он был совершенно равнодушен.
Он с головой ушел в работу. Работал самозабвенно и не замечая усталости. Он был аскетически суров и деспотически безжалостен. Так не работал никто из композиторов, оперы которых шли в Ла Скала. Он ни с кем не считался и, в сущности, никого в отдельности не видел. Манера его обращения с солистами поражала. Он никогда не улыбался и не говорил никому ласковых ободряющих слов или слов одобрения, никому не льстил, никем не восхищался. Он был одержим музыкой. Одной музыкой. Произведением искусства, которое должно было стать жизнью.
Он приходил на репетицию минут за десять до начала, нетерпеливо смотрел на часы, и как только наступало положенное время, он садился за чембало и неизменно говорил одно и то же: «Не будем терять времени. Давайте работать». И когда начиналась работа, он никогда ничего не предлагал и ничего не просил. Он только требовал и требовал и в требованиях своих был безапелляционен. Но так как он совершенно точно знал, чего хотел и к чему стремился, и все это чувствовали, то не выполнять его требований было невозможно. И все старались, как могли, а он буквально впивался в исполнителей и не отпускал никого до тех пор, пока не добивался желаемого эффекта. Тогда он на минуту останавливал работу и вытирал с лица пот, который лил с него градом. Но, уже засовывая платок в карман, он говорил: «Давайте, давайте, не будем терять драгоценного времени». И опять всех захлестывал буйный поток музыки. Дамы находили композитора невнимательным и даже грубоватым. Но ему прощали это потому, что все были увлечены его музыкой, и еще потому, что он был справедлив и не делал различия между хором и солистами. Относился ко всем одинаково. Требовал полного повиновения как от хористов, так и от героя и от примадонны.
Однажды, когда не было вечерней репетиции и композитор вернулся домой раньше обычного с намерением немного отдохнуть, он застал у себя Джованни Барецци.
– Наконец-то, – закричал Джованни и заключил Верди в объятия. – Наконец-то! А я уж чуть было не пошел в театр разыскивать тебя. – И он сразу стал спрашивать, как идут репетиции, каковы солисты и что говорят об опере.
Композитор отвечал неохотно. Солисты хороши, репетиции идут удовлетворительно, об опере он ничего не слышал.
– Но сам-то, что ты думаешь об опере? – допытывался Джованни. – Сам-то как считаешь, удалась тебе она или как? – Он боялся спросить, удалась она или нет. Он не хотел произносить слова «нет». Он был суеверен.
– Сейчас трудно сказать что-либо определенное, – уклончиво ответил композитор.
– Ну, все-таки, – не унимался Джованни, – ты же должен что-нибудь понимать в этом деле. Ты уже не новичок, черт возьми, у тебя есть кое-какой опыт, ты же немного знаешь, что нравится публике. Хоть в этом-то у тебя есть здравый взгляд на вещи?
Джованни начинал горячиться. Невозможный человек, этот Джузеппе, черт возьми, ангельское с ним нужно терпение!
– На премьеру приедет отец. Может быть, приедет и Марианна, – сказал Джованни, – и еще кое-кто из наших. Все очень интересуются твоей оперой, весь город интересуется и… понимаешь ли – ты должен иметь успех. Должен! Понимаешь, должен! Обязан! Вот что. Отец говорит, что этот «Навуходоносор» – отличная штука; он судит по тем отрывкам, которые ты ему показывал осенью. Я, конечно, ничего сказать не могу, потому что меня, грешного, ты, как тебе известно, не счел достойным приобщить к этому твоему новому произведению. – Джованни замолчал и смотрел на композитора выжидательно, но Верди промолчал, и Джованни, крякнув, продолжал дальше:
– Да, не счел достойным, но это твое дело и в данном случае это не существенно. Важно то, что этот «Навуходоносор» должен иметь успех. Понимаешь? Да. Так считает отец. И он считает, что об этом надо позаботиться. Потому что музыка прекраснейшая – так он сказал. И о ней надо позаботиться. Избавить премьеру от случайностей. От неприятных случайностей. Мало ли что может быть, не правда ли? Злонамеренные люди, интриги, мало ли что! Этого достаточно, чтобы погубить оперу. Понимаешь? Вот этого допустить нельзя. И вот… пожалуйста!
Джованни вытащил откуда-то из-за пазухи кожаный мешочек и, с опаской оглянувшись на дверь, развязал стягивавший мешочек шелковый шнурок.
– Вот, дорогой мой, пожалуйста! – В мешке звенели монеты. Джованни вынул несколько штук и подбросил их на ладони. Монеты были желтые и блестящие.
– Пожалуйста, – сказал он, – полный кошель, все золотые!
Композитор с недоумением смотрел на молодого Барецци. Верди не понимал, о чем говорит Джованни.
– Что это? – спросил он. – Кому?
– Ну, мы уж найдем кому! – со смехом сказал Джованни.
И тогда композитор понял: синьор Антонио решил купить ему успех, решил заранее заткнуть глотку тем, кто готовится активно выступить против новой оперы. И когда он это понял, в нем взмыла волна такого негодования, что он чуть не задохнулся.
– Ты с ума сошел! – закричал он мгновенно охрипшим от волнения голосом. – Ты с ума сошел! Никогда я этого не позволю! Никогда! За кого ты меня принимаешь?
– Ах, господи, ни за кого, это ты с ума сошел, – лепетал Джованни. Он не знал, как успокоить расходившегося шурина. Вечно отец дает ему поручения к этому безумному человеку и вечно ему, Джованни, попадает ни за что, ни про что.
В эту минуту в дверь постучали.
– Тише, тише! – Джованни замахал руками на композитора и быстро спрятал мешок с деньгами.
– Войдите! – раздраженно крикнул Верди, не глядя на Джованни.
Вошел Пазетти. Это было тем более неожиданно, что он ни разу не был у Верди. Пазетти был как всегда развязен и самоуверен.
– Дорогой маэстро, приветствую вас. Проезжал мимо и решил зайти. Дай-ка, сказал я сам себе, проведаю этого маэстро-отшельника.
Верди смотрел на Пазетти с недоумением. Композитор думал о том, что дом, где он живет, стоит в тупике. Каким же образом дом этот мог оказаться на пути инженера – любителя музыки? Пазетти явно лгал. Очевидно, он заехал с какой-нибудь определенной целью.
Композитор забыл предложить Пазетти сесть, но тот взял стул и сел, не дожидаясь приглашения. Цилиндр он держал на коленях, потом, увидя, что пол очень чист, поставил цилиндр у своих ног и бросил в него перчатки.
– Дорогой маэстро, музыка, которую вы написали и которую я имел удовольствие частично слышать, когда мы с вами были у синьоры Стреппони, совершенно необыкновенная музыка. Так говорят в городе.
Композитор был удивлен. Вмешательство Пазетти в его дела было ему неприятно.
– Вот видишь, видишь! – сказал Джованни торжествующе.
Пазетти вопросительно смотрел на молодого Барецци. Композитор как будто позабыл о том, что ему надлежит представить Джованни инженеру.
– Да, да, – продолжал Пазетти, – весь город говорит о вашей опере.
Композитор пожал плечами.
– Видишь, – твердил Джованни, потирая руки, – так я и знал!
Пазетти опять вопросительно посмотрел на молодого человека.
– Синьор Джованни Барецци, – сказал композитор, – синьор инженер Пазетти.
– Очень рад, – сказал Пазетти. Изысканно-небрежным жестом он протянул руку Джованни. Молодой Барецци ответил инженеру рукопожатием столь мощным, что Пазетти поморщился.
– Я пришел пригласить вас в кафе, – сказал Пазетти. – И вас также, синьор, прошу оказать мне честь.
– Чрезвычайно… – сказал Джованни. Он весь расплылся в улыбке и, как всегда в минуты волнения, начал заикаться. – Польщен, – выговорил он с трудом.
– Нет, нет, нет, – сказал композитор, – я устал, устал, завтра с утра опять репетиция, я сейчас ложусь спать.
Но Пазетти не отступал. Ему взбрело в голову появиться в кафе вместе с композитором, и он решил настоять на своем.
– Ну, что вы, маэстро, мыслимое ли это дело ложиться так рано! Вы же не сможете заснуть. Поверьте мне, маленькая прогулка не принесет вам ничего, кроме пользы. Вы освежитесь и будете хорошо спать.
– Конечно, конечно, – гудел Джованни, – синьор инженер прав!
Композитор дал себя уговорить. Возможность спокойно пройтись и подышать свежим воздухом соблазнила его. Они вышли.
Экипаж Пазетти ждал за углом, но композитор наотрез отказался ехать. Он хотел идти пешком, и Пазетти отослал кучера, сказав ему, что он свободен до завтра. Джованни огорченно вздохнул.
Они пошли по направлению к центру. Погода была пасмурной, но дождя не было и воздух был по-весеннему теплый. Пазетти завел разговор об опере. Ему не терпелось узнать какие-нибудь никому не известные подробности о будущем спектакле. Он забрасывал композитора вопросами, на которые Верди отвечал нехотя и односложно.
Пазетти пересыпал вопросы выражением восторженной уверенности в том, что композитор написал нечто из ряда вон выдающееся.








