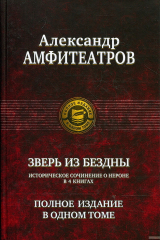
Текст книги "Зверь из бездны. Династия при смерти. Книги 1-4 (СИ)"
Автор книги: Александр Амфитеатров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 85 (всего у книги 91 страниц)
Несмотря на подстрекательство, кажется, что Тразее, до самого печального конца его, достаточно было бы сказать Нерону несколько примирительных слов, чтобы тот открыл ему радостные объятия. Однажды уже так и было. Когда у Нерона родилась дочь от Поппеи, сенат отправился in corpore поздравить государя. Нерон принял всех, кроме Тразеи. Последний перенес немилость очень хладнокровно, а Нерон спохватился и стал в нем заискивать и, несколько дней спустя хвастался Сенеке, будто примирился с Тразеей, с чем Сенека от души его поздравил. И теперь, разгромив пизонцев, приказав умереть Сенеке, император все еще как-то будто трусил перед Тразеей и не решался выступить против него с личным обвинением.
– Да и не надо, – говорил ему Коссутиан Капитон. – Ты вырази только сенату свое неудовольствие в письме общего содержания, не называя имен, а подвести Тразею под смысл письма будет нашим делом.
Так и было поступлено. Сенат получил от цезаря выговор за вялое делопроизводство, в связи с ленивым исполнением некоторыми сенаторами своих государственных обязанностей. «Очень многие, достигнув консульства и жречества, откладывают затем правительственные заботы для роскоши своих парков. Не удивительно, что дурной пример их переходит во всадническое сословие, и провинциальные всадники не трудятся являться к отправлению судейской повинности». Почва для такого общего обвинения несомненно, имелась. Тацит в своем панегирике Агриколы отмечает, что последний «год между квестурой и народным трибунатом, равно как и самый год трибуната, он провел в спокойствии и праздности, зная, что во времена Нерона бездействие было мудростью. Таков же был ход его претуры и то же молчание, так как на него не пали иудейские обязанности».
Одновременно с изготовлением этого письма – оно, как и задняя цель его, конечно, не могло остаться тайной в высших кругах Рима, – Тразее вторично объявлена личная немилость императора. В те дни прибыл в Рим армянский царь Тиридат, для формальной своей коронации из рук Нерона. Царя этого, – мощного, с трудом и лишь наполовину побежденного врага, которого во что бы то ни стало надо было сделать другом, – встречали с неслыханными почестями. Празднества по случаю приезда Тиридата отвлекли внимание народа от внутренней политики, и момент был сочтен самым удобным, чтобы под шумок торжество, незаметно сплавить Тразею со всей его партией. Когда Тразеа явился к торжественной встрече Тиридата, ему было сказано от имени государя, что он отрешен от участия в церемонии. Уязвленный сенатор послал Нерону письмо с требованием объяснений и с гордым заявлением своей готовности к защите против какого угодно обвинения, буде только дадут возможность защищаться. Нерон, получив письмо, схватился за него с радостью, ожидая просьбы о помиловании. Но независимый тон Тразеи разочаровал и оскорбил его, и он предоставил начатое дело о бездействии сенаторов своему течению.
Сенат собрался в храме Венеры Родительницы, патронессы дома Цезарей. Заседание ожидалось бурное. Портики храма были заняты войсками, в толпах народных сновали вооруженные сыщики; по улицам расхаживали военные и полицейские патрули. Очень может быть, впрочем, что все эти предосторожности, которые Тацит описывает по стоическим источникам, склонным преувеличивать государственное значение Тразеи, принимались не столько ради ожидаемого процесса, сколько просто для порядка в праздничных массах, наполнявших улицы ради прибытия высоких армянских гостей. Тацит говорит о вооруженной черни, обступившей двери храма, с самым враждебным подсудимому настроением. Указание характерно: значит, простонародье было против Тразеи и стоиков; а, если так, то против кого же нужны были огромные военные приготовления? Очевидно, военная демонстрация, в данном случае, скорее совпала с печальным заседанием, чем была им вызвана. Во всяком случае, множество мечей и шлемов произвело эффект. Сенаторы входили в заседание, удрученные и устрашенные заранее. Императорский квестор огласил собранию суровое письмо Нерона, а доносчики, письмо это внушившее и подготовившее, подхватили обвинение и принялись разлагать его из общего в частное. Компанию против стоиков вели; зачинатель ее, Коссутиан Капитон, и Эприй Марцелл: два совершеннейших негодяя и к тому же личные враги Тразеи.
Тацит сохранил обвинительную речь Марцелла. В каком духе говорил к сенату, открывший обвинение, Коссутиан Капитон можно заключить из наушнических мыслей, которые он, несколько ранее, влагал Нерону, как первоидею и основной толчок к процессу.
– Тразеа уклоняется от ежедневной присяги на верность государю и конституции. Манкирует обязанностями жреца, не являясь на заздравные молебны по высокоторжественным дням. Не возносит просительных жертв ни о здравии государя, ни о его небесном голосе. Систему неучастия в деятельности сената он обратил в революционное орудие партии, имеющей распространение и через личное его влияние, и через газету в провинции и войсках. Враг благополучия и дарований государя, он печалится удачами Нерона и ненасытен слышать о его бедствиях и горестях. А их ли еще мало? Он не признавал Поппею богиней: новый знак, что он не верит в божественность дома и институций Августа и Юлия Цезаря. Он презирает наши религиозные действия, отменяет законы. Он глава стоиков, а известно, что за люди выходили из этой секты: самые крайние республиканцы, Тубероны и Фавонии, фанатизм которых был тяжел даже старой республике. Если бы им удалось свергнуть, именем свободы, императорскую власть, они примутся муштровать на свой лад самую свободу. Ты недавно отправил в ссылку сенатора Гая Кассия Лонгина: не велика польза избавиться от одного Кассия, если у нас множатся Бруты. Что-нибудь одно: либо вернемся к желанному им государственному строю, если он лучше современного, либо надо покончить с новшествами столичной крамолы, отняв у нее вожака и начинателя.
Конечно, перед сенатом обвинитель высказывался с меньшей откровенностью и с большим тактом: даже речь Эприя Марцелла, которой выдающуюся наглость и грубость строго отметил Тацит, скромнее этого язвительного призыва к общей принципиальной травле всех стоиков за неудовольствие против одного из членов секты. Марцелл, – старый взяточник, адвокат-обирала, бесстыжий горлан, который давно уже выработал особую ораторскую тактику, – запугивать судей неистовым криком, многозначительно грозными гримасами и взглядами, – вопил без всяких общих намеков, называя назначенные и желанные ему жертвы прямо по именам:
– Обвиняю Тразею, как отступника нашей корпорации. Обвиняю его зятя и единомышленника Гельвидия Приска. Обвиняю Пакония Агриппина, наследственного врага императорской фамилии. Обвиняю Курция Монтана, как автора вредных стихотворных памфлетов.
Коссутиан ехидно кольнул Тразею уклончивостью его от участия в судебных разбирательствах по политическим делам. Эприй Марцелл развивал те же инсинуации:
– Если Тразеа бывший консул, – не угодно ли ему заседать в сенате, Если он жрец, – обязан присутствовать при молебнах. Если он добрый гражданин, а не государственный изменник, – пусть присягает, как все. Ему нравится играть в оппозицию правительству? Прекрасно, никто ему в том не препятствует, это его сенаторское право. Но он должен высказывать свое несогласие по каждому отдельному вопросу, а не оскорблять нас несносным молчанием, огульно осуждающим все. Если его извращенному честолюбию не по вкусу наша мирная политика, наши бескровные победы, благополучие государства, оживление форумов, театров, храмов, если он отрекся от сената, от правительства, от города Рима, который он никогда не любил, а теперь разыгрывая роль какого-то изгнанника-добровольца, не хочет и видеть, – то самое лучшее для него истребить и самую жизнь свою, связывающую его со всем этим.
Это уже прозвучало, как – je demande la tete!
Жестокие нападения двух обвинителей не встретили слова защиты. Тразеа не присутствовал на заседании, решавшем его участь. Накануне суда он совещался с партией, явиться ему перед сенатом или нет. Мнения разделились. Одни, пылкие головы, слепо веруя в гениальность своего молчаливого оракула, настаивали, чтобы Тразеа шел на суд и говорил – не столько для своего спасения, сколько для эффектной демонстрации, для великолепного зрелища человека идеи, умирающего с громкой исповедью своих убеждений.
– Ты человек твердый, не скажешь ничего в ущерб своей репутации, но озаришь новым блеском свою славу. Пусть сенат услышит тебя говорящим, как некое божество, словами выше слов человеческих.
Они твердо верили, что стоит Тразее заговорить, и он растрогает и обратит на путь истинный самого Нерона.
– А если нет, и надо будет погибнуть, то, по крайней мере, умри гласно, с громким эффектом, чтобы «потомство отличило память о доблестной кончине от трусости погибающих без протеста и втихомолку».
Другие, более благоразумные, лучше зная средства своего вождя, – хотя и осыпали Тразею такими же комплиментами, но отговаривали выступать на защиту заранее предрешенного дела.
– Из появления твоего в сенате не выйдет ничего хорошего. Тебя высмеют, обругают, а, может быть, и поколотят. Ты был лучшим из сенаторов, – пощади же сенат, не подвергай его риску такого скандала. Оставь нам хоть иллюзию, что, если бы ты появился перед сенаторами, то они не решились бы судить Тразею. Нерон не изменит своему характеру, – это пустая надежда, Стыдя его, ты добьешься только того, что он сорвет злобу на твоей жене, дочери, на твоих друзьях. Ты прожил жизнь без порока и пятна на совести, – осталось тебе, значит, принять такую же достойную смерть, по образцу мудрецов стоического учения, которое ты исповедуешь.
Тразеа, подумав и взвесив свои силы, а также, вероятно, и недоброжелательное настроение сената, которым ему угрожали, принял мнение, рекомендовавшее ему «беречь сенат» и на суд не являться. Один из самых страстных его приверженцев, а впоследствии его панегирист-биограф, народный трибун Арулен Рустик, по молодости лет своих, собирался сорвать заседание, прибегнув к своему праву вмешательства – праву отжившему, архаическому. В первом веке tribunicia potestas стала личной прерогативой императора, звание народного трибуна не давало права интерцессии в политическом процессе, фактические обязанности, связанные когда-то с этим могучим титулом, выродились и свелись едва ли не единственно к распорядительству народными зрелищами.
Тразеа благоразумно отклонил эту романтическую выходку:
– Ты не принесешь пользы мне и погубишь себя. Я прожил свой век, мне остается выдержать свой характер и правила в акте смерти. Ты же, Арулен, только начинаешь государственную карьеру, у тебя все впереди. Поэтому тебе еще следует очень поразмыслить, какого политического направления надо держаться, чтобы быть полезным своему времени.
Стоик-аристократ понимал, что старые республиканские формы отжили свой век и стали не ко времени. Воскрешая их, скорее насмешишь и озадачишь людей века, чем увлечешь и порадуешь. Украшать головы венками на поминках по Бруту с Кассием, поднимать тосты в честь героев древней аристократической свободы, очень приятно и красиво в своем приятельском кружке. Но история не пятится на сто лет назад, – новые времена требуют новых форм, новых прав, новых учреждений. Тразеа, Сенека и другие, слывшие республиканцами, в действительности, никогда ими не были. Они мечтали обратить государственную власть в идейное правительство просвещения и добродетели, но о попятном движении к древнему укладу форм никто из них не старался и не думал. Политическим идеалом был упорядоченный, ограниченный строгими конституционными гарантиями, принципат. О возврате республики так мало думали, что каждый заговор против Нерона начинали именно с того, что намечали ему преемника, и даже сам Сенека, а, по одному намеку, и Тразеа были весьма вероятными кандидатами на трон.
Настроение сената, пока слушалось дело Тразеи, было самое безрадостное. Запуганные ехидством Коссутиана Капитона, ревом Эприя Марцелла и блеском оружия в портиках храма Венеры Родительницы, отцы конскрипты апатически готовились засудить четырех обвиняемых, не веря в виновность ни одного из них. Совестно было им отсутствующего Тразеи, совестно было его судимых друзей. Тацит, по благоговению своему к стоикам, всегда усердствует доказать лояльность их поведения – даже при таком дурном правителе, как Нерон. В настоящем случае преувеличения лояльности тем возможнее, что материалом для изложения дела Тразеи историку служили панегирики и элогии, быть может, даже именно труд Арулена Рустика. При Нерве и Траяне, когда стоическая аристократия стала у власти, она неохотно вспоминала, что когда-то числилась в бунтовщиках, и употребляла все усилия доказать, что лояльность ее всегда была неизменна, и только злодейство людей, как Нерон, Тигеллин, Домициан, могло истреблять их невинно, «по ненависти к добродетели». Если, все-таки, безусловно поверить Тациту, то против Гельвидия Приска единственным обвинением было свойство с Тразеей; против Пакония Агриппина, – что он сын своего отца, казненного при Тиберии, против Курция Монтана – подозрение о памфлете, которого он и не помышлял писать. Предположив даже, что вины были не так уж карикатурно ничтожны, – во всяком случае, они не могли быть и такими серьезными, чтобы требовать смертной казни и ссылок, на чем настаивало обвинение. И настояло. Тразее было предоставлено выбрать род смерти. Паконий и Гельвидий Приск изгнаны из Италии. На счастье Монтана, отец его, знаменитый кутила и гастроном, был приятель Нерона: застольные подвиги отца спасли сына, – сенат ограничил наказание Монтана только лишением прав на государственные должности.
Тразеа умер великолепно. Весть о приговоре застала его среди гостей-почитателей, в том самом парке, роскошью которого кольнул его в письме к сенату Нерон. Из друзей своих, в этот день, Тразеа особенно много внимания уделил Деметрию, профессору философии цинического толка, рассуждая с ним «о природе души и разлучении духа с телом». Узнав о состоявшемся решении от приятеля своего, Домиция Цецилиана, Тразеа попросил всех удалиться от него, чтобы не компрометировать себя дружбой с осужденным преступником. Жена Тразеи, Аррия, дочь Аррии, знаменитой своим героическим самоубийством в эпоху Клавдия, просила позволения, по примеру матери, умереть вместе с мужем. Тразеа отказал:
– «Береги себя для дочери».
Консульский квестор, с декретом сената, застал Тразею очень веселым: он радовался, что зять его, Гельвидий, отделался только ссылкой. Затем совершилась смерть. В присутствии Гельвидия и Деметрия, – «он протянул руки для открытия жил, и когда из них потекла кровь, покропил ею землю, подозвал поближе квестора и сказал:
– Приносим возлияние Юпитеру-Освободителю. Смотри, молодой человек! Пусть боги не допустят, чтобы это было для тебя предзнаменованием, но ты родился среди таких времен, когда полезно укреплять дух примерами твердости.
После этого, когда медленность кончины приносила ему тяжкие мучения, он, обратившись к Деметрию»...
Что сказал? – мир не знает и вряд ли когда либо узнает: эти слова – последние, которые сохранились нам в летописи Тацита. Конец бесследно потерян, а, может быть, никогда и не существовал (См. прим. в конце книги.)
VII
Процесс Бареи Сорана и дочери его Сервилии слушался в том же самом заседании, что и дело Тразеи, будучи поставлен в какую-то зависимую связь с ним, но в какую именно, Тацит не уясняет. «Перебив столько выдающихся мужей, Нерон, наконец, захотел истребить саму добродетель умерщвлением Тразеи Пета и Бареи Сорана». В приговорах имена обоих судимых тоже соединены, не за единство добродетели, подлежащей истреблению, – по крайней мере, формально. На деле-то оно, пожалуй, так и было: процесс Сорана, при всей массе обвинительных пунктов, в нем поставленных явно, был, в сути своей, лишь таким же актом конечной разделки правительства со стоической аристократией, как и дело Тразеи. Но внешней связи между двумя обвинениями не заметно ни малейшей.
Бареа Соран был человек старый и, кажется, ума не большого, во всяком случае, более стойкого и прямолинейного, чем широкого и острого. По убеждениям и по образу жизни, он был очень хороший стоик, но ни тактом, ни тонкой сообразительностью не отличался. Раньше своего рокового процесса, он является в летописи Тацита однажды в роли столь некрасивой, что взять ее на себя сознательно мог только отъявленный, бесчестный льстец, а бессознательно – разве дурачок-идеалист, совершенно невинный в понимании вещей мира сего. В правлении цезаря Клавдия, его любимец и министр, вольноотпущенник Паллант (см.том II), желая угодить аристократической партии сената, внес законопроект против смешанных браков между женщинами свободного состояния и рабами или вольноотпущенниками. Сенат осыпал всесильного временщика льстивыми почестями. Закон пришелся по вкусу рабовладельческой корпорации, и именно Бареа Соран, в восторге, предложил, чтобы автор проекта, сам бывший раб с проколотыми ушами, был вознагражден за свою «античную добродетель» преторскими знаками и денежным пожалованием в 15 миллионов сестерциев. Близость Сорана к главам стоицизма и неоднократно им обнаруженное личное бескорыстие спасли его, и в этом нелепом случае, от подозрения в умышленной подлости: он просто оказался, что называется, наивным до святости. Что Соран был человеком строгой денежной честности, показывает довольство им Азийской провинции, которой он был проконсулом: чересчур либеральное управление этим неспокойным в то время и потому подозрительным краем именно и подвело его под суд. Обвинительный акт против Сорана, предложенный римским всадником Омторием Сабином, сложился очень веско и грозно. Подготовка к обвинению начиналась издалека.
В 62 году был убит, по приказу Нерона, в азиатском своем поместьи, богатый принц Августова дома, Рубеллий Плавт, покровитель стоической философии, чаемый претендент на императорскую власть. Принца этого Нерон очень боялся. Думали, что Азия способна восстать за права Рубеллия Плавта по первому его призыву. Повидимому, и в самом деле была попытка к организации государственного переворота в пользу Плавта, не получившая развития и осуществления только по пассивности характера самого претендента: имея полную возможность к самозащите, он позволил зарезать себя, как овцу (см. том III). Теперь, четыре года спустя, Бареа Соран, как бывший проконсул
Азии, стоик и приятель Рубеллия Плавта, должен был явиться искупительной жертвой за прежний страх правительства перед убитым принцем. Центром тяжести процесса Сорана стало именно обвинение в привязанности к покойному претенденту и в сочувствии к его замыслам. Ты-де не управлял Азией в пользу и в духе правительства, но возмущал ее потворством туземцам против римлян в расчете снискать популярность на случай государственного переворота. Уликами выставлялись, разрешенные Сораном, работы по расчистке Эфесского порта и одно религиозном возмущение, когда Соран вел себя, как добрый, честный и великодушный человек, но – с точки зрения бюрократической – бестактный и слабый чиновник. Как упоминалось уже неоднократно, после великого римского пожара 64 года, Нерон командировал двух своих агентов в Ахайю и Азию выбрать из тамошних храмов лучшие произведения искусств для украшения воссстанавливаемых храмов столицы. Мера эта, не одобренная общественным мнением и в самом Риме, была встречена в провинциях, которых коснулась, резким негодованием, а кое– где и сопротивлением. Между прочим, азийский город Пергам, особенно славный в тогдашнем искусстве, наотрез отказался выдать свои статуи и картины. Агент Нерона, вольноотпущенник Акрат, уехал с пустыми руками, со срамом и, кажется побитый. Конечно, центральная римская власть имела право и основание ожидать, что ее представитель – проконсул вступится за императорского чиновника и, наказав пергамцев, восстановит потрясенный римский престиж. Но Бареа Соран рассудил по человечеству, что всякому народу дороги свои храмы и кумиры, и, раз Акрат приехал их грабить, то – так ему и надо быть битым. К тому же стоическая школа уже высказала всему кощунственному предприятию Нерона жестокие порицания устами Сенеки, который по этому поводу даже удалился окончательно от двора, не желая слыть и казаться соучастником храмограбительства. Насколько важным и серьезным представлялся стоикам этот опасный поклеп, свидетельствуют Тацитовы строки в жизнеописании Агриколы: «Избранный Гальбой для отыскания похищенных храмовых сокровищ, он тщательнейшими розысками довел дело до того, что государство не чувствовало ничьего другого святотатства, кроме святотатства Нерона (ne cujus alterius sacrilegium respublica quam Neronis sensisset). Теперь Сорану предстояло оправдаться в бездействии власти против пергамцев: как смел он послушаться своей совести, а не начальственного каприза.
Дело, таким образом, было не шуточное и слагалось очень худо. К тому же в Риме гостил азиатский государь, знавший Сорана как проконсула близко соседствующей провинции, если не лично, то по слухам, и на Соране хотели показать варвару поучительный пример, что Рим не стесняется знатностью и влиянием жертв, когда надо поддержать свой престиж и покарать ослушание. Не мудрено, что семья Сорана, потеряв надежду на спасение старика естественными средствами, возлагала надежду только на чудо. Дочь Сорана, Сервилия, бросилась к колдунам и гадателям: уцелеет ли наш дом, умилостивится ли Нерон? не погубит ли нас сенатское решение? Сервилии шел двадцатый год, что, по южным понятиям и нравам эпохи, не считалось первой женской молодостью. При том Сервилия была не только женщина замужняя, но уже успела перестрадать несчастье овдоветь при живом муже: супруг ее, Анний Поллион, был сослан, как участник Пизонова заговора. Верная ему в разлуке, Сервилия жила одиноко, печально и, кажется, бедно. По крайней мере, для уплаты за магические сеансы ей пришлось продать свои свадебные подарки и ожерелье, на чем – как раз – она и попалась. Ее обобрали, а потом на нее донесли, что она гадает об имени императора. Магия была в Риме под строгим принципиальным запретом вообще, и прибегать к ее услугам было уголовным преступлением, жестоко наказуемым (см. мою работу «Античная магия и государственная религия»). Но жизнь и ничем неистребимые симпатии общества к оккультным занятиям и религиям добились для них некоторой фактической терпимости. Покуда маг не был компрометирован прикосновенностью к уголовному или политическому преступлению, его не трогали, смотрели на его гадания сквозь пальцы, а иногда даже поощряли, как, например, знаменитого Симона, волхва из Гиттона. Оберегая свои головы, маги боялись политики, как огня. Гадание о священной особе императора – само по себе государственное преступление, а тут еще пришла за ним дочь героя политического процесса, несомненного к самому тяжкому исходу. Думая помочь отцу, наивная Сервилия набросила на него тень нового умысла и окончательно погубила и его и себя.
Сцена суда над Сервилией и Сораном – одна из самых трогательных в летописи Тацита. Наш русский поэт Мей, автор трагедии «Сервилия» ужасно огрубил ее изящную благородную простоту ненужными и даже невозможными эффектами: вмешательством народа, трибунским veto, неожиданным исповеданием христианства, попыткой Арулена Рустика к самоубийству: хорош был бы народный трибун, дерзнувший обнажить нож в заседании сената! – и прочими мелодраматическими ухищрениями, включительно до того, что Сервилия у Мея не злополучная вдова от живого мужа, а девица в первом расцвете юности[25]. Эпизод Сервилии так хорош и нежен в оригинальном рассказе Тацита, что лучше всего будет здесь – привести дословно 31-ю главу XVI книги «Ab excessu Augusti», в превосходном переводе В.И. Модестова.
«Когда обвинитель спросил ее, не продала ли она свадебные подарки, не сняла ли с шеи ожерелье, чтобы собрать денег на магические священнодействия, то она сначала поверглась наземь, долго плакала и молчала, потом, обняв алтарь с жертвенником, сказала:
«– Я не признавала никаких нечестивых богов, не произносила заклинаний и не призывала своими несчастными молитвами ничего другого, кроме того, чтоб этого бесподобного отца ты, кесарь, вы, сенаторы, сохранили невредимым. Я отдала свои драгоценные камни, одежды, знаки моего достоинства, как отдала бы кровь и жизнь, если бы они у меня этого потребовали. Мне нет дела до того, кто эти люди, до тех пор мне неведомые, каким ремеслом они занимаются: я никогда не делала упоминания о государе иначе, как об одном из божеств. Несчастнейший отец мой, однако, не знал ничего, и если тут преступление, то я одна виновата.
«Соран, со своей стороны, старался устранить дочь от обвинений, лично к нему обращенных. Она ездила с ним в провинцию. Она слишком молода, чтобы быть соумышленницей Рубеллия Плавта, сосланного шесть лет назад и уже четыре года тому назад казненного. Она не знала об отношениях своего мужа к пизоновцам, к тому же оставшихся недоказанными. Единственная вина Сервилии – чрезмерная любовь к отцу.
«– Пощадите же Сервилия), а со мной делайте что хотите!
«При этих словах, Сервилия бросилась к отцу, – он открыл ей объятья, – ликторы едва успели стать между ними и развели их по местам».
Приступили к допросу свидетелей. Главные показания дал клиент Сорана, Публий Эгнатий Целер. – Эгнатий «напускал на себя важность последователя стоической секты, хорошо умел своей наружностью и устами выражать образ добродетели, а в душе он был вероломен, коварен и скрывал корыстолюбие и сладострастие». Псевдофилософа, подобного Эгнатию, конечно, было нетрудно подкупить на показание против друга и патрона – тем более, что – с формальной точки зрения – Соран, действительно, был виноват, так что Эгнатию приходилось не столько лжесвидетельствовать, сколько топить своего покровителя доверенными ему тайнами. Со стороны Сорана выступил защитником-свидетелем вифинский капиталист Кассий Асклипиодот, – честный и стойкий друг, не пожелавший покинуть в несчастье человека, с которым водил хлеб-соль в дни его блеска. Защита стоила Кассию ссылки и конфискации всего имущества. «Так– то, – восклицает Тацит, – равнодушны боги к поступкам добрым и злым!» Сорану и Сервилии было предоставлено право избрать себе род смерти.
Осудив порок стоиков, щедро наградили добродетель доносчиков. Обвинители Тразеи, Эприй Марцелл и Коссутиан Капитон получили пять миллионов сестерциев (500.000 рублей). Осторий Сабин, обвинитель Сорана и Сервилии, получил за спасение отечества от дряхлого старика и девятнадцатилетней глупенькой женщины 1.200.000 сестерциев (120.000 рублей). Не был забыт, конечно, и Эгнатий, но ему деньги не пошли впрок. «Он послужил примером, как нужно остерегаться не только людей порочных и запятнанных дурными делами, но и таких, которые, под видом добродетельной жизни, являются лицемерами и коварными друзьями». Повидимому, кафедра этого изумительного профессора, который, уча началам дружбы, так подло продавал своих друзей, потеряла своих слушателей. Пять лет спустя, Флавианская революция смешала шашки в римской республике, и стоическая аристократия получила возможность посчитаться кое с кем из былых врагов своих при Нероновом режиме. Великий и истинный учитель стоической секты, Музоний Руф, поднял в сенате вопрос о реабилитации священной памяти Сорана. Процесс его был подвергнут пересмотру, а доносчик Эгнатий привлечен к ответственности. Как и следовало ожидать, Музоний Руф провел дело превосходно. «Маны Сорана получили удовлетворение», а Публий Эгнатий Целер был осужден, хотя защиту его вел, далеко не к славе своей, знаменитый еще более Музония Руфа, циник Деметрий: тот самый, что, в качестве как бы духовника от философии, присутствовал при последних минутах Тразеи. Несомненно, большой и острый, но капризный ум Деметрия скрывал под философской оболочкой огромное и чересчур хвастливое тщеславие. Деметрий – правда, убежденный, но уж слишком громкий фразер и позер. Впоследствии, при Веспасиане, ему ужасно хотелось «пострадать» за свой образ мыслей, а хитрый старик-император именно этого-то удовольствия и не хотел ему доставить. Странный каприз Деметрия выступить защитником заведомого негодяя Тацит справедливо аттестует скорее честолюбивым, чем честным. То-есть, Деметрия, кажется, взял задор доказать, что хороший адвокат в состоянии вызволить из-под суда даже и несомненно виновного человека. Но личность Эгнатия, «предателя и осквернителя дружбы, за наставника которой он себя выдавал», внушила судьям непобедимое отвращение. Сам Эгнатий чувствовал себя столь безнадежно преступным, что не имел духа возразить обвинителю хотя бы единым словом. Сенаторы сделали Музонию Руфу овацию, достойную его честного подвига. Деметрий же ушел, освистанный. (См. в томе III «Зверя из бездны» и мою работу об «Античной Магии», а также прим, в конце книги.)
Итак, предатель стоиков кончил худо, наказанный по делам своим. К сожалению, не лучше была позднейшая участь благородного Арулена Рустика. Как было уже говорено, этот пылкий стоик впоследствии издал элогий Тразее. Император Домициан, познакомившись с этим произведением, разобрал, что оно клонится не столько к реабилитации, сколько к резкому протесту против деспотического режима, к которому он, Домициан, вернул Рим. Несчастный Арулен Рустик был был осужден на смерть в 94 году, конечно, при полном безмолвии и бездействии со стороны партии, «берегущей сенат»: «наши собственные руки повели в темницу Гельвидия» и ряд других стоиков, в числе которых и Рустик – говорит в «Агриколе» Тацит. Его сочинение о Тразее было в руках Тацита и, по всей вероятности, легло в основу эпизодов о Тразее в летописи «Ab excessu Augusti», что объясняет их несколько напыщенный, панегирический тон. Так как Арулен Рустик, как и всякий панегирист и памфлетист, заботился в элогии, главным образом, о дидактическом противопоставлении любимого героя своего нравам эпохи, в которую элогий писан, – и так как, вопия против Нерона, Арулен Рустик чаще думал не столько о давно мертвом Нероне, сколько о живом Домициане, – то исторические данные его, а, следовательно, и летопись, на них построенные нельзя принимать заслуживающими большого доверия. Равным образом, как и Тацитово жизнеописание Агриколы, положившее слишком заметную печать на образ Тразеи в «Летописи», кто бы ее ни писал. Изучая их, читатель должен считаться и с умышленными анахронизмами, и с партийной окраской слишком уж белой добродетели и слишком уж черного порока.








