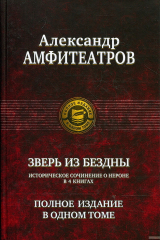
Текст книги "Зверь из бездны. Династия при смерти. Книги 1-4 (СИ)"
Автор книги: Александр Амфитеатров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 71 (всего у книги 91 страниц)
– Почему это мне нельзя сделать того же, что мог сделать Платон, который вышвырнул его из своей республики?
Что касается Тиберия, Светоний влагает в уста его гомерическое восклицание как раз того же содержания, которое в устах Тибериева правнука, Нерона, было принято за улику в намерении погубить город. Нерон, по Диону Кассию, будто бы завидовал Приаму, который испытал блаженство видеть собственными глазами одновременную гибель своего царства и своего отечества. А Тиберию, по Светонию, Приам внушал подобную же зависть тем, что последний троянский царь имел счастье присутствовать при гибели своего рода и умер, пережив своих близких (Felicem Priamum vocabat quod superstes omnium suorum extitisset. Suet. Tib. 62).
Пожар Трои – настолько примитивное литературное воспоминание, что человеку классического образования и сейчас он первым приходит в голову, когда заходит речь о бедствиях, понесенных родом человеческим от огня... Нет никакого сомнения, что, в страшные дни римского пожара, не только Нерон, эстет-педант до мозга костей своих, но сотни, может быть, тысячи людей изливали непосредственные свои впечатления подходящими к случаю стихами «Илиады». Какой-нибудь подобной цитате, может быть, в самом деле, оброненной Нероном, а может быть, и никогда им не произнесенной, несчастно посчастливилось быть ему приписанной и, переходя из уст в уста, сперва вырасти в меткое словцо на случай, потом в анекдот, потом в враждебное утверждение и, наконец, в обросшее подробностями решительное обвинение, которому понадобилось и эффектное место, и обличительное время, – словом, весь материал позднейшей демонической легенды о Нероне, певце и поджигателе... А так как попала она на готовую почву общеизвестной легенды о Сципионе, то и тем легче вцепилась в впечатления общества и пустила в них корни. Сципион тоже, оплакивая пожар Карфагена по Гомеру, аналогиями троянского пожара, думал в это время о Риме, которому рано или поздно суждено испытать – в свой черед – разрушение, участь всех великих городов, когда отживает свои времена цивилизация, их создавшая, и история человечества, удлиняя радиус культурного охвата, расширяет свою область в новый круг, которому суждено поглотить старый... Нероническая легенда воспользовалась готовым образом, только перекрасив его из белого в черный. Национальный герой, рыцарь, образец всех добродетелей, Сципион, читая Илиаду при зрелище пылающего города, думает о Риме со слезами, – национальный насильник самодур, образец всех пороков и, что хуже всего для римлянина, артист Нерон, естественным полемическим противоположением, должен, при зрелище пылающего Рима, радоваться «красоте пламени» и пользуется образом Трои для эстетического издевательства над бедственным моментом: hoc incendium е turre Maecenatiana prospectans laetusque flammae, ut aiebat, pulchritudine Halosin Illii in illo suo scaenico habittu decantavit (Suet. 38).
Не могу не упомянуть об одном возражении против «пения Нерона на развалинах отечества», которое сделал французский биограф последнего Цезаря, Latour Saint Ybars. Оно звучит курьезно по первому впечатлению, но если в него вдуматься, то нельзя не согласиться, что слова Сэнт Ибара находят полную поддержку в артистической психологии, столь царственно господствовавшей в общей психологии Нерона. Дело в том, что из одной позднейшей обмолвки Тацита (Ann. XV. 50) вполне ясно, что «во время пожара своего дворца Нерон всю ночь рыскал по городу туда и сюда без охраны» (andente domo per noctem huc illud cursaret incustodibus). Точность этого известия не подлежит сомнению, так как оно вышло из солдатских уст Субрия Флавия, человека, вообще, честного, а главное, в условиях, когда ему незачем было искажать истину: на личном допросе его Нероном, как соучастника Пизонова заговора, когда Субрий Флавий признался, что готовил покушение на Нерона и думал воспользоваться для того суматохой во время пожара, но почему-то оробел.
«Это ли, – восклицает Латур, – Нерон, который, в обыкновенное время, мучит себя строгим артистическим режимом, ест арицийские груши, постоянно держит платок у губ своих, чтобы не вдохнуть холодного воздуха, и поручает консулярам произносить свои речи к войскам и сенатам, с единственной заботой – как бы сберечь голос? Неужели такой артист, продышав целую ночь дымом, сажей и раскаленным воздухом пожара, полезет на Меценатову башню, чтобы вопить с нее надорванным голосом хриплую песню?..» Известно, что Нерон любил в искусстве больше всего публичность его, внемлющая толпа была для него необходима. «Откуда бы взял он публику, – спрашивает Л.С. Ибар, – когда весь Рим превратился в один костер, а он бродил одинокий, куда глаза глядят, даже без своего конвоя, сравнявшись в подавляющем ужасе общественного бедствия с последним пролетарием?»
Несомненно, что пел ли неисправимый цезарь-артист на развалинах отечества, не пел ли, но само возникновение подобной легенды есть уже суд потомства над памятью Нерона. Сложилась она, по всей вероятности, при Флавиях. Ведь, вообще, все, что мы знаем по делу о пожаре 64 года к обвинению Нерона, исходит от ярых флавийцев. Это – твердые, без колебаний, показания Плиния Старшего (Н. N. XVII. I), Стация (Silv. II. 7), неизвестного автора флавианской трагедии-памфлета против Нерона – «Октавия». Тацит, который житейски сдал флавианскую династию в архив и не имеет надобности за нее публицистически распинаться, уже сомневается, колеблется и ничего не утверждает без оговорок. Быть может, легенда возникла даже не в раннее время Флавиев, но когда Нерон успел уже стать фантастическим символом всякого противообщественного зла, причудливой басней давно прошедшего времени и режима (Ренан), противополагаемого новому. Будь она более раннего происхождения, вряд ли христианский пророк, творец «Апокалипсиса», в котором римский пожар 64 года и последующие затем, грозные для христианства, события отразились с такой мучительной исступленной ясностью, – вряд ли бы он, – при его склонности к гневной, громоносной лирике, к ужасным образам, символически переносящим действительность в какой-то химерический хаос вне времени и пространства, – вряд ли бы он не воспользовался возможностью пополнить апокалипсическую фигуру «Зверя из бездны» столь грандиозной чертой наглого самозабвения и презрения к человечеству. Вообще, полное умолчание об этой легенде в сочинениях христианских апологетов и полемистов, как апостольского, так даже и второго века, позволяет нам сомневаться не только в раннем возникновении, но и в самой популярности ее. Если бы христиане знали ее, – а гонимый, обыкновенно, знает о врагах своих все, даже более всего: и факты, и легенды, и правду, и вымысел, и панегирик, и инсинуации, – то отвратительный образ монарха, умевшего найти эстетическое наслаждение в зрелище гибели и разорения своих подданных, являлся слишком большим козырем в их полемической игре, чтобы они не ставили его на вид своим противникам. Тем более в III веке Тертуллиан, полемизируя против презрения римских государственников к христианам, как приверженцам религии нелегальной, гонимой, искусно опирается именно на образ и имя Нерона. «Обратитесь к вашим летописям, – рекомендует он, – в них вы прочтете, что Нерон первый восстал на наше ученье и свирепствовал против него – особенно в Риме, хотя владел всем Востоком. Мы гордимся таким первоустановителем нашего преследования: ведь, кто имеет понятие о Нероне, тому легко понять, что если Нерон что-либо осудил, значит, это осужденное есть величайшее человеческое благо”.
Что касается писателей языческих, мы видели: наиболее ранний и дельный, Тацит, хотя и более всех романист, упоминает легенду о пении неохотно, вскользь, как слух, пущенный в народ (pervaserat rumor). Настаивает на ней неразборчивый компилятор анекдотов, Адрианов архивариус, Светоний, который подобрал ее не ранее, как шестьдесят лет спустя после римского пожара, а утвердил ее Дион Кассий, который в 155 году только родился, писатель слабый, тенденциозный и мало надежный, да к тому же, в этой части своей сочинения, дошедший до нас только в христианском извлечении, сделанном в XI веке византийским монахом Ксифилином.
II
Обратимся теперь к следующей легенде великого римского пожара: будто Нерон его не только воспевал, но и умышленно причинил.
Решительным, современным пожару, обвинением Нерона в поджоге звучат две строчки в «Естественной истории» Плиния Старшего (22-73). В первой главе XVII книги, говоря о «природе деревьев» и упоминая о споре цензоров 92 года до Р.Х., оратора Л. Красса и Кн. Домиция Аэнобарба (предка Нерона), из-за лотосовых деревьев (еае fuere loti; Литтре и Kohn определяют их, как celtis australis), Плиний замечает, что спорные деревья украшали затем Палатин – «до пожара, которым Нерон сжег город» (ad Neronis principis inctndia quibus crema vit cremavit Urbem). Прямота этого обвинения была бы неопровержимо победоносна, если бы 1) автор не был известен своей добродушно-неразборчивой доверчивостью к молве людской и готовностью валить в свой мешок всякое сведение, какое в уши влетит, чуть еще не в большей мере, чем несравненным своим трудолюбием; 2) если бы «Естественная история» не была посвящена императору Титу – следовательно, не была бы произведением флавианца и с окраской в политических ее местах флавианской тенденцией. Известно, что кроме своей ’’Естественной истории", Плиний написал историю своего времени: А fine Aufidii Bassi (ученого, жившего в эпоху Тиберия и написавшего историю гражданских войн предшествующего века) libri XXXI aut Historia temporum meorum. Об этом труде племянник автора, Плиний младший, сообщает, что он пролежал под спудом все время Неронова правления, о котором, однако, мы знаем, что оно, вообще-то, к историческим трудам не было придирчиво. Герман Шиллер небезосновательно заключает отсюда, что, если Плиний не решался публиковать его при жизни Нерона, значит, оно содержало исключительно резкий памфлет против цезаря и юлианской династии. Ни в качестве безразличного собирателя непроверенных известий, ни в качестве флавианца и антиюлианского памфлетиста, Плиний не годится для безусловного ему доверия. Это был человек несомненно честный, но стадный. Выдумать на Нерона клевету он вряд ли был способен, но добросовестно повторят, плывя по течению общества, клевету, повисшую в воздухе, был не только способен, а – по характеру своему – даже непременно должен, не мог бы ее не повторять. Очень может быть, что презрительный отзыв об историках Нерона, принадлежавший Иосифу Флавию и приводимый мною ниже, относится до известной степени и к истории Плиния, до нас, к сожалению, не дошедшей.
Несмотря на эти отрицательные условия, понижающие достоверность Плиниева показания, оно было бы не только важно, но даже неопровержимо, если бы его хоть сколько-нибудь поддержали другие, дошедшие до нас, историки Неронова века из числа его современников. Но в том то и дело, что Плиний – единственный. А другой и весьма важный, от умного, ловкого и талантливого писателя-политика исходящий, голос Неронова века поет совсем другое:
«Многие писатели повествовали о Нероне; одни из них, которым он оказывал благодеяния, из признательности к нему извращали истину, другие из ненависти и вражды настолько налгали на него, что не заслуживают никакого извинения. Впрочем, мне не приходится удивляться тем, кто сообщил о Нероне столь лживые данные, так как эти люди не говорили истины даже относительно предшественников его, несмотря на то, что не имели никакого повода относиться неприязненно к ним и жили гораздо позже их. Однако пусть те, кто не дорожит истиной, пишет о нем, как ему угодно, если это доставляет ему такое удовольствие. Мы же на первом плане ставили истину...» (И. Ф. др. И. Кн. XX. Гл. VIII. 3. Пер. Генкеля).
Строки эти – Неронова современника и ровесника (р. 37 по Р. X.), жившего при его дворе, в качестве члена Иерусалимского посольства, а потом воевавшего с его войсками в качестве предводителя галилейских инсургентов, – не могут быть поняты иначе, как в смысле категорического предостережения будущим историкам пользоваться литературой о Нероне, последовавшей за его падением: она вся партийная, тенденциозная и не умеет пользоваться другими красками, кроме белой и черной. Факт этого заявления тем более значителен, что оно вышло из-под пера Иосифа Флавия, пылкого флавианца, творца эпопеи во славу новой династии ("De bello Jadaico") и, следовательно, казалось бы, естественного врага династии низложенной... Тем не менее, даже у этого свидетеля – весьма льстивого перед владыками минуты и с весьма покладистой совестью, не отступившею даже перед позором службы против собственного отечества в стане его врагов, даже у него достало мужества заявить, что история не только Нерона, но и предшественников его обращена политическими страстями в собрание тенденциозных анекдотов: хвалебных, когда их рассказывают Неронианцы и товарищи Оттона и Вителлия; ругательных, когда ими насыщают общественное мнение флавианцы, стоики (таким мог быть, например, историк Фабий Рустик, которого даже Тацит упрекает, что он, по дружбе, слишком смягчает грехи Сенеки), и аристократы-ретрограды старой мнимо-республиканской закваски, в своем роде «союз истинно-римского народа».
Сам Иосиф Флавий характеризует Нерона рядом преступлений, известных нам и от других писателей, но ни одним словом не упоминает о преступной роли его в поджоге Рима. «Таким образом власть перешла к Нерону. Он тайно распорядился отравить Британика, а затем, недолго спустя, уже открыто умертвил родную мать, отплатив ей таким образом, не только за то, что она даровала ему жизнь, но и за то, что, благодаря ее стараниям, он стал римским императором. Вместе с тем он велел убить также жену свою Октавию, равно как целый ряд выдающихся лиц под предлогом, будто они составили заговор против него». И только. Между тем, казалось бы, такому публицисту в истории, как Иосиф Флавий, – в виду его флавианских симпатий, – было бы гораздо естественнее сосредоточить внимание своих читателей не на семейных преступлениях Нерона, а на главном его антигосударственном акте: поджоге своей столицы... Но Иосиф такого обвинения против Нерона либо не знает, либо не считает хоть сколько-нибудь достойным внимании, в числе той лжи «из ненависти и вражды», которая «не заслуживает никакого извинения». Предположение многих, которого держится и Аттилио Профумо, будто Иосиф Флавий промолчал о пожаре Рима потому, что помнил старую хлеб-соль и любезности, оказанные ему тридцать лет назад супругой Нерона Поппеей, просто комично... Подумаешь, речь идет о каких-то новейших Дамоне и Пифии! Если Нерона, после убийства Агриппины, стали в насмешку звать Орестом, то уж Иосиф-то ни с которой стороны не Пилад. Мало ли он, за эти тридцать лет, оставил позади себя разрушенных дружб, обманутых друзей, преданных товарищей!... Это домышление еще имело бы хоть какое-нибудь правдоподобие, если бы Иосиф, вообще, замолчал, или смягчил список, злодеяний Нерона, но какой же смысл, обозвав человека матереубийцей, братоубийцей, женоубийцей и убийцей вообще, скрывать, что он, вдобавок к этой совокупности преступлений, еще и поджигатель?... Что же касается обилия писателей, облыгавших Нерона, Иосиф в этом своем утверждении не один. Мы имеем тому свидетельство в шутливом стихе, брошенном в ту же эпоху (при Домициане блистательным ее юмористом, Марциалом (42—102);
Die, Musa, quid agat Canius meus Rufuus:
Utrumne chartis tradit ille victuris
Legenda temporum acta Claudianorum?
An quae Neroni falsus astruit scriptor?
(III. 20.)
Муза, скажи, что Каний делает Руф мой?
Передает ли он бессмертным страницам
Повести о деяниях времен Клавдианских?
Иль что присвоил Нерону лживый писатель?
(Пер. Фета.)
Так что, вот, оказывается: для веселого насмешника Марциала писать о Нероне значит уже – непременно врать. Ясно, что отрицательная репутация этого рода произведений установилась в литературе века точно и не требовала доказательств.
Обратимся к Тациту.
«Неизвестно, было ли то преступление Цезаря или простая случайность, писатели говорят об это различно» (Кронеберг).
«За этим следовало бедствие, неизвестно, происшедшее ли случайно, или по умыслу государя (писатели передают то и другое)...» (Модестов).
«Sequitur clades, forte an dolo principis, incertum (nam utrumque auctores prodirere)...» (Tac. Ann. XV. 38).
Шиллер справедливо отмечает, что к концу первого века по P. X. и в первых годах второго еще не трудно было встретить стариков, для которых великий пожар 64 года был воспоминанием вполне сознательной молодости: последний консуляр Неронова правления умер в 101 году. Да и самого Нерона-то народная молва почитала живым еще при Домициане, что показывает, как свежо держались в памяти Рима Нероновы предания. Более того: если отвергнуть все сомнения в подлинности Тацитовой летописи и считать нашего Тацита, в самом деле, римским Тацитом, то в год пожара ему было уже лет девять-десять, и, следовательно, дальнейшее Нероново время, 64—68 годы, для него уже пора сознательных впечатлений и вполне возможных воспоминаний. Но цитированная фраза его ясно свидетельствует, что сам он не вынес из грозного события никакого личного мнения о распущенном против Нерона слухе и предпочитает свалить с себя нравственную ответственность, спрятавшись за литературу, однако, в то же время, избегая называть авторов. О последнем отметим: против своего обыкновения, – по крайней мере, в отношении своих излюбленных Фабия Рустика, Клувия Руфа и Плиния Аттилио Профумо употребил необычайно много труда и кропотливого анализа, чтобы доказать, что историки Клувий Руф и Фабий Рустик, служившие, в недошедших до нас своих сочинениях, источниками Тациту, тоже подтверждали факт Неронова поджога. Так как Клувий Руф и Фабий Рустик, за исключением нескольких цитат, прямо оговоренных Тацитом в тексте его летописи, – фигуры совершенно гипотетические, и отыскивать следы их в сочинениях Тацита – дело, обыкновенно, более говорящее об остроумии или трудолюбии ученых филологов, чем о непоколебимо точной истине, то, правду сказать, с одинаковым удобством, не особенно трудно было бы обернуть доказательства Аттилио Профумо против него, а названных, исчезнувших историков из прокуроров Нерона превратить в его адвокатов. Но нет никакой надобности прибегать к такому фокусу, потому что – мы видели – уже сам Тацит выразил, более вежливо и косвенно, чем Иосиф Флавий, но такое же откровенное недоумение перед показаниями авторов, писавших до него о Нероновом пожаре, стало быть, в том числе и Клувия Руфа с Фабием Рустиком и Плиния... Этим и объясняется, по всей вероятности, его о них молчание в глухой и неопределенной цитате. Очевидно, подвергнуть их памфлеты сомнению ему не позволило ни уважение к ним, ни партийный расчет аристократа Траянова века, а веры большой он им, по совести, дать не решился. Насколько резонно это колебание Тацита и справедливы его сомнения – подтверждают, уже приведенное выше, выразительное место в «Иудейских древностях» Иосифа Флавия и Марциалов стих.
От Плутарха (ум, около 120 года) мы об интересующем нас событии ничего не знаем. Написанная им биография Нерона потеряна, а в биографиях Отона и Гальбы нет никаких воспоминаний о пожаре и довольно много указаний на любовь народа к памяти Нерона, что, конечно, опять-таки мало вяжется с ненавистной репутацией «поджигателя». Замечательнейшее упоминание Плутарха о Нероне – в биографии Марка Антония. Мне уже приходилось, упоминать о нем, как любопытном примере психологического проникновения Плутарха, по-видимому, умевшего почувствовать в Нероне «атавистические» черты, сближавшие его характер с характером буйного предка-триумвира. «Это и есть тот самый император, – пишет Плутарх, – который вступил при мне на трон. Он убил свою мать и своим безумием и глупостью едва не довел римского государства до погибели. Он был пятым потомком Антония». И все.
Одним из выразительнейших противопоказателей пожарным легендам о Нероне, является совершенное безмолвие о них у сатириков, почти ему современных и весьма ему враждебных. Молчит Марциал, которому в эпоху пожара было за 20 лет. Ни словом не обмолвился Ювенал, в эпоху пожара семнадцатилетний. Выше я приводил стихи первого, который, льстя Домициану и, вообще, дому Флавиев, противопоставляет их великодушие, стремящееся навстречу удобствам народа, эгоизму Нерона, сталь нагло выразившемуся в земельных захватах Золотого Дома. Казалось бы, как при этом удобном случае не попрекнут Нерона репутацией поджигателя? Однако, Марциал этой сплетни или не знает, или ею пренебрегает как выдохшейся басней, vieux jeu. Для Марциала Нерон – «crudelis Nero» (жестокий Нерон), «кинэд» (VII. 34), матереубийца (IV. 63). Убийством поэта Лукана он всего ненавистнее Марциалу, «хотя бы, казалось, уж и некуда дальше идти в моей ненависти к тебе” (Heu! Nero crdelis nullaque invisior umbra, debuit hoc saltim non licuissi tibi VII. 31). Полтора Марциалова стиха из 34 эпиграммы той же VII книги обратились почти в пословицу:
Quid Nerone peius?
Quid thermis melius Neronis?
(Что хуже Нерона? Что лучше Нероновых терм?)
Кроме этих терм, к похвалам которых он возвращается многократно, в Нероне для Марциала нет ничего приятного. Поэт воспевает восторженными стихами врагов Нерона и борцов против него (напр. Максима Цезенния. VII. 44. 45). Как поэта, он иронически рекомендует Нерона ученым педантом (carmina docti Neronis), а по толкованию Фета, кроме того, и плагиатором, выдававшим стихи Нервы за свои.
Sed tarnen hune [Нерву] nostri seit temporis esse Tibullum,
Carmina qui docti nota Neronis habet.
Но современным его однако считает Тибуллом,
Всякий, кто изучил песни ученого Нерона...
Упомянув Нерона, на протяжении 15 книг эпиграмм своих, раз двадцать, Марциал не обмолвился о нем ни одним добрым словом, а слов гневных и негодующих наговорил много. Но ни о поджоге, ни о троянском песнопении – ни звука. Еще ненавистнее относится к Нерону, Неронову веку, Нероновым клевретам и товарищам, Ювенал. Когда ему надо заклеймить кого– либо из своих современников несмываемым позором, он изыскивает для этого несчастного кличку в списке негодяев, составляющих двор Нерона и Поппеи. Известна его грозная тирада – беспощадная характеристика Нерона в сатире VIII, где, между прочим, упоминается и написанная Нероном поэма «Troica».
Libera si den tur populo suffragia, quis tam
Perditus ut dubitet Senecam praeferre Neroni,
Cujus supplicio non debuit una parari
Simia, nec serpens unus, nec culeus unus?
Par agamemnonidae crimen; sed causa facit rem
Dissimilem: quippe Hie, deis auctoribus, ultor
Patris erat caesi media inster pocula. Sed nec
Electrae jugulo se polluit, ayt Spartani
Sanguine conjugii, nullis aconita propinquis
Miscuit, in scena nunquam cantavit Orestes;
Troica non scripsit. Quid enim Verginius armis
Debuit ulcisci magis, aut cum Vindice Vindice Galba?
Quid Nero tam saeva crudaque tyrannide fecit?
Haec opera atque hae sunt generosi principis artes,
Gaudentis foedo peregrina ad pulpita saltu
Prostituí, Graiaeque apium meruisse coronae.
Majorum effigies habeant insignia vocis:
Anteg pedes Domiti longum tu pone Thiestae
Syrma, vel Antigones, seu personom Menalippes,
Et de marmoreo citharam suspende colosso.
«Если дать народу свободу голосования, то найдется ли в нем негодяй, способный задуматься, лучше ли иметь государем Сенеку, чем Нерона? Нерона, для преступлений которого мало одной обезьяны, одной змеи и одного мешка? [Намек на старинную казнь отцеубийц]. Сын Агамемнова [Орест] совершил такое же преступление [убив мать свою Клитемнестру], но повод к убийству рисует его совсем в другом свете: он мстил за отца, которого зарезали за пирушкой. Но он не осквернил себя убийством Электры [тогда как Нерон умертвил сестру-жену свою Октавию), или кровью спартанской супруги [aut Spartani sangune coniugii, т. e. Гермионы, дочери Менелая и Елены, – опять-таки Октавии], никогда не готовил ядов для своих родных [Британик], никогда не пел на театре, не писал «Троики» [Troica non scripsit]. Этого ли мало еще, чтобы Вергиний или Гальба с
Виндексом – подняли против него оружие отомщения? Что путного совершил Нерон за время своей свирепой и дикой тирании? Вот они – деяния и таланты великодушного принцепса: ему только и радости было, что бесстыже плясать на иностранных сценах, заслуживая у греков победные венки. Как же! Необходимо обрадовать памятники предков наградами за голос: возложи на пьедестал статуи Домиция долгополый костюм Тиэста или Антигоны, или маску Меналиппа, а кифару свою повесь на шею мраморному колоссу [т. е. триумфальной статуе Августа, которую, как говорилось в III томе, Нерон, действительно, украсил победными венками, привезенными из греческих, своих гастролей ]».
«Troica scripsit» – «написал Троику»: бестактную поэму, которой оскорбил страну в ее национальном горе, – такова для Ювенала вина Нерона в отношении пожара. Но – 1) scripsit, написал, а не cantavit, не пел; 2) осыпав Нерона всевозможными резкостями за его семейные преступления и сценические грехи, неужели Ювенал позабыл бы бросить в память его кличкой «поджигателя», incendiator’a, если бы в эту басню он сколько-нибудь верил, если бы прилично было в нее верить, если бы можно было повторять ее без того, чтобы современная критика образованного общества не заметила автору, что он лепечет бабьи сказки, достойные уличной черни, – не любо, не слушай, врать не мешай?.. Вообразите себе, что сейчас какой-либо историк заключил бы биографию императора Николая I категорическим утверждением, что он отравился, не выдержав позора проигранной войны. Сплетня эта и имела, и до сих пор имеет весьма широкое распространение, но кто же в состоянии придать ей серьезное значение или построить на ней ответственную литературную фабулу, а тем более положить ее в основу сатирического замысла, который только тогда и силен, когда весь он – беспощадная правда, явная ли, в маске ли, прямым ли словом или иносказанием, но – несомненная правда с начала до конца? В том и сила Ювеналов и Салтыковых, что они могут быть гиперболистами, но выдумщиками, глашатаями сомнительных фактов – никогда.
Аттилио Профумо и многие другие оправдывают молчание сатириков о пожарных преступлениях Нерона тем предположением, будто они были уже настолько общеизвестны, что не стоило и говорить о них особо, – они подразумевались сами собой. Возражение – более, чем наивное. Когда же сатирики пишут о том, чего никто не знает? Сатира – клеймо общественных грехов и преступлений, а не сыщик и не следователь по темным делам. И римская сатира, несмотря на все, свойственные Ювеналу, преувеличения и способность зарываться, воевала только с фактом или с тем, что она считала фактом, а не вдавалась ни в чтение в сердцах, ни в сплетню. Ювенал верил, что Нерон убил мать и жену-сестру, отравил брата, знал его, отвратительное в глазах римлянина старого закала, пристрастие к сцене и аплодисментам ненавистных Ювеналу греков, читал его бестактную поэму и патриотически возмущался ее: всем этим обвинительным актом он и плюнул в память Нерона. А больше он ничего не знал и ничему не верил. Сплетню же предоставил трепать улице.
Если только улица ее трепала, а не застряла она в анти-неронианских, политических памфлетах флавианцев и аристократов старо-республиканцев, в которых и пролежала без отклика до дней Тацита, в ней усомнившегося, и до дней Светония, ей обрадовавшегося, ее воскресившего и пустившего ее в новый оборота. Я делаю это предположение на том основании, что Светоний же, собрав множество уличных острот и эпиграмм на другие преступления и пороки Нерона, не приводит ни одной сколько-нибудь относящейся к пожару. Вот, эти эпиграммы:
Νερων,Ορεστηζ Αλϰμεων μητροϰτονοη.
(Нерон, – Орест и Алкмеон: тоже матереубийца.)
Νεονυμφον Νεοων Ιδίαν μητεοα απεϰτεινεν
(Нерон убил свою новобрачную мать.)
Quis negat, aeneae magna de stirpe Neronem?
Sustulit hic matrem, sustulit ille patrem.
(Кто посмеет отрицать, что Нерон происходит из славного рода Энея? Тот носил на плечах отца своего, а Нерон укокошил свою мать.)
Здесь игра слов на сказуемом sustulit; глагол tollere выражает две категории понятий: поднимать, в прямом и переносном значении, и насильственно устранять, в том числе и убивать.
Dum tendit citharam, dum cornua Parthus.
Noster erit Paean, ille Hecatebeletes.
(Пока наш натягивает струны на кифаре, парфянин натягивает тетиву на луке. Быть нашему Аполлоном Пеаном, ну, а тому – Аполлоном, метателем гибельных стрел.)
[Ну, разве не напоминает эта эпиграмма восклицания – «Они нас пушками, а мы их иконами», – которое было приписано петербургской уличной остротой Куропаткину, когда он, отправляясь на театр японской войны, уж очень усердствовал в служении молебнов и принятий благословений от всех иерархов, которым только была охота благословлять?]
Выше приведена была уличная эпиграмма на постройку Золотого Дома. Даже второстепенные и интимные скандалы дворца, выплывая на улицу, делались достоянием ее юмора. Когда Нерон «женился» на оскопленном, так сказать, «второй печатью» – дабы походить на женщину – паже своем Споре, город отозвался эпиграммой: «Хорошо было бы роду человеческому, если бы и у отца Домиция была такая жена» (Bene agi potuisse cum rebus humanis, si Domitius pater talem habuisset uxorem). Как вольничали шутками против Нерона актеры, было отмечено в предшествующем томе. Решительно за все хлестала Нерона смелая и безудержно насмешливая римская улица, – ей ли было промолчать о таком грехе его, который ее больше всего касался?
Таковы взгляды на участие в римском пожаре его современников и полусовременников, за исключением двух – Стация и лже-Сенеки в «Октавии» – уже совсем откровенных и прозрачных флавианских агитаторов, о которых я буду особо говорить ниже. Нет надобности подвергать, как то делает Г. Шиллер, подробному анализу сказания о том же писателей позднейших начала II века, тем более, что мы еще должны будем вернуться к их показаниям – по смежному, но еще более острому вопросу о будто бы воздвигнутом в связи с великим пожарам, первом римском гонении на христиан. Не только Орозий или Сульпиций Север, но даже и Светоний с Дионом Кассием стояли пред лицом легенд этих нисколько не в лучшей осведомленности, чем в настоящее время оказываемся мы, а, пожалуй, даже и в худшей, ибо политическая тенденция и неведение экзегетического метода, совершенно необычного античным историкам, не позволяли им прибегнуть к проверке фактов путем скептического анализа, робкого в посягновении на классиков даже в XVII—XVIII веках нашей эры. Только XIX век решился поставить свой гений выше классических пергаментов и изрубленных буквами мраморных досок и осветил своим недоверчивым исследованием Рим цезарей – может быть, и с чересчур пестрым разнообразием, зато и с такой яркостью, что смело можно сказать: лишь с половины прошлого века история Рима цезарей становится понемногу, действительно, историей (хотя бы и с множеством оговорок), а не собранием летописных анекдотов, с предписанным и недвижным ортодоксальным на них взглядом. Светоний и Дион Кассий именно тем и ужасны, что, при своей репутации классиков и как будто, в чине этом, первоисточников, они – как источники – ни рыба, ни мясо: ни летописцы, на которых, можно положиться в фактах и словах, ни историки, которые давали бы ключ к своим сообщениям наличностью общей руководящей идеи. Они для нас слишком запоздалые свидетели и слишком давние писатели (да, к тому же, и плохие). Они могут кое что подтвердить, но не в состоянии ничего утвердить. Нам надо слишком съежиться, чтобы войти в узость их маленьких идей, понять и усвоить их ограниченную тенденцию. А поняв и усвоив, мы, как дети своего века, вооруженные его познавательным методом и большими средствами сравнения материалов, даже невольно, но неизбежно и немедленно, замечаем сшитые белыми нитками противоречия, детское легковерие, а иногда и сознательные обманы, которых предшествующие века разоблачать и не могли, да и не хотели... Бэйль, Вольтер, Гиббон, дерзавшие на такие опыты, производили впечатление исторических кощунников. Лэнге, в первые годы великой французской революции осмелившийся выразить недоверие Тациту, прослыл в Париже, с легкой руки Мирабо, «адвокатом Нерона»... И эта суровая ревность к авторитету классических писателей, хотя уже и значительно расшатанная усилиями, в особенности, германских историков, далеко не погасла даже и до сего дня.








