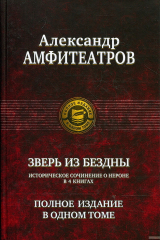
Текст книги "Зверь из бездны. Династия при смерти. Книги 1-4 (СИ)"
Автор книги: Александр Амфитеатров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 80 (всего у книги 91 страниц)
Таким образом, просьба о выдаче тела мученика – почти непременное заключение каждого мученического жития, начиная с самого Основателя религии, тело Которого было выпрошено «благообразным Иосифом» у римского прокуратора Понтия Пилата, к неудовольствию саддукейского священства. Правда, жития содержат в себе не мало отказов в выдаче тел, но не следует забывать, что жития эти писаны несколькими веками позже фактов, которые они излагают, и – во-первых – воображают древние события в обстановке и возможностях своего века и своих местностей, а во-вторых – всеми силами стараются вычернить злобу гонителей, доходившую, дескать, вот до чего: в погребении отказывали! Не сомневаюсь, что подобные случаи бывали, особенно на Востоке, с его обозленным жречеством соперничающих культов и свирепой чернью, но они не могли быть часты, и, если являлись, то повторяю – только в виде злоупотреблений, так как совершенно противны и праву Рима, и его религиозному мировоззрению.
Раз тела великих мучеников были извлечены из общих ям и погребены в катакомбах, невозможно, чтобы их могилы были забыты и смешаны с другими. Почитание мощей в христианском Риме – культ очень ранний, а церковью местной еще в начале II века управляли люди, которые могли сами знать апостолов и, конечно, были осведомлены о месте и способе их погребения. Словом, раз историк соглашается признать, что апп. Петр и Павел погибли в Риме не иначе, как жертвами Неронова гонения, он не имеет повода строить свои сомнения касательно возможности сохранить их мощи. Но, как бы то ни было, последние в настоящее время – конечно, не имеют ничего общего с теми, которым поклонялись древние христиане. Те, которые перенес некогда Корнелий (251-253), погибли в августе 846 года, когда Рим взят был врасплох сарацинами, учинившими страшный грабеж в базиликах св. Петра и Павла. Вот как рассказывает это событие Грегоровиус:
«Вопя и кощунствуя, разорили они золотую гробницу апостола. Не смогли унести с собою бронзовый саркофаг, но алчность и любопытство вдохновили их вскрыть его. Содержимое раки, без сомнения, было ими выброшено и уничтожено. Ведь не трудно представить: язычникам этим лестно было наложить руку на святейший символ христианского культа, на те самые мощи Петра, тайна которых никогда не открывалась человеческому взору; опустошить могилу, заключавшую в себе догматического главу христианства, которому, по нехристианскому выражению одного папы, верующие поклонялись на земле, как Богу, преемники которого именовались папами и перед прахом которого все народы и правители приходили повергаться во прах; надо вообразить себе все это в совокупности, чтобы получить понятие о демонической радости, с которой сарацины должны были устремиться к уничтожению мощей, какое чудовищное святотатство совершилось и сколько горести христианству оно причинило.
«Св. Павел разделил судьбу своего товарища в апостольстве. Сарацины обрели в его базилике едва ли менее обильные богатства и предали раку апостола подобному же разграблению».
Сомнения в подлинности мощей Петра и Павла принадлежат глубокой древности. Им обязаны происхождением такие легенды, как – о папе Сильвестре, в эпоху Константина Великого: он будто бы, умышленно перемешал кости обоих святых, чтобы поставить под равное их обоих покровительство и Рим, к которому относится базилика Петра, и римскую Кампанию, к которой относится базилика Павла. Когда в VI веке императрица Константина обратилась к папе Григорию Великому с просьбой выслать ей для новой церкви в византийском дворце голову или иную часть мощей ап. Павла, Григорий сухо отвечал, что не только руками, но даже взглядом коснуться праха апостолов невозможно, так как они карают дерзновенных смертью, и привел тому выразительные примеры. Тем не менее, по определению церкви св. Павла внутри Рима (Scuola di S. Paolo), основанной в 380 году папой Дамазием в доме, где некогда будто бы, квартировал апостол, она обладает правой рукой ап. Павла, пожертвованной сюда из базилики S. Paolo fuorí le mura папой Сильвестром, который, однако, за такое расчленение мощей, смертью поражен не был.
Легенда, разрастаясь, заставила сопутствовать ап. Петру в Риме ап. Иоанна Богослова. По преданию, он, тоже схваченный гонителями, был жестоко мучим. Его окунули в котел с кипящим маслом, но чудо спасло жизнь любимцу и наперснику Христову. Путешествие Иоанна в Риме совершенно невероятно, но легенда позаботилась создать правдоподобную топографическую обстановку. Место мучения св. Иоанна указывают в Риме у Латинских ворот, которых, впрочем в это время в Риме не было. Розыск по пожару 64 года, если обратился на кварталы, населенные восточными чужеземцами, действительно, должен был свирепствовать в южной части города: у Капенских ворот, где начался пожар, в предместьях по дорогам Аппиевой, Латинской, Остийской. Слова о кипящем масле, вероятно, намекают на легко воспламенимый раствор для казни через огненную рубашку, tunica molesta, в который погружали мучеников, предназначенных ввечеру стать живыми факелами. При желании видеть в этом предании не сплошь вымысел, крупицу истины может указать предположение, что Иоанн претерпел первую половину казни, но, какими-то судьбами, счастливо избавился от ужаса второй. Во всяком случае, тон, каким говорит Апокалипсис о событиях 64 года – явное доказательство, что автор части поэмы был свидетелем, а, может быть, и жертвой какого-то страшного разгрома. Это – вопль человека, у которого волосы встают дыбом при одном воспоминании, что он видел и вытерпел. Слишком живо реальны в Откровении Иоанновом и мрачные картины гордого римского Вавилона, и сам великолепно грешный «Зверь из бездны», и кровавые образы мучеников, чтобы родиться в фантазии писателя отвлеченным путем. Тут – что-то виденное своими глазами, выстраданное собственным духом и телом. Или, по крайней мере, по живым впечатлениям, по зрелищу и рассказу потерпевших – кровных и близких – воображенное. (См. в «Арк Тита», главу «Апокалипсис».)
«Легенда о Нероновом гонении на христиан, – говорит Гошар, – получила семя свое от апокалипсической идеи, которой понадобилось обратить Цезаря в ужасного и таинственного противника Христу и ученикам его.
«Она развилась под влиянием политического интереса: христианам было выгодно выставлять себя жертвами Нерона в глазах государей новой династии, которая, действительно, относилась к ним в высшей степени терпимо целые 30 лет.
«Форму определенной утвердительности она приняла по особому интересу для римской церкви – укрепить предание об основании ее двумя верховными апостолами, запечатлевшими начало это своею мученической кровью.
«Много позже какой-то благочестивый фальсификатор, сочинивший «Переписку Сенеки со св. Павлом», объединил эти три тенденции общим настроением и привел их в соглашение с идеями своего века, придав им политическую окраску.
«Смутные сплетни о пожаре получили в письмах этих характер определенного обвинения и, связавшись с характером Антихриста, в который церкви продолжали облекать Нерона, они привели к тому, что его сатанинской злости стали приписывать свирепое мучительство христиан. В этом своем новом фазисе легенда вошла в «Хронику» или «Священную Историю» Сульпиция Севера.
«И, наконец, искусный мистификатор воспользовался готовой церковной легендой, чтобы ввести драматический эпизод гонения в Тацитову Летопись».
О первом тезисе французского скептика мне предстоит много говорить в «Арке Тита», в главе, посвященной рассмотрению Иоаннова «Апокалипсиса». Остальные пять позволяет смело принять уже то беглое и общее обозрение вопроса, которое имел я возможность вложить в эти две последние главы.
В заключение считаю нужным дать читателю, путем параллельного сравнения двух документов, наглядное понятие об интерполяции, втиснувшей рассказ Сульпиция Севера в мнимый рассказ Тацита.
Тацит:
deinde indicio eorum multitudo ingens.
Sed non ope humana, non largitionibus principis aut Deum placamentis decedebat infamia quinjussum incedium crederetur.
Ergo abolmdo rumori Nero subdidit reos et quaesitissimispoenis affecit quos per flagitia in visos vulgus Christianos appellabat.
Et pereuntibus addita ludibria, ut ferarum tergis contecti laniatucanum interirent, aut crucibus affixi, aut flammandi, atque uqi defecisset dies, in usum nocturni luminis urerentur.
Hortos suos ei spectaculo Ñero jbtulerat.
Сульпиций Север:
Interea abundante jam Christianorum multitudine, accidit ut Roma incendio conflagraret, Nerone apud Antium constituto. Sed opinio omnium invidiam incendii in Principem retorquebat, credebaturque imperator gloriam innovandae urbis quaeisse.
Neegue ulla re Nero efficiebat quinab eo jussum incendium putaretur.
Igiturvertitinvidiam in Christianos actaeque in innoxios crudelissimae quaestiones.
Quin et novae mortes excogitatae, ut ferarum tergis contecti laniatu canum interirent; multi crucibus affixi, autflamma usti; plerique in id reservad ut, quum defecisset dies, in usum noctumiluminis urerentur. Hoc initio in Christianos saeviri coeptum.
А затем считаю себя в праве временно расстаться с темой о гонении, без острых сомнений в том, что большая часть ее – голый миф, а часть – миф, из разряда тех, которые Тэйлор характеризует философскими: сплетенный и приукрашенный из легенды, оправдоподобленной с течением времени, реалистическими комментариями тех, кто желал в нее верить, потому что искал в ней опоры своим мистическим потребностям.
РИМСКИЕ ДЕКАБРИСТЫ
I
Наступил 65 год от Р.Х., 818 год от основания Рима, одиннадцатый от узурпации принципата Люцием Доминицием Аэнобарбом – в усыновлении Цезаря Клавдия Цезарем Нероном. Консулами были А. Лициний, Силий Нерва и М. Вестин Аттик. Время стояло смутное. Рим был неспокоен, не успев еще отдохнуть от страшного пожара, опустошившего, пять месяцев назад, столицу мира почти что до тла. Уголовный процесс против поджигателей, выставленных правительством на жертву мести народной – иудейской секты, которую впоследствии стали звать христианами, – закончился жестокими казнями обвиненных, которые скорее притупили мстительную свирепость разоренного населения, чем удовлетворили чаемую им справедливость. Легенда о процессе этом темна, и столько в ней путаницы, что – мы видели – можно сомневаться, еще был ли такой процесс, и можно с уверенностью утверждать, что, если и был, то не в таких формах и не в таких размерах, как составилась легенда. От грязной и грозной истории пожара остались зловещие темные пятна и на пурпуре цезаря, и в сердцах его подданых. В Риме кипела строительная горячка. Правительство взяло дело восстановления столицы в свои руки, назначило премии за быструю отстройку погорелых домов, учредило строгую регуляцию архитектурных планов, строительных материалов, пожарных правил. Рим воскресал к новой жизни в широких прямолинейных улицах, с тротуарами под портиками, как еще и теперь равняются в крытые линии дома в итальянских городах, – например, хотя бы в Болонье или новая, красивейшая в Европе, улица Генуи – Venti Setiembre. Сооружение портиков было подарком Нерона своему народу: цезарь принял расходы на свой счет, равно как и расчистку погорелых участков под новую стройку. Премии успешным домовладельцам – строителям выплачивались также из его, государева, кабинета. Деревянные стройки в черте города были воспрещены, равно как и пользование балками и стропилами; новый Рим слагался из огнеупорного сабинского или альбанского камня, на цементе. Строго наблюдалось, чтобы дома разных владельцев не имели общих дворов, но отделялись друг от друга брандмауэрами. Была учреждена особая полиция, обязанная регулировать правильное и равное для всех обывателей пользование водой из городских акведуков и фонтанов, увеличено количество проводов из последних по квартирам, расширен диаметр водопроводных труб, усилена их нагнетательная энергия. Каждый домовладелец обязан был всегда иметь наготове пожарный снаряд. Энергичные меры правительства по восстановлению города и обережение его от пожарных опасностей на будущее время, однако, не успокаивали населения. Многим недовольным стародумам вид новой, красиво распланированной, столицы казался досаден. Находили, будто широкие улицы без тени – не по римскому климату; будто вечный полумрак старых узких переулков-колодцев, chiassi, как теперь зовут их итальянцы, – между шестиэтажными домами, спасал обывателей в летнюю жару от малярии. Что римская молва в данном случае повторяла нелепые предрассудки, – разумеется, ясно всякому, кто хоть несколько знаком с гигиеной больших городских хозяйств. Понятно, откуда шло недовольство. Дороговизна земли в Риме породила тип узких многоэтажных домов, которые занимая крохотные площади, поднимались, как высокие башни, чуть не до облаков небесных, дробясь на множество мелких квартир, населенных сотнями жильцов. Страшная высота домов-башен, которые, вдобавок, – на основании льготы, оставленной домохозяевам Августом – строились по дворовому своему фасаду гораздо выше, чем по фасаду уличному, была истинным бедствием для римского обывателя, – как при частых пожарах и землетрясениях, опустошавших Вечный город, так и вследствие дурной спешной кладки здания. Акулы квартирного промысла были и тогда те же, что и теперь, – и, кроме скорейшей и выгоднейшей эксплуатации, нагроможденных кое-как один на другой, этажей, ни о чем не думали. Обвалы домов были в Риме самым частым бедствием. Еще Катулл, а впоследствии Сенека указывают на них, как на один из злейших бичей римского обывательства. Нерон хотел покончить с этим грехом своей столицы: максимально дозволенный уровень высоты был понижен для новых домов до 60 футов, а количество этажей ограничено четырьмя. Естественно, что домовладельцы, которые, с каждой саженью пониженного уровня, теряли верные и беспечные ренты, не могли быть в восторге от распоряжения цезаря, злобились, сплетничали и клеветали. Нет недоброжелателя более лютого, чем домовладелец, которого бьют по карману мерами в пользу общественного благоустройства. Автор этой книги наблюдал эту скаредную злость в Москве конца восьмидесятых и начале девяностых годов прошлого века. Имя главного виновника пере– стройки и упорядочения второй русской столицы, городского головы Н.А. Алексеева, стало кошмаром каким-то для домовладельцев, окружилось сплетнями невероятными и повторялось так часто и враждебно, что, наконец, на нем фиксировалось болезненное внимание одного безумца, который Алексеева, ни с того, ни с сего, и застрелил.
Несомненно также раздражало римлян зрелище Золотой Виллы (Domus Aurea) Нерона. Она росла не по дням, а по часам, по мере расчистки гигантского пожарища, захватывая своею усадьбой огромные и лучшие в городе пространства. (См. о том в первой и шестой главах этого тома). Бедствие почиталось божественным наказанием за нечестие века, – правительство должно было устроить целый ряд очистительных молебнов, жертв, обрядов. Самому процессу христиан и жестокой расправе с ними, – если только все это – не позднейшая легенда, – быть может, старались придать характер очистительной человеческой гекатомбы. Но что же? Едва расплатились с богами за старые несчастья, неугомонный император-атеист принимается за новые святотатства. Он жаждет строить, строить и строить, а денег нет. Тогда производится насильственный заем из ризниц римских храмов, а два продувных холопа Нерона, вольноотпущенник Акрат и сомнительной репутации философ Каринат Секунд, ограбили, по поручению императора, храмы Азии и Ахайи, вывезши в Рим не только сокровища ризниц, но и ценные статуи богов.
Естественно, что боги и служители их должны были очень обидеться на бесцеремонность, с какой Нерон наложил свою властную руку на их достояние. Поэтому конец 64 года оказался полон знамениями, чудесами, зловещими для правительственной власти. Так, ведь, всегда и всюду бывает, как скоро правительство становится не в лады со своим духовенством. Опять стали гоняться за Нероном громы и молнии небесные. Пришла комета – вторая в правление Нерона. Суеверные слухи о первой стоили ссылки и потом смерти родственнику цезаря, возможному претенденту на принципат, принцу Рубеллию Плавту. И вот, Рим вновь со страхом и любопытством ожидал, по чью-то голову пришла косматая звезда теперь. На улицах находили безобразных выкидышей, в беременных жертвенных матках – детенышей о двух головах и тому подобных уродов. Близ города Плаценты, ныне Пьяченцы, родился теленок, у которого голова была на месте голени. Гаруспики объяснили появление чудовища иносказанием, что грядет в мир новый глава роду человеческому, но – так как голова теленка была сдавлена в утробе материнской, а родилось чудовище на краю большой дороги, – то и новому кандидату во всемирные повелители не удастся-де скрыть свои замыслы от могучих врагов, ни стать им опасным, усилившись втайне.
Условия внешней политики были хороши. Республика наслаждалась повсеместным и прочным миром. Но над средиземной эскадрой римского флота разразилась катастрофа, причинившая ему ущербы, более жестокие, чем бы могло быть в самое опасное время войны. Виной бедствия твердо установлено личное упрямство императора Нерона, предписавшего эскадре, во что бы от ни стало, быть к назначенному им сроку в главном военном порте, у Мизенского мыса. На переходе от города Формий, расположенного при Гаэтском заливе, – стало быть уже в двух шагах от цели, эскадра попала в бурную струю сирокко и потерпела, близ Кум, страшное крушение, с огромной потерей судов и людей. Несчастье, конечно, произвело в народе самое тяжелое впечатление, – особенно в виду несомненной виновности в нем легкомысленного цезаря-самодура. Как жутко и тревожно было настроено общество, лучше всего показывает нервность, с какой оно приняло – незадолго до крушения, только что рассказанного – весть о незначительном бунте в гладиаторской школе города Пренесте, ныне Палестрины. Волнение это не могло быть серьезным, что доказывается уже легкостью, с какой укротил его приставленный к школе гарнизон, не прибегая к призыву сторонней воинской силы. Но в молве народной оно выросло только что не в новое восстание Спартака, и, как намекает Тацит, люди и трусили воображаемого переворота, и желали его. Так чувствовали на низах общества, в классах, где формируется революционный материал, слагается пушечное мясо государственных переворотов.
На верхах положение дел представляется не в лучшем виде. Старая, отсталая партия консерваторов-республиканцев давно уже потеряла всякий вес в правительстве. От нее осталась только вывеска Кассия и Брута, вылинявшая и мало кого к себе привлекавшая. Идея принципата, т.е. прикрытого республиканскими формами единовластия, торжествовала по всей линии. И, хотя принцепсом Нероном мало кто был доволен, однако, к отмене принцепсов вообще – ни одна оппозиционная партия, ни одна политическая программа не стремилась. Все сходились в сочувствии к принципату, как логическому результату коституции Августа от 27 года до Р.Х. Однако, общность конечного политического идеала не мешала расходиться на путях к нему множеству партийных течений, до острой ожесточенно– воинствующей враждебности. Группируя общие тенденции партий, мы получаем для высших классов Неронова Рима деление на два противоположные, хотя и оба конституционные, лагеря. Один – ярко-аристократический. Он стремится, через сенат, к ограничению власти цезаря контролем родовой и коммерческой знати, причем вожделениями своими, барственностью и, увы, политической неспособностью напоминает отчасти дворянскую фронду во Франции времен Ришелье и Мазарини, отчасти наших вер– ховников в эпоху Петра II и Анны Иоанновны. Другой – цезаристический, с не менее ярко выраженной демократической идеей: устранить политические средостения между цезарем и народом, сделать государя крепким народной волей и любовью, а народ обучить видеть в государе орган его защиты, правды и благополучия, действующий раз и навсегда в определенной договорной колее, строгой и неизменной. Условия эпохи были таковы, что обе программы, – при всей благожелательности руководивших ими, если не целых партий, то их вождей, – не могли получить практического осуществления и застряли в области политического философствования. Сенатская аристократическая партия, красноречиво декламируя о древней свободе, на деле ясно норовила попятить полумонархическую конституцию цезаризма – к олигархической тирании старых фамилий, крупных помещиков, рабовладельцев и капиталистов-ростовщиков. Цезаристы-демократы, завоевывая себе бесправные и малоправные массы населения, доигрались в популярность до того, что в один прекрасный день потеряли всякую популярность. Самое большое, что могли они дать эпохе – это, вместо абсолютизма грубого и тиранического, абсолютизм просвещенный. Но усилия их и в эту сторону достигли лишь того, что монарх, ими поддержанный, понял, как мало они ему нужны, и, вместо всяких конституций, стал управлять империей по личному произволу, опираясь на сытость толпы, довольство хорошо управляемых провинций и щедро оплаченную солдатчину.
Конец пятидесятых годов I века, время юности Нерона, прошел для римских правящих кругов в борьбе за власть между сенатской олигархией и цезаристами-демократами. Последние, в лице двух талантливых выскочек, Бурра и Сенеки, победили сенат, но на такой наклонной плоскости, что сами не смогли удержаться на победной высоте. Ряд дворцовых интриг уничтожил их влияние на безалаберного цезаря-артиста, которому опротивели всякие конституции и философические тонкости власти, а нужны стали только деньги, наслаждение, сверхчеловеческий произвол. Напрасно была убита вдовствующая императрица Агриппина. Мертвая, она оказалась сильнее, чем была живая, и ее деспотические идеи торжествовали сейчас по всему государственному фронту. Бурр умер. Сенека стал готовить себе почетное отступление в отставку. Философов-министров при дворе Нерона заменили авантюристы, как Тигеллин, и авантюристки, как Поппея, супруга цезаря. Кипела оргия разврата денежного, полового, артистического. Правительства не стало, – царили пьяный и распутный произвол, увенчанная лаврами и золотом анархия. Окруженный алчной опричниной, цезарь возненавидел все, что говорило ему о правильном государственном порядке и хозяйстве, а в особенности, что напоминало ему недавнее время, когда он сам был вынужден и находил нужным считаться с требованиями и этого порядка, и этого хозяйства, по указке министров-философов. Шестьдесят пятый год застает Нерона в полном разрыве с Сенекой. Они поссорились именно из-за кощунственной командировки Акрата и Карината Секунда – грабить храмы Ахайи. Опальный министр-философ, еще вчера всемогущий, сегодня сидит, запершись во дворце своем, только что не под домашним арестом, ждет неминуемой смерти, не ест, не пьет, опасаясь, что его отравят. Тигеллин – странная смесь Аракчеева и маркиза де-Сада – стоит во главе нового правительственного курса и заливает Рим вином и кровью.
Когда обе конституционные партии, олигархическая и демократическая, равно были выброшены за борт, им, в общем бедствии, оставалось только примириться между собою и заключить оборонительный и наступательный союз против общего, грозного врага – гвардейско-серального режима, представляемого Тигеллином и Поппеею. Партии аристократов-олигархов союз был тем более необходим, что она не была богата людьми. Двадцать пять лет беспощадной рубки голов, которой сперва Калигула, потом временщики Клавдия и, наконец, Агриппина и Нерон принижали римскую знать, сделали свое дело. Как ни усердно старается Тацит представить сенатскую партию потерпевшей от Нерона гонения почти неповинно, лишь по шальной и свирепой его прихоти, – революционное настроение и брожение в ней несомненны. Да и странно, если бы их не было. Казни Рубеллия Плавта, Суллы, Торквата и Силана и т.п. вряд ли вызывались только личным капризом цезаря. Тем более, что, когда совершались эти казни, около Нерона еще стояли его философы-министры, а партия демократического цезаризма была в полной силе, – опираясь на фаворитку принцепса Актэ, а, может быть, и на Поппею, которая тогда еще только ползла к власти, и искала себе друзей. Со времени падения Агриппины и по 64 год включительно, в Риме – нет-нет, да открывались аристократические крамолы. Они – если и не могли быть обличены, как настоящие заговоры – заставляли правительство держать сенаторское и всадническое сословие в жестоком подозрении, – как, при первом удобном случае готовое к заговору. И Бурр с Сенекой, философы-конституционалисты, душили эту крамолу с такой же энергией, как впоследствии сам Нерон, видя в ней гибель своей собственной партии. И только, когда Поппея, оставив философское министерство в круглых дураках, круто повернула и дворцовый строй Палатина, и ход государственного корабля к тем же серально-тираническим нравам, по которым, в предшествующее Неронову правление, при Клавдии, руководили государством Мессалина и Агриппина, – только тогда Сенека, одинокий и осиротелый без товарища, умершего еще в 62 году, понял, что – вместо конституционного государя, о котором грезил, – он выкормил на груди своей злейшую змею просвещенного абсолютизма, какую только может вообразить ум человеческий. И еще понял Сенека, что теперь лично ему не вывернуться из беды никаким пристойным компромиссом: он погиб. И, цепляясь за жизнь, отставной «премьер-министр» протянул руку своим недавним врагам. Потерпев политическое крушение, принужденный удалиться в оппозицию, он быть может, не пошел в революцию сам, но благословил, – если еще не соединиться, то уже сблизиться с нею – свой лагерь. Сближение это не могло пройти незамеченным. Уже в 62 году донос некоего Романа, повидимому, императорского вольноотпущенника, обвинил Сенеку перед цезарем в крамольных отношениях с Г. Пизоном, могучим представителем партии аристократов-олигархистов. Адвокатская ловкость Сенеки помогла ему не только выйти сухим из воды, но и упечь своего обвинителя под суд и наказание. Пизону же именно это дело, едва его не погубившее, дало толчок к организации огромного заговора, открытие которого, три года спустя потрясло империю террором, до тех пор едва ли в ней слыханным.
Тацит определяет, что «Пизонов» заговор, в который наперерыв вступали сенаторы, всадники, солдаты, даже женщины, начался и вырос разом. Это не совсем так: великий историк позабыл, что сам же он обмолвился фразой о подготовке заговора с 62 года, заключая летопись последнего в конце 14-й книги. Несколько позже он также указывает, что трибун преторианской когорты Субрий Флав, один из самых решительных двигателей заговора, собирался убить Нерона во время великого римского пожара, т.е. еще в июле 64 года. Так что рассматривать знаменитый заговор, как внезапность, созданную взрывом всенародного негодования, вряд ли возможно. Наоборот, сложность и пестрота революционной организации, обнаруженной розыском Тигеллина, свидетельствуют о подготовке долгой, ловкой и столь таинственной, что в лабиринтах ее навсегда потерялось имя действительного инициатора и вдохновителя заговора. Тацит только твердо стоит на том, что это был не Пизон.
И, конечно, портрет Пизона, как рисует его Тацит, не располагает видеть в нем организатора, годного для государственного переворота мировой важности. Как знамя для восстания, как имя для смуты, Пизон был очень хорош, особенно на том безлюдье, какое произвели в римской знати процессы и казни 50-65 годов. Он происходил из древнего славного рода Кальпурниев, был несметно богат, имел родственные связи со всеми знатнейшими фамилиями республики и пользовался широкой популярностью в народе. Когда Пизон примкнул к заговору, имя его потянуло за собой в крамолу многих. Кальпурниев Пизонов любили в Риме. Судя по данным Тацита, они в эпоху Нерона играли роль передовой аристократической фамилии, идущей во главе века, в ногу с лучшими и гуманнейшими его стремлениями.
Один из Пизонов – Люций Кальпурний – помянут, как консул 57 года. Тацит считает год этот весьма ничтожным в государственной жизни Рима: события консульства, – говорит он, – были настолько мелки, что годятся разве для газетной хроники, а отнюдь не в летопись, которая должна вмещать лишь громкие деяния. Полтораста-двести строк, излагающих у Тацита жизнь Рима при втором консульстве Нерона, в товариществе с Пизоном, действительно, бедны содержанием и изображают правительство, бледное направлением. Народ получил щедрую подачку (конгиарий) в размере четыреста сестерциев (сорока рублей звонкой монетой) на душу: увеличен был на сорок миллионов сестерциев, т.е. на четыре миллиона рублей звонкой монетой, основной капитал государственного банка; переложена с продавцов на покупателей купчая пошлина по торговле рабами, в размере 4 проц, с цены. Цезарь издал либеральный эдикт с воспрещением – как сенатским магистратам, так и императорским прокураторам, давать в провинциях, ими управляемых, зрелища, гладиаторские игры, травлю диких зверей и тому подобные увеселения, коими власти якобы старались угодить народу и привлечь его к себе. В действительности, административное увеселительство это являлось источником огромных денежных злоупотреблений, сопровождалось незаконными поборами с населения и самым отвратительным вымогательством. Удовольствий народу давали на гроши, а рубли зажимали в своем кармане. Вообще, вопрос о безобразиях провинциальной администрации, в консульство Нерона и Пизона, не сходил с очереди. Тянулся процесс Целера; был осужден и сослан Коссутиан Капитон, обвиненный киликийцами; наоборот вышел сухим из воды, благодаря протекциям, Эприй Марцелл, губернатор ликийский, и возвращен из ссылки, которую отбывал, по такому же обвинению, бывший консул Лурий Вар. К тому же году относится пресловутое домашнее расследование о «чужестранном суеверии Помпонии Грецины», столь многозначительное в вопросе о началах римского христианства. Уже одна передача дела властям в руки семейного суда свидетельствует о либеральном духе, взявшем верх в данное время. Однако, на ряду с мягкостью мер, щедростью к народу и гонением на преступную администрацию – проскользнула в сенате и крайне варварская, архаическая поправка к Силанову сенатусконсульту от 10 года по Р.Х. Постановлением этим воскрешался старинный обычай – в случае убийства господина рабом, умерщвлять всех рабов, живших в доме убитого. Теперь – «как в виду мщения, так и в виду безопасности» – сенат расширил действие страшного закона и на вольноотпущенников по завещанию, продолжавших проживать под кровлей убитого. Есть основание думать, что консулы не были сторонниками этой жестокой юрисдикции. По крайней мере, четыре года спустя, в известном деле об убийстве Педания








