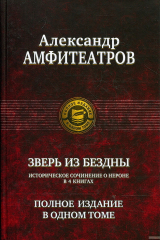
Текст книги "Зверь из бездны. Династия при смерти. Книги 1-4 (СИ)"
Автор книги: Александр Амфитеатров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 79 (всего у книги 91 страниц)
Итак, почтем за возможное: Петр не был епископом римским, но жил, а если жил, то, конечно, и проповедывал некоторое время в Риме, придя туда после апостола Павла, не ранее 61 года. Если гонение Нерона было в действительности, то, конечно, нет ничего невероятного в том, что оно настигло ап. Петра, и он принял крестную казнь. Но, не имея никаких положительных данных в пользу предания о гонении, мы должны с тем же скептицизмом отнестись к сомнительной части сомнительного целого, т.е. к казни апостола Петра. Кроме романа, апокрифических повестей и легенд II – IV века, данных к утверждению Петровой легенды тоже нет. А попытки католических богословов найти такие данные в книгах канонических – несчастные и неудачные натяжки, в которых доброе желание заменяет логику, а полемическая изворотливость – здравый смысл. Так, они утверждают, будто двадцать первая глава Евангелия от Иоанна заключает в себе (ст. 18) пророчество о мученичестве Петровом, исходящее из уст Самого Христа. Богословские рассуждения не входят в тему моей работы. Я ограничусь только замечанием, что в стихах этих нет никакого ни буквального, ни в прямом смысле намекающего, общего пророчества о крестной смерти, – притом в положении опрокинутого вниз головой, – которою заставляет умереть ап. Петра ходячее предание. Что пророчество имеет в виду род смерти Петра, об этом свидетельствует следующий стих 19. Но – какая это была смерть, мы из него заключить не можем. Альфред Луази (« Le Quatrième Evangile», Paris 1903) настаивает, что автор 18 и 19 стиха писал их, зная предание о смерти апостола, которое мы знаем. Я, напротив, думаю, что он имеет в виду какую-нибудь другую легенду, которой мы не знаем, потому что с процессом крестной казни аллегорические намеки 18 стиха имеют мало общего. Писатель, знавший нашу легенду, намекнул бы на нее много прозрачнее и ярче. Мы увидим несколько ниже предположение Ренана и др., что вся эта вставка – настолько поздняя, что навеяна уже живописными изображениями распятия, которых первые века христианства не имели. Хорошо известно, что христианское искусство раннего периода оставило нам крайне мало изображений пыток и казней, которых описаниями, наоборот, столь невероятно богаты жития. Ле-Блан утверждает, что был церковный закон, воспрещавший христианам изображать эпизоды Страстей Христовых, последующие за появлением Иисуса перед Пилатом ("Inscriptions Chrétiennes de la Gaule. I. 156).
Следующим авторитетом канонического происхождения – в пользу римских страстей Петра и Павла – почитается Апокалипсис Иоанна. Тайновидец Апокалипсиса, описывая, быть может, уже в 69 году святые жертвы 64 года, – как рукоплещут они падению Вавилона, который их убил, – помещает между ними «апостолов”: титул, в данном случае вряд ли применимый к кому-либо, кроме Петра и Павла. А раз Петр и Павел умерли мучениками в гонение Нерона, трудно думать, чтобы они пострадали где-либо кроме Рима. Катастрофа 64 года, страшная в столице, если даже и отразилась в провинциях, то лишь весьма слабыми ударами, малочисленные и незначительные жертвы которых, в противоположность римским, известны, по крайней мере, католическому календарю, – по именам: свв. Гервасий и Протасий, Назарий и Цельз – в Милане, св. Виталий – в Равенне, свв. Герма-гор и Фортунат – в Аквилее, св. Поликлет – в Сарагоссе и т. д. (Мартиньи), к жертвам этого же гонения причисляют евангелиста Марка и св. Феклу – так как она, в церковной легенде, первая женщина, потерпевшая мучения за Христа. А для того, чтобы потерпеть мучения, надо мучительство и гонения, а их – некуда с вероятием поместить в I веке, кроме Неронова розыска после пожара 64 года. Но, если сомнительно все вообще гонение Нероново, тем более сомнительно его беспричинное углубление в провинцию, которая, ведь, не горела.
Начиная с XVII века, когда возможность провинциального гонения при Нероне отверг англичанин Генри Додвел (Dodwell), оно оспаривалось такими авторитетами, как Баснаж и Гиббон (XVIIвек), Мериваль, Овербек, Геррес, Дюрюи (XIX век)... Последний указал, что два, весьма усердных в легковерии, христианских писателя V века – Орозий и Сульпиций Север, повидимому, никогда и не слыхивали о Нероновом гонении вне Рима».
По мнению Гошара, приписывать апостолам мученичество христиане начали в результате этимологического недоразумения: по мере того, как, с течением времени, в веках действительных преследований, латинизировалось и изменяло свой смысл греческое слово δ μαστυο:: официальный свидетель, очевидец, добросовестный, понятой. Слово это, переродившись значением в литературе позднейшей христианской церкви, употребляется в Евангелиях, Деяниях Апостольских, в Посланиях, Апокалипсисе еще в старом своем смысле, как мы его встречаем у Демосфена и Лукиана. Ныне оно у всех народов, принявших христианство от Рима, обозначает мученика (le martyr, il martiro, the martyr, der Märtyrer), но в первом христианском веке обозначало только «свидетеля», включая в свою категорию: 1) учеников Иисуса и очевидцев Его воскресения, 2) удостоенных видениями, 3) пророчествующих. Во II и III веке свидетельствовать стало равносильным тому, чтобы подвергаться мученичеству, и идея мученичества, как более яркая и глубокая, заслонила мало-помалу, в современном понимании слова martyr, идею свидетельства. Сперва заслонило, потом затушевало и, наконец, вовсе вытеснило из понятия. А тогда получило и силу обратного действия, окрасив новой идеей мученичества множество старых рассказов, легенд и притч, где, в действительности, речь шла лишь о том, что такие-то вот и такие-то лица свидетельствовали, как очевидцы или галлюцинаты, о таких-то и таких-то словах и событиях. Любопытно в этой остроумной догадке то бесспорное указание, что латинский язык так и не выработал своего оригинального речения для понятия о христианском мученичестве, а «сохранил греческую квалификацию, которой, если нужны были соответствующие эквиваленты, то говорилось: testis (свидетель) или, в особенности часто, confessor (исповедник)». Это укоренение греческого слова, не потребовавшего себе замены латинским, выразительно говорит о движении мученических легенд с сиро-эллинского востока на латинский запад. В числе таких окровавленных, экстатических путешественниц, пришли и те, о которых мы теперь говорим. Пришли очень кстати для слагавшейся в Риме христианской общины и были ею не только радостно усыновлены, воспитаны, но и развиты и приспособлены к потребностям века, церкви и паствы.
III
Что касается апостола Павла, хронологию последних лет его жизни легко установить с удовлетворительной точностью даже без косвенных доказательств, с помощью одних лишь данных Нового Завета. В 58 году Павел издал «Послание к римлянам». Дальнейшие два года уходят на путешествие его из Коринфа в Иерусалим и арест в Цезарее. В 60 году он завершает свой религиозно-политический процесс с фарисеями апелляцией к императору. В начале августа Павла посадили на корабль и повезли в Рим, а Обэ полагает, что даже в 61 году, – что еще удобнее для последующих выводов. Да о годе разницы в таком вековом деле не стоит поднимать больших споров, раз мы видим впереди такую неопределенность дат, как откроется нам – после прибытия ап. Павла в Рим. Что касается его плавания, оно исследовано в мельчайших деталях и историками, и знатоками морского дела. В Англии этому вопросу посвятил исследование Джемс Смит, в Германии – Брейзинг, во Франции – Трев и т.д. Плавание было самое несчастное; даже два месяца спустя – на судный день, yom kippour, в конце сентября, – мы застаем Павла еще только в водах о. Крита. Затем, после двухдневной бури, корабль выброшен 15 ноября на о. Мальту. Здесь апостол зимовал три месяца, с половины ноября до половины февраля. Неделю взял переход с Мальты в Путеоли, ныне Поццуоли, на Неаполитанском заливе. Неделю Павел провел среди путеоланских христиан и потом, пешим переходом в 245 верст, был отправлен в Рим. Таким образом, всего в пути он был около шести месяцев и в Рим вошел в половине марта 61 года. Последний стих Деяний Апостольских ясно говорит, что ап. Павел «жил в Риме целых два года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно». Приложив эти два года к марту 61 года, мы будем уже довольно близко к дате великого римского пожара и вызванного им гонения, всего за шестнадцать месяцев, а если принять хронологию Обэ и Фу– ара, то и вовсе в этой дате: за три, за четыре месяца до пожара. Однако можно смело стоять на вероятии, что Павел оставался в Риме и далее. Не должно забывать, что Деяния Апостольские – труд незаконченный, явно прерванный посреди действия, которое он повествует. «Целых два года» обозначают в стихе Деяний не общую сумму времени, проведенного Павлом в Риме, но лишь срок, покуда он проповедывал «невозбранно». Потом же свободу его стеснили и проповедь стали возбранять, – почему, как и чем, – автор Деяний, не успел доказать. Зато послания ап. Павла из римских уз его объясняют это весьма прозрачно. Образцовое римское градоначальничество не терпело беспорядков. Если Павлова проповедь, публичная, «со всяким дерзновением», вызывала чересчур бурную оппозицию, то Павлу – даже совершенно не касаясь его убеждений и образа мыслей, – могли запретить религиозные митинги, подобно описанному в последней главе «Деяний», просто потому, что они нарушали общественную тишину и спокойствие. Ап. Павел был любим далеко не всеми христианами в Риме. Он имел ожесточенных врагов из иудействующего толка, которые весьма желали завязать рот великому апостолу языков и пресечь доступ к нему, возбудив против него неудовольствие администрации. В Послании к филиппийцам ап. Павел открыто жалуется на каких-то agents– provocaturs, проповедующих Христа «нечисто», «по любопрению », думая увеличить тяжесть уз моих" (Фил. I. 16). Павла хотели «подвести» и, вероятно, подвели таки, добились отягчения уз. И тогда, вместо проповеди явной, апостолу пришлось перейти к тайным собеседованиям с верными, проникавшими к нему уже под страхом административного взыска. Переводя сказание последней главы Деяний на язык современных понятий, проще сказать, что в течение двух лет ап. Павел жил как подследственный обвиняемый на поруках, обязанный лишь подпиской о невыезде, а потом за ним был учрежден более стеснительный полицейский надзор[23].
Если Павел был в Риме летом 64 года, он, как самый популярный из местных христиан, при том единственный, открыто известный властям за проповедника гонимой веры, должен был неминуемо пасть одной из первых жертв катастрофы. «Узы мои о Христе сделались известными всей претории и всем прочим», говорит сам апостол в Послании к филиппийцам (I. 13). Первый гром, конечно, должен был разразиться именно над его, столь заметной и уже подсудимой головой. Охотников разделить его жребий, по-видимому, было не очень много, – во всяком случае меньше, чем врагов, желавших уничтожить Павла, компрометируя его перед правительственной властью. Священное писание Нового Завета сохранило нам имена и некоторых зложелателей Павла, и его робких изменчивых друзей. Второе Послание к Тимофею изображает нам апостола в одинокой и горькой отброшенности. «Все азийские оставили меня: между ними Фигелл и Гермоген»... «Александр-медник сделал мне много зла»... «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век»... «При первом ответе никого не было со мной, но все меня оставили». (См. выше.)
Чтобы увести ап. Павла от кровавой расправы 64 года, полагают, что в начале августа, перед самым гонением он имел возможность уйти из Рима. Действительно, в узах своих он мечтал о новых путешествиях в Азию; легенды же отправляют его проповедывать на Запад, в Испанию. Но, если Павел не был умучен в гонении 64 года, надо признать, что далее мы не имеем о нем ни малейших сведений, кроме темных и сбивчивых преданий, изобретенных скорее любовью, чем истиной. Легенда о вторых узах Павла в Риме создана, кажется, исключительно желанием дать апостолу время написать «пастырские» послания к Титу и Тимофею (Ренан). Вопрос о подлинности пастырских посланий, особенно к Тимофею, как чисто теологический, я оставляю в стороне. Нет помехи для принятия даты 64 года и при том условии, что эти прекрасные послания подлинны. Неужели столь гениальному, вдохновенному, ясно, твердо мыслящему автору, как ап. Павел, нужны были чуть не годы, чтобы сочинить и обработать несколько страничек поучительного текста, в довольно легкой и нетребовательной форме частных писем? В пастырских посланиях нет решительно никаких доказательных данных, что они писаны после, а не до гонения. Разве что, опять– таки, отсутствие упоминаний о св. Петре? Но оно свидетельствует скорее лишь о том, что верховный апостол пришел в Рим весьма поздно, уже по написании пастырских посланий и, может быть, даже всего за несколько месяцев до рокового пожара? Росси утверждает, на основании раскопок своих и показаний средневековых итинерариев, что незадолго до катастрофы ап. Петр проповедывал близ преторианского лагеря, между дорогами Саларийской и Нументанской. Здесь, предполагается, была и крестильня его, – на Козьем пруде (stagnum Carprinum).
Итак, требуется допустить, что ап. Павел на четыре года куда-то пропал без вести, не оставив по себе ни следа, ни памяти, а затем столь же внезапно вернулся из таинственной отлучки в Рим только для того, чтобы сложить здесь голову. Трудно верится, чтобы столь яркий, энергический и общительный человек, как ап. Павел, мог исчезнуть, как падучая звезда, куда-либо, кроме могилы. Во всех прежних путешествиях он оставлял за собой светлый и длинный след, по которому легко проследить его течение. Теперь ничего! Что ап. Павел мог временами отлучаться из Рима для благовестия в Кампании и итальянских землях, это легко допустимо, тому не мешала и поднадзорность его: она должна была только следовать за ним, как последовала за Антистием Ветером, когда он, обвиненный в государственном преступлении, уехал, несмотря на то, из Рима в свое имение (Tac. XV). «Послание к Евреям» приветствует иудеев от имени италийцев; вряд ли ап. Павел имеет здесь в виду христиан из самой столицы. Если и теперь римский простолюдин, на вопрос о происхождении, не скажет, что он итальянец, но называет себя римлянином из Рима, Romano da Roma, тем более Рим отделялся от Италии в эпоху ап. Павла, когда и политические, и гражданские права итальянской провинции были еще не совсем общими со столицей. Но покинуть Рим после пожара совершенно, как беглец, ап. Павел вряд ли был в состоянии. Во-первых, по причинам, от него не зависящим. Сыскная часть поставлена была в Риме образцово, во всей летописи Тацита нет примера, чтобы человек, которым враждебно заинтересовалась власть, не был выслежен и схвачен в самом непродолжительном времени. В этой искусной постановке сыска надо искать, отчасти, объяснения той тупой покорности, с которой римские политические преступники, будучи открыты, спешили покончить с собой самоубийством. Они знали: бежать некуда, рука цезаря достанет всюду... Во– вторых, по соображениям психологического свойства. Не в характере Павла, твердом и находчивом в опасностях, уйти из Рима в момент наплывшей на христианство беды. Старый вождь не мог бежать с поля сражения, на котором фанатически умирало новообращенное воинство. Великолепная легенда «Domine, quo vadis», впервые рассказанная св. Амвросием (IV в.) и столь популярная теперь повсюду, благодаря эффектному роману Сенкевича, показывает нам ап. Петра в попытке скрыться от цезарева террора. Но, едва апостол выбирался из города, как на Аппиевой дороге предстал ему сам Христос, грядущий на встречу, в город. – Господи! куда идешь? вопросил Петр и получил ответ: – В Рим, принять второе распятие... (Romam it enim crucifigi). Петр понял слова видения, как упрек, что он не захотел разделить участь своей паствы, и возвратился в город, на верную смерть. Если, в эти восторженные, исступленные дни, долг положить свою голову за веру так властно повелевал ап. Петром, человеком характера жизнелюбивого и более пылкого, чем устойчивого, можем ли мы ждать иного поведения от Павла, этого нравственного богатыря, привычного бесстрашно смотреть в глаза тысячам смертей, никогда не убоявшегося ни одного грозного голоса, кроме слова истины? Вся христианская жизнь Павла – одно деятельное убеждение, и за убеждение выпало ему счастье, одним из первых, может быть, даже первым, пролить свою кровь. Ибо для него была «жизнь – Христос, и смерть – приобретение» (Филип. I, 21)[24].
О роде смерти апостолов полагают, что Петр был распят. Предание согласно с показанием Тацита, что часть христиан погибла в Нероново гонение через распятие, crucibus affixi, если только этот «Тацитов» текст не возник именно из предания. По роману Климента Александрийского, вместе с апостолом казнили и жену его; он видел, как вели ее на убиение, и благословил на муки. С III-го века утвердилось предание, якобы Петр просил распять его вниз головой – по смирению, «дабы не показалось, будто он дерзает равняться с Христом в способе смерти». Известие это, впервые скользнув у Оригена, поддержано бл. Иеронимом. Наоборот, у Тертуллиана читаем, что Петр образом казни своей уподобился Христу. Невероятного в сказанной подробности легенды опять-таки ничего нет. Что иным извергам нравилось распинать людей вверх ногами, о том, еще при Клавдии, писал Сенека. Крестный жребий, доставшийся Петру, впоследствии, был тонко истолкован христианским благочестием, как таинственное оправдание пророчества Христова, сказанного верховному апостолу о смерти его: «Когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь» (Иоанна, XXI). Опоясание чресл не было общим правилом, при крестной казни, – однако, подробность эта имеется и в описании голгфских страданий Спасителя в апокрифическом евангелии Никодима. Тюбингенцы и Ренан считают весь этот эпизод вставкой позднейшего времени, порожденной уже влиянием живописных изображений Христова Распятия. (См. выше.)
«Чернь – зверям или живьем на костер, а людям порядочным (honestiores) рубят головы», гласит сентенция великого римского юриста, одноименника апостолу Павлу. Легенда настолько знакома с римским уголовным правом, что не допустила ап. Павла, в судьбе которого римское гражданство имело так много значения и так громко выставлялось на первый план, погибнуть позорной смертью какого-нибудь жалкого варвара. Он, в качестве honestior’a, был усечен мечом. Св. Григорий Нисский предполагает, что ап. Павел был также распят, но он единственный, утверждающий это (Vidal). Климент Римский указывает, что апостол «мученически засвидетельствовал истину перед правителями». Слова эти можно понимать в том смысле, что Павла, как римского гражданина, судили в порядке правильного уголовного процесса, а не чрезвычайных административных мер, принятых Тигеллином. Так что, по всей вероятности, он не был включен в число, осужденных гуртом, жертв гонения, и казнь его заметно выдалась на общем кровавом фоне своей аристократической исключительностью. Тем более поразительно, что казнь римского гражданина по такому сенсационному делу не оставила никаких следов на страницах римских летописей, не менее внимательных к правам и правонарушениям в области своей конституции, чем современные английские газеты. Мне всегда представлялась самым естественным объяснением бесследного исчезновения Павла не только возможность, но полная вероятность погибнуть ему, узнику преторианской гауптвахты на agger Tarquinii, сгоревшей во время великого римского пожара, жертвой пламени. Намек на такую возможность встретил я, с удовольствием, что моя идея не одинокое романическое измышление, у А. Гаусрата ("Neutestamentliche Zeitgeschichte" III. 411).
В начале III века уже показывали под Римом два памятника или «трофея» апостольских: один св. Петра у подножия Ватикана, другой св. Павла, у дороги в Остию. Предположительно, то были cellae или memoriae, посвященные мученикам. Подобных памятников было много и до Константина. Только что говорилось выше, что вековой предрассудок о потаенном значении христианских кладбищ в катакомбах должно считать совершенно уничтоженным. Рим не вел войны с мертвецами. Христианские кладбища существовали открыто. Сооружение «трофеев» Liber Pontificalis приписывает Клету или Анаклету, легендарному епископу римскому, преемнику легендарного Лина, преемника легендарного Петра. Что это за трофеи были, в конце концов никто ничего верного сказать не может, хотя католические историки, в пылком своем усердии, исписали о том целые тома исследований и гипотез. См., напр., итальянцев А. Трама (Trama, 1866) и Иларио Риньери (Rinieri, 1909). Возможно, что первоначально под трофеями подразумевались просто теребинф Ватиканской долины, с которым сказания следующих веков связывали память о Петре, и сосна близ Aqua Salvia, окруженная ореолом такой же священной легенды о Павле. Это предположение хорошо сходится с исследованием Гошара, который, скептически критикуя 44 главу XV книги Тацита, подчеркивает, что авторы, современные Нерону, изображают ватиканскую долину, как дикий пустырь с нездоровым климатом и изобилующий змеями: странное и мало вероятное место для народных увеселений. В том, что трофеи, почитаемые христианами конца II и начала III века, обозначали предполагаемые места казни апостолов, можно не сомневаться. Не было ничего невероятного в «творимой легенде», чтобы Павел, в последние дни жизни, квартировал в придорожном предместьи, что тянулось за Лавернальскими воротами, вдоль шоссе в Остию. Древнейшие историки по этому вопросу указывают как раз на местность, где созиждилась впоследствии базилика св. Павла (основанная Константином Великим, по совету знаменитого папы Сильвестра), бесспорная преемница «трофея», о котором, со слов Кая, говорит Евсевий Памфил. В позднейшую эпоху место казни св. Павла стали показывать двумя-тремя километрами далее, у Сальвиевых вод, ad Aquas, иначе у Присноточимой Капли, ad guttam jugiter mananten. Ныне там – монастырь св. Павла у Трех Источников (S. Paolo alle tre fontane): прелестный оазис римской Кампании, особенно с тех пор, как эвкалиптовые насаждения изгнали оттуда веками царившую малярию. Самое происхождение трех источников, давших название урочищу, приписывается легендой трем скачкам отрубленной головы, когда она катилась с плеч апостола. Как ненасытна легенда – всегда и всякая – на чудо, характеризует позднейшая прибавка Амвросия Медиоланского, что, при этом, обезглавленное тело апостола источило скорее молоко, чем кровь.
Легенды, определяющие место казни ап. Петра у подножия Ватикана, где были сады и цирк Нерона, сходятся, в общей связи, с теми, которые вошли в Тацитов текст – о погибнувших в цирке мучениках 64 года – и между ними не только возможно, но и вероятно взаимовлияние, обмен подробностей. «Между двумя метрами, под кипарисом, близ Наумахии, в Ватикане, подле Неронова обелиска на холме, около Неронова дворца (Palatium), – так звали этот роскошный цирк в разговорном обиходе, – на праздничной площади». (Латинский текст был приведен выше.) Вот – наиболее ясные указания, сохраненные нам христианской древностью о казни св. Петра. Но буквально о каждом слове в этом топографическом показании велись и, вероятно, всегда бу– дут вестись нескончаемые и далекие от положительных решений споры: что за Наумахия? какой кипарис? какой Palatium? и т.д. И о каждой гипотезе, ознакомившись с ней, единственно, что можно по чистой совести сказать – это: «верно, а может быть, и неверно». Думали в III и IV веках, – там же была вырыта общая яма, первоначальная могила мучеников гонения. «Неведомых мучеников», как зовет их современная католическая надпись на обелиске площади св. Петра, – том самом обелиске, что, стоя у входа в Неронов цирк, мог быть немым свидетелем «живых факелов», «светочей христианства», если они горели. Так что древнее положение обелиска в цирке, обозначенное ныне в ризнице храма св. Петра надписью на мраморном помосте, должно указывать то место, где верховный апостол – предположительно – насытил глаза кровожадной черни зрелищем крестной муки (Ренан). По другим преданиям, Петр был распят на холме Ginicolo, там, где теперь церковь S. Pietro in Montorio. Это уже – для эффектного заключительного аккорда мученической симфонии: для того, чтобы дать умирающему апостолу возможность бросить последний взгляд на Рим с места, откуда Вечный город виден всего великолепнее и красивее.
Ренан считает мощи Петра и Павла прахом неизвестных христиан, который, в начале II века, усердие верующих к блаженной памяти мучеников произвольно признало за останки апостолов.
В III веке папа Корнелий, убоясь попытки греков украсть апостольские мощи, перенес их с первоначальных мест успокоения в те, где святые останки предполагаются и поныне. Ренан допускал, что с того времени пребывание апостольских тел в их настоящих могилах оставалось неприкосновенным. Свое мнение о том, что перенесенные Корнелием тела не принадлежали апостолам Петру и Павлу, Ренан защищает тем доводом, что в бойне 64 года, при всеобщем смятении христиан, последние вряд ли могли уследить за трупами всех своих мучеников и установить затем тождество каждого из них. Ведь бойня эта оставляла по себе лишь кучи истерзанного, избитого, обгорелого мяса, которое без разбора бросали разлагаться в общих ямах, puticuli. Конечно, впоследствии бывали случаи, что родне позволялось выкупать у палачей останки осужденных, но – не в такое страстное время. Просить римскую власть в 64 году о выдаче казненного христианина для похорон значило самому идти на верную и немедленную смерть. Если и нашлись такие мужественные люди из учеников Петра и Павла, то они должны были тут же погибнуть от ярости преследователей.
Я того мнения, что надо или отрицать факт гонения и гибель в нем апостолов, для чего, как мы видели, имеются все данные, – или же, с ограничениями, Ренаново доказательство никуда не годится.
Во-первых, – Петр и Павел не какие-нибудь темные неофиты, не успевшие стать хорошо известными в лицо христианской общине, но столпы и главы ее, черты и примеры коих, конечно, были знакомы и дороги, как родные, всем верующим, в огромном большинстве, ими же двумя и обращенных к Христу. Следовательно, проследить за судьбой останков их и извлечь из общей массы тел, – только было бы кому, а самый подвиг – не слишком мудреный... Особенно, что касается Павла, казненного отдельно от других осужденных и мечом: приметы, вовсе не частые в груде изувеченных бойней христианских трупов, – ведь первые римские последователи веры Иисусовой были вряд ли не из черни, humiliores! Во-вторых, уцелевшим от гонения христианам было не так уже страшно постучаться к стражам, убирателям трупов, за телами своих святых. Орелли сохранил в своем сборнике надписей эпитафию одного из тогдашних хранителей сполиария. Его зовут Примитив и погребен он в общей могиле с двумя гладиаторами, ланистой Клавдием и ретиарием Телефором, и с врачем при играх амфитеатра (ludus mayutinus), по имени Клавдием Агафоклом. Sit vobis terra levis! доброжелательно гласит их надгробие. Другой medicus ludi matutini зовется Евтихий, а жена его – Ирина: все христианские имена. Потому что, – объясняет Ренан, – громадное количество служителей арены было из Азии. А, пожалуй, еще скорее – потому что они были, если не тайные христиане, то, по крайней мере, сочувственники им. Что между гонителями христиан «по обязанности службы» скрывались тайные их единомышленники, доказывают весьма частые при последующих гонениях, внезапные превращения в мучеников самих судей, стражей и палачей, пристыженных совестью терзать, против убеждения, innoxia corpora, тела неповинные. Известен поразительный случай при Диоклетиане: актер, который должен был пародировать на сцене таинство крещения, вдруг среди спектакля, устыдился своей роли, громко провозгласил себя христианином и пошел на казнь... Люди такого разряда не умели умереть за Христа сами, были бессильны спасти от казни других, но имели полную возможность приберечь мертвые христианские тела и безопасно выдать их единоверцам для честного погребения на кладбищах Аппиевой дороги. Конечно, оказать такое посмертное благодеяние нельзя было всем мертвецам, но, повторяю, апп. Петр и Павел – не «все», а из званных избранные. Лица, упомянутые в эпитафиях Орелли, все – рабы или вольноотпущенники Нерона. Стало быть, это – люди цезаря, его дворня, «фамилия», по римской терминологии. Не будет чрезмерной смелостью сообщить христианские имена покойников в надписях Орелли с знаменитым стихом Павлова «Послания к филиппийцам”: «Приветствуют вас все святые, а наипаче из цезарева дома...» Да, если бы они даже и не были христианами, – мы уже говорили в предыдущих страницах, с каким вниманием Рим относился к мертвому телу и необходимости дать ему честное погребение. «Даже в эпохи гонения, – говорит Аллар, – христиане всегда его осуществляли, – полной свободы погребения. Они могли собирать останки своих мучеников и переносить их в могилы, приготовленные предусмотрительным благочестием. ’’Тела казненных, – говорит юрисконсульт Павел, – должны быть выдаваемы тому, кто их спросит для погребения" (Dig. XLVIII, 24, 3). Ульпиан говорит то же самое. «Не должно отказывать родственникам в выдаче тел обезглавленных преступников; дозволяется собирать на месте костра и погребать в землю пепел и кости приговоренных к сожжению» (там же, 1). Правда, Ульпиан прибавляет, что иногда и не позволяется, nonnunquam non permittitur, но это редкое исключение, применяемое, главным образом, к казням за оскорбление величества. Даже изгнание преступника не простиралось на прах его; можно было просить императора о разрешении привезти останки ссыльного на родину, и, по свидетельству Марциона (там же, 2), оно давалось легко и часто. Так, прах св. папы Понциана, скончавшегося в ссылке на о. Сардиния, был торжественно перенесен его преемником Фабианом (236) в Рим и положен в катакомбах св. Каллиста. При Диоклетиане таким же образом торжественно проследовали в Рим из Тарса останки мученика св. Бонифация. Вообще перевозка жертв гонений через провинции и даже города совершалась свободно, и, если встречала препятствия со стороны местного начальства, то это были злоупотребления. (См. прим, в конце книги.) В позднейшее время эдикт Септимия Севера и рескрипт Марка Аврелия подтверждают эти права, предписывая лишь, чтобы о каждом отдельном случае заявлялось властям. Римлянин мог быть беспощаден к живому преступнику, но труп обезоруживал его мщение. Он считал, что казнить человека за гробом слишком жестоко, а по верованиям античного мира, состояние непогребенного мертвеца ужасно. «Я не боюсь погибнуть, – восклицает Овидий, описывая бурю, грозившую ему кораблекрушением, – но ужасаюсь страшного жребия, который мне угрожает. Лишь бы мне избежать кораблекрушения, и я встречу смерть приветом, как благодеяние. По крайней мере, умирая найдешь утешение в мысли, что оставил тело свое земле, на попечение тех, кто тебя любит, есть надежда, что тебя честно похоронят, а не бросят в воду на съедение морским чудовищам». Этот языческий страх остаться без погребения, устоявший против всех увещаний философов– вольнодумцев (Сенека), в христианстве не только сохранился, но еще осложнился новой мотировкой. Первые христиане, не могли освободиться от языческого предрассудка, переработали его в том смысле, что – покойник, тело которого останется непогребенным или будет извлечено из могилы ранее Страшного суда, не получит части в воскресении мертвых (Le-Blant). «Тот, кто нарушит мой покой, да останется он непогребенным и да не будет ему воскресения» (Insepultus іасеаt non resurgat) – заклинает один из надгробных памятников в катакомбах. И очень долгое время напрасно проповедовали против этого суеверия отцы церкви (Татиан, Афинагор, I. Златоуст, Августин и др.). Лишь впоследствии, при полном торжестве церкви, после нескольких веков ее безусловного преобладания, когда все ужасы преследования давно ушли в легенду и сказку, в VI веке, потерялось уважение к телу (более не угрожаемому) и выродилось в противоположную крайность презрения к нему – настолько, что кающиеся молили, точно о милости, не погребать их, как прилично людям, а бросать, как скотскую падаль, на пустырях или в реку (Le Blant). Но в первом-третьем веке ничего подобного не могло быть. Напротив, самих язычников христиане удивляли необычным вниманием и благоговением к телам своих умерших братьев, что, в конце концов, и выработалось, в смеси с отголосками античного культа монахов, в догматическое почитание мощей. Первые христианские века волновались не только непременным погребением тела, но и заботой, чтобы оно было погребено в возможно целом виде. Потерю членов считали также препятствием к воскресению. Мысль эту еще Лактанций (начало IV века) нашел возможным распространить даже на вопрос о крестной смерти Спасителя: «Если Господь принял крестную казнь, – говорит он, – то это затем, чтобы плоть Его сохранилась в совершенной целости и смерть, получив его в таком образе, лишена была возможности препятствовать Его воскресению» (Instit. divinae IV.26). И лишь в этом позднейшем периоде, о котором только что шла речь выше, стало возможным и началось удивительное расчленение мощей, которым так характерно отмечена церковная история средневековья, когда черепа, руки и даже мелкие кости мучеников отделялись от их скелетов, чтобы разойтись по драгоценным ракам и ковчегам в церквях всего мира. (См. мою «Магию».)








