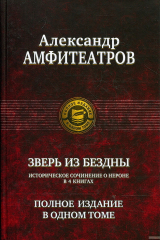
Текст книги "Зверь из бездны. Династия при смерти. Книги 1-4 (СИ)"
Автор книги: Александр Амфитеатров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 76 (всего у книги 91 страниц)
В 63 году не только в Риме, но и в священном городе Иерусалиме можно было считаться праведным иудеем, открыто христианствуя, и выражать сочувствие к христианству, не переставая через то быть строгим – даже – фирисеем, как то совершенно ясно явствует из процесса апостола Павла, который и сам себя открыто причислял к этому толку, и находил в нем сочувствие и защиту (Д. XXIII. 6—9). Из всех апостолов ап. Павел стяжал наибольшую вражду иудеев, как основатель христианства языков. Господствующие секты гнали его, били до полусмерти, подводили под суд, составляли заговоры на его жизнь, довели его до того, что римская тюрьма и римский полицейский надзор сделались единственно надежной охраной. Но все его ссоры с иудеями все-таки не разлучили его с ними. Он не оглашен по иудейскому миру, как вероотступник, – он только вольнодумец, который искусно спорит о законе в синагогах и, побивая оппонентов силой слова, часто бывает побит ими силой физической. Эти гонения, несмотря на всю их прискорбность, далеки от полного разрыва старой религии с новым сектантом. Религиозные диспуты евреев и сейчас ведутся с фанатической страстностью, весьма часто доводящей участников до самых грубых насилий. Однако из этих споров о вере еще не родится конечных отлучений, и никто из диспутантов – ни победитель, ни побежденный, – после спора о вере не перестанет ни быть, ни считаться, ни считать сам себя иудеем. Вспомните чудесные сцены в «Уриале Акосте». Точно то же было и с ап. Павлом: бурные сцены, которыми прекращались его проповеди, кажутся тесно связанными между собой, как будто непрерывными, только в быстром и лаконическом повествовании «Деяний» могущественный драматизм их развязки заставляет нас забывать об их медленном назревании. Павел и Варнавва живут в Антиохии целый год, создают здесь, «уча в церкви», группу последователей, которые «в первый раз стали называться христианами» (Д. XI. 25, 26); затем совершают путешествия в Иерусалим и на о. Кипр; возвратясь в Антиохию, они – уже хорошо известные здесь прежней деятельностью – идут в синагогу. Начальник синагоги, конечно, знает их, для него они – сектанты, раскольники; он понимает, что ждать от них речей, благоприятных закону, нельзя. Одного, при всем том, не только не противится их слову, но еще сам же и предложил им говорить:
«Мужи-братья! Если у вас есть слово наставления к народу, говорите» (Д. XIII. 14, 15).
В Антиохии разрыву с синагогой предшествует более чем годичная, в недрах ее, открытая проповедь к «мужам братьям». В Коринфе Павел общается с синагогой год и шесть месяцев до бунта против него, поднятого Сосфеном, и еще «довольно дней» после бунта (Д. XVIII. 1, 4, 8, 11, 17, 18); в Ефесе ссоре с синагогой предшествовало три месяца (Д. XIX. 8) и т.д. Притом все эти разрывы, – несмотря на остроту свою, – местные: они не получают широкой огласки. Прежде чем на Павла восстало правоверное азийское иудейство в совокупности всех своих синагог, он имел с каждой из них ссоры порознь: против него не издавалось окружных посланий, эмиссары синагог, посылаемые в противодействие ему, не уходили дальше соседних городов (Д. XIV. 19; XVII. 13). Даже после страшной иерусалимской бури против Павла, – во время которой он, однако, имел фарисеев на своей стороне, – даже после его двухлетнего процесса, он, казалось бы, должный стать уже еретической знаменитостью во всем еврействе, оказывается совершенным незнакомцем для иудейской общины Рима:
«Мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь: ибо известно нам, что об этом учении везде спорят» (Д. XXVIII. 21, 22).
И уже та готовность, с какой старейшины общины явились к ап. Павлу по первому его приглашению, ясно показывает, что они рассчитывали видеть в «христианине» не ренегата, но только диссидента, – иначе незачем бы им было и приходить, не о чем бы и спорить. Ренегат – уже не иудей, иудеям нет дела до него и до его мнений. Диссидент же, хотя и люта вражда правоверных против него, все-таки остается в лоне синагоги и свой для нее. Павел нашел в Риме христианскую группу, – вероятно, очень маленькую, потому что он не мог удовольствоваться ее содействием и искал поддержки в большой синагоге (Д. XXVII. 17– 20), фракцию которой эта группа, конечно, представляла, и которую синагога считала своей фракцией. Будь дело иначе, Павел, без поручительных писем и личной рекомендации, не мог бы привлечь к себе «в узы» еврейскую «старшину» слушать слово свое (XXVIII. 17); созвать сходку он мог только при посредстве христианских друзей, а они могли исполнить поручение, только будучи равноправными членами синагоги: приглашения к апостолу, да еще «в узы», от людей, рассматриваемых, как ренегаты или в качестве отвергнутых еретиков, правоверные иудеи не только не приняли бы, но и не захотели бы даже слушать.
Еще менее охоты к гласному отделению от синагоги проявляла тогда сторона христианская. Апостолы все – строгие обрядовики, свято хранящие связь с иерусалимским храмом... (См. прим, в конце книги.)
Широкое свободомыслие апостола Павла, направленное в охрану прозелитов из язычников от Моисеева закона, хотя и выделяло его из консервативной иудейской среды старших апостолов, однако, конечно, не настолько, чтобы ему отречься от родины и веры ее: сам иудаический прозелит христианства, бывший Савл – ревнитель, Павел проповедывал переход к закону Христову мимо закона Моисеева никак не для себя, которого призвание Христово застало в законе. «Призван ли кто обрезанным, не скрывайся: призван ли кто необрезанным, не обрезывайся», – прямое установление ап. Павла. «Каждый оставайся в том звании, в котором призван» (1 Кор. VII, 18, 20). Ни в посланиях апостола, ни в Деяниях нельзя найти ни одного намека, чтобы Савл, сделавшись Павлом, перестал считать себя иудеем, – наоборот, он постоянно подчеркивает свое иудейство:
«Я – иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в сем городе при ногах Гамалиила, фарисей, сын фарисея» (Д. XXIII. 6). «Я пришел в Иерусалим для поклонения... Служу Богу отцов моих, веруя всему, написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресенье мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают... Я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношения... Нашли меня, очистившегося в храме...» (XXIV. 11, 14, 15, 17, 18). «Я не сделал никакого преступления ни против храма» (XXV, 8). «Я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению» (XXVI. 5).
Лишь в минуту крайней, смертельной опасности, открывает Павел свои права римского гражданина, а привезенный под арестом в Рим, он, при первом же свидании с иудейскими старейшинами, спешил успокоить их, что, какими бы ни нашли они его религиозные убеждения, – «я не сделал ничего против народа или отеческих обычаев... я принужден был потребовать суда у кесаря не с тем, чтобы обвинять в чем-либо мой народ» (Д. XXVIII. 17, 19).
То же самое в посланиях.
«Я – израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова» (Рим. XL 1). «Они евреи? И я. Израильтяне? И я. Семя Авраамово? И я.» (2 Кор. XI. 22). Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в восьмой день, из рода Изралиева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей" (Фил. III. 4, 5).
Ни в проповеди, ни в узах, гонимый саддукеями, «апостол языков» не отвергался от своего народа. А народ иудейский и религиозный союз иудейский – синонимы. Кто порвал связь с синагогой, тот уже не иудей. Равно как тот, кто вступает в связь с синагогой, тот – какой бы нации он ни был – становится иудеем. Гонимый иудейством, как сектант, ап. Павел оставался иудеем перед самим собой. Создатель свободного космополитического христианства, он вел языческий мир, в обход трудной и неприятной для «эллинов» промежуточной ступени иудейской, прямо к Христу. Но сам-то он был и повинен этой промежуточной ступени, и привычен к ней, как иудей по рождению, образованию, школе. Разрушая синагогу в будущем, он оставался ее членом в настоящем. В 61 году он в иудействе еще свой человек, и римская синагога встречает его без предубеждения.
Между тем, Павел и его паства – это крайне освободительное начало в христианстве первого века, самый опасный и подозрительный для иудейства элемент секты, при том наиболее громко оглашенный. Если римская синагога еще не порвала связи с Павлом, – тем менее было ей причин к разрыву с иудео-христианами, которые, признав Христа, не переставали признавать обязательность Моисеева закона: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином», – сказал иудейский царек, очень образованный законник-фарисей, Агриппа, – ап. Павлу, на допросе последнего перед Фестом. Слова эти обычно толкуются, как насмешка. Они звучали бы так, если бы вслед затем Агриппа высказался против ап. Павла. Но он подал мнение за освобождение апостола. А впоследствии он редактировал книгу Иосифа Флавия, столь благоговейно отзывающуюся об Иоанне Крестителе, об Иисусе Христе, сожалеющую о казни Иакова, брата Господня. При этих условиях мнимо– насмешливые слова, в устах ученого царя, принимают смысл гораздо более благосклонный:
– Ты почти убедил меня, что христианское новшество может уживаться с Моисеевым законом, не нарушая его святыни.
Так думал царь Агриппа, так думал Иосиф Флавий, так думали фарисеи, жалевшие Иакова и защищавшие Павла от саддукеев, так думал сам «облиам» Иаков и все апостолы обрезания, так думали и фарисейская синагога в Риме, и тамошняя иудео– христианская община. Последнюю иудеи отмечали, как особый «толк» своего вероисповедания, но не отличали ее ни в особую веру, ни в особую народность. А коль скоро не отличали сами иудеи, тем менее могли отличить христиан от иудеев римские власти. А коль скоро в глазах римских властей христиане были иудеями, то на них распространялись все иудейские права и привилегии...
Из этих же прав и привилегий первая и самая существенная – признание римской республикой иудейской религии неотъемлемой принадлежностью народа, ее исповедующего, и исключительное, из всех народов римской империи, освобождение иудеев от обязанностей общегосударственного культа. Это право, эта привилегия не только никогда не нарушались Римом, но мы знаем примеры, что римляне иногда подчинялись им даже в ущерб своему престижу и убежденно отстаивали их против самодурства своих владык. (См. «Арку Тита».) Вот почему розыск христиан, не отделившихся от иудейской общины, через искус, идольским служением или жертвами гению императора, был совершенно невозможен, а легенды о нем должны быть отнесены к разряду мифов.
КАТАКОМБЫ
I
До нас не дошли имена мучеников, погибших от Неронова гонения, и это одна из самых щекотливых сторон в его истории. Огромные толпы (multitudo ingens) первых христиан, о которых упоминает Тацит, исчезли бесследно, точно канули в воду. Маленькое иудейское волнение в Риме, при Клавдии, в 42 году, сохранило имя своего руководителя (Хрест, Chrestus, – очень может быть, что речь идет о первом проникновении христианского учения в иудейскую общину Рима), – а чудовищная Неронова катастрофа хоть бы одну память уберегла от забвения. И чем ближе следующие поколения верующих к эпохе Нерона, тем меньше они знают о гонении и, в особенности, о том, кто именно в нем пострадал. Зато гораздо лучше «помнили», как и где совершалось мучительство. Сохранились легенды о кровожадных и развратных издевательствах над христианами в театральных играх и общие указания на урочища, где лилась праведная кровъ. То-есть сочинялся легендарный роман и оправдывающая его топография. Имена же угасли. Историки, признающие факт гонения, ищут причин тому прежде всего в низком общественном положении погибших и в малограмотности собратьев их, счастливо уцелевших от погрома, а также и в сравнительной новизне римской церкви, в связи с невероятно быстрым распространением веры Христовой проповедью ап. Павла в рабском, отпущеническом и солдатском классах. Христиане погибли под Нероновой грозой раньше, чем успели хорошо ознакомиться между собой (Aube). Но, в таком случае, если они еще не были ярко выраженным сообществом, как же могли они, в виде сообщества, стать известными римской полиции и – сообществом и за сообщество – от нее пострадать? Впрочем, существует легенда о знатной римской матроне Люцине, – будто бы она озаботилась погребением жертв гонения. О предполагаемом торжестве этой Люцины с Помпонией Грециной, которую Тацит упоминает в 32 главе XIII книги Летописи, в качестве женщины, обвиненной в «чужеземном суеверии» (superstitionis estenae rea), было уже говорено в томе II этого сочинения. Легенда о Люцине поздняя и основана, через обобщение имени, на произвольной хронологической дате. Мнимая Люцина является траурной спутницей многих гонений, до Диоклитианова включительно. Так, она играет важную роль в легенде св. Себастиана. По мученической кончине своей от побоев дубинами, полученных им в цирке Палациума, по приказанию императора Гелиогабала (!) Себастиан является в сонном видении благочестивой матроне Люцине, чтобы указать ей место, где находится его тело, брошенное в Главную Клоаку (Cloaca Maxima), и просит ее – похоронить его в катакомбах св. Каллиста, часть которых, поэтому, как бы отпала под его имя (Грегоровиус). Люцине же приписывалось основание одной из древнейших римских церквей – св. Лаврентия in Lucina (начало V века). В действительности, название это происходит от разрушенного храма Юноны Люцины (Родовспомогательницы), да и вся то легендарная Люцина вряд ли не эта Юнона, переодевшаяся из языческой богини в христианскую святую. Liber Pontificalis считает ее современницей св. Корнелия, папы римского в 251—253 годах, и участницей перенесения им мощей ап. Петра и Павла в современные им их местонахождения. Ранее они почивали будто бы в катакомбах св. Себастиана, которые, по преимуществу, и назывались катакомбами (Ad catacumbas), распространив затем это имя от себя и на весь остальной подземный Рим.
Теперь – маленькое, но необходимое предупреждение, к которому, на протяжении этого труда моего, я прибегал уже не однажды, но здесь оно в особенности уместно.
Изучая историю первого христианского века, с целями ли научными, с целями ли художественными, необходимо, прежде всего, отказаться от сильно увеличенного стекла, сквозь которое долгое время было сперва обязательно, потом принято, а наконец и понравилось смотреть на первые римские шаги христианской реформы. Трудно забыть Бульвера, Сенкевича, «Два мира», « Светочи» Семирадского, оперы Бойто и Рубинштейна, и даже – осмеливаюсь включить в эту поэтическую компанию – многие картинные страницы вдохновенного, но уж слишком произвольного Ренанова «Антихриста». Все это великолепно, как символ и позы, слагающие мифологию мощного исторического движения. Но кто, изучая эволюцию какой-либо идеи, хочет знать ее действительное или, по крайней мере, житейски возможное и вероятное прошлое, тому надо, прежде всего, разоблачить его от поэтических наслоений – до тех пор, пока оперные арии, риторическая и сценическая декламация не перейдут в обыденную живую речь, а мраморные статуи и фигуры не станут ходить, сидеть, стоять перед вами, как живая плоть с кровью, не начнут пить, есть, танцевать, сморкаться, фехтовать, вести процессы, болеть подагрой, интриговать в политике дня, толковать о бирже, о городских новостях, как делают это ваши современные друзья и знакомые, как делал мир с тех пор, как завелись городская и государственная жизнь, как будет делать он, пока она не кончится. Это довольно трудно и для более близких эпох, а в момент, о котором мы говорим, в особенности. Колоссальные результаты, к которым привело распространение веры Христовой в последующих веках, создают нам соблазнительную иллюзию грандиозности и для его начала. Мы забываем притчу об огромном горчичном дереве, вырастающем из крохотного зерна. Исторические романисты; писатели для театра, исследователи-романтики, охочие видеть главнейший двигатель исторических событий в энергии исключительных талантов, полубогов и героев человечества, любят создавать для последних красивые и многозначительные обстановки, потому что им, для их художественных и полухудожественных целей, нужны великолепные и грандиозные декорации, людный и эффектный mise en scene. И нельзя не признаться: когда блистательный мираж, окружавший событие, бывает рассеян, всегда немножко жаль его прекрасных очертаний и пестрых красок. Я понимаю Лескова, у которого навернулись слезы на глазах, когда он, юношей, узнал, что Державин создал оду «Бог», не бряцая на лире с величественной скалы какой-нибудь, но сидя в мизерном номере выборгской гостиницы. Жаль расстаться с картинным вымыслом для простенькой действительности, жаль, говоря словами Пушкина, что историк строгий гонит мечты поэта. Взять хоть бы «Два мира». Так соблазнительно верить, что была эпоха, когда мир зримо раскололся на «два мира» двух правд, которые, утратив между собой всякую нравственную и общественную связь, продолжали, однако, жить параллельно в одном и том же государстве и даже в одном городе, и один мир свирепствовал, разыскивал, казнил, а другой молился, прятался и претерпевал. Чьей фантазии не увлекали, чьего сердца не трогали, чьей мысли не волновали трагические «массовые» сцены в катакомбах, воображаемые именно по тому шаблону и масштабу, как задумал их Майков: Для него христиан в Риме – «тысяч сто», чего не было даже в эпоху Северов, а не то что при Нероне. Чтобы поместить не только тысяч сто, но даже хотя бы депутатов от тысяч ста по одному на тысячу, нужна действительно, очень «большая зала в катакомбах»! Но как эта выдумка эффектна и победно внушительна! Сотни, если не тысячи, смиренно фантастических, не противящихся правительственному злу, людей под черными сводами подземелья, в мерцании свечей, на коленях перед вещими учителями, готовятся
На казнь идти и гимны петь,
И в пасть некормленному зверю
Без содрогания глядеть...
А наверху, тем часом, рыщут язычники, все пьяные-распьяные, развратные-преразвратные, и у всех у них только и заботы в жизни, что поймать христианина и заставить его кланяться идолам, под страхом иначе распять его на кресте, как Петра, отрубить ему голову, как Павлу, затравить его в цирке львами, как Игнатия Богоносца.
Что государственное существование общества, с подобной резкостью разделенного уже в стотысячных массах, возможно только в поэтическом вымысле, и охотно воображается и выдается за действительность только романтическими поэтами и любителями их творчества, – это обстоятельство выясняется очень легко, скоро и просто, можно даже сказать, само собой. Стотысячголовых тайн не бывает. Стотысячеголовая революция, сколько бы ни была смирна ее программа, не может усидеть дома, в пассивном квиэтизме, – непомерное накопление собственной силы выбросит ее в активные выступления, «на улицу». Спрятать сто тысяч нельзя, могут укрываться только первоначальные «пятерки». Редкий посетитель римских катакомб уходит из них без разочарования и недоумения, так как не надо большой сообразительности, чтобы – даже по первому, самому поверхностному обзору их – догадаться, что подземные ходы, самое большее, в метр ширины и каморки три-четыре и до десяти квадратных метров площадью, не могли служить местом каких-либо величавых многолюдных сборищ и отнюдь не предназначались для таковых своими устроителями. Капеллы (cubicula) катакомб свв. Себастиана, Домитиллы, Агнесы и т.д. – не более, как маленькие приделы подземного кладбища, сооруженные для удобства верующих, охочих – в очередь и кратко – помолиться у места вечного успокоения святых предков. Это – «панихидники», не более. Немыслимо, чтобы они могли, как то думали Арринги (XVII в.) и Марки ("Architectura della Roma sotterrànea cristiana". Roma 1844), иметь значение церквей для общественного богослужения, людного и продолжительного. Они рассчитаны не на часы, а на минуты пребывания в них, и не масс, а десяти-пятнадцати человек (Росси). В самых обширных из них могут поместиться лишь до ста человек. Немного, но и из того надо убавить, так как в расчет принималась во внимание только вместимость капелл, а впихнуть в подземную каморку сто человек плечо к плечу не значит поместить их. 2 декабря 1848 года капитан парохода «Лондондерри», во время бури, распорядился запереть 200 пассажиров в каюту вместимостью в 48 кубических метров; 72 из этих злополучных узников умерли. Еще более знаменито трагическое происшествие в калькутской «Черной яме» (1756), имеющей размеры как раз подземных капелл. Из 146 англичан, запертых в эту тюрьму при одном окне, спустя одиннадцать часов осталось в живых 23 (Льюис).
А в катакомбах воздух был еще отравлен миазмами близко гниющих трупов. Чтобы избавиться от этого зла, могилы плотно заделывались кирпичом и бетоном или мраморными досками. Богатые люди не жалели лить на мертвецов свои ароматы и масла, которые почитались противодействующими разложению. Наконец, в виде решительного средства, хоронили покойников в двух саванах, заполняя пространство между ними известью, слоем в палец толщины (Martigny). Ничего не помогало. Зловоние иногда усиливалось до того, что фоссоры (могильщики) принуждены были засыпать землей целые галереи, чересчур полные гробами. А Майков хотел, чтобы в этой ужасной атмосфере христианская толпа слушала заутреню с возженными свечами, и больше того: чтобы в катакомбах устроены были христианские госпитали!... Гипотеза Росси о, так сказать, цепной системе катакомбных церквей, при которой служба производилась в большой центральной крипте, а молящиеся, которым не находилось в ней места, располагались в окружающих ее коридорах и криптах малого размера, вдохновлена, так сказать топографическим обманом. В действительности, те общие отдушины, вокруг которых централизуются такие гнезда крипт, едва достаточны для питания их воздухом даже и в пустом то виде. Не говорю уже о том, что необходимое, по условию тесноты, распределение молящихся по приделам, – кого поближе к благодати, кого подальше, – явилось бы верным средством отравить христианскую общину местничеством прихожан, совершенно противным демократическому духу первобытной церкви.
Значение тайного убежища гонимой веры катакомбы если и принимали иногда, то разве лишь в позднем последствии, при гонениях третьего века и ортодоксально христианских распрях с сектами четвертого и пятого, притом никак не надолго и не для масс, а разве для десятков укрывающихся. Сейчас в катакомбах св. Каллиста, наиболее посещаемых туристами, достаточно трех-четырех партий посетителей, чтобы в какой-нибудь галерее уже трудно было разойтись. Папа Сикст был выслежен и схвачен в катакомбах, имея при себе спутниками всего четырех дьяконов. Да и вообще, одна уже подробность и точность, с какой в истории позднейшей церкви отмечаются подобные укрывательства (св. Александра, Либерия и др.), свидетельствуют об их исключительности. В первом же христианском веке катакомбы были только кладбищем, притом очень маленьким. Собственно говоря, родового понятия «катакомбы», столь многозначительного впоследствии, не существовало вовсе. Катакомбами, т.е. местностью Ad Catacumbas, «у грота», называлось в Риме только одно кладбищенское урочище, у дороги Аппиевой, ныне известное под именем катакомб св. Себастиана. От этого урочища, очень священного для первых христиан (еще в третьем веке оно слывет как «кладбище», cimiterium, по преимуществу), его частное название разошлось и на другие однородные гипогеи, – имя собственное превратилось в нарицательное, и не только для Рима, но для всего мира. Есть катакомбы неаполитанские, карфагенские, миланские и т.д.
Этимология сложного слова «катакомбы» (catacumbae) не выяснена и вряд ли она – чистая, т.е. принадлежит корням одного языка. Попытки его греческих объяснений неудачны, латинских также. По всей вероятности, это слово, в котором ясно слышен греческий предлог «?» и латинский «cumbo», лежу, принадлежит греко-латинскому уличному жаргону I века, из которого проникло в речь образованного класса и утвердилось в литературе.
Сеть римских катакомб, далеко еще не вся исследованная, грандиозна протяжением. Если бы ходы ее вытянуть в прямую линию, она оказалась бы длиннее Италии, равняясь 587 милям = 876 километрам (Мартиньи). Отец Марки считал протяжение всех подземных галерей на предполагаемых 72 кладбищах в 1,200 километров. Между тем, вся эта подземная сеть, по вычислению де-Росси, соответствует на земной поверхности общей площади всего лишь около квадратной мили (2.476,778 кв. метров). Старинное предположение, будто катакомбы вырублены в почве не христианскими руками, и последние только приспособили к нуждам своей общины старые ломки пуццолано и песочные выемки, разрушено критикой братьев де-Росси («Roma Sotteranea»). Так называемые «песочницы» (arenariae) и покинутые каменоломни (latomiae) позволили христианам несколько облегчить свои саперные предприятия не более, как в пяти кладбищах из тридцати, де-Росси исследованных. Катакомбы – труд, в огромном большинстве своем, христианской эпохи или, в некоторых частях, близко предхристианской, так как раскопки отрыли, в сети их, изолированные кладбища иудаитов, мифраитов, поклонников Сабация – культов, хронологически параллельных христианству. Восточный способ погребения, через заделывание трупа в стену, столь характерный для катакомб и принятый в настоящее время огромным большинством благоустроенных южных кладбищ, широко применялся в Риме спиритуалистическими религиями и сектами, избегавшими кремации трупов. А их, в последние два века республики и в первые годы империи, много наплыло в столицу мира из Азии и Африки, когда, по выражению поэта, «сирийский Оронт стал изливаться в Тибр». Этими соображениями совершенно разрушается старый предрассудок, будто катакомбы для Италии и Рима являют собой христианскую новинку. Предрассудок этот строился на том основании, что мы дескать, не знаем христианских могил, древнейших того типа, который видим в катакомбах. Да, не видим потому, что христианства еще не было, как отдельной религии, и оно сектантски жило в лоне других восточных культов, пре– имущественно иудейского, катакомбы знавших и ими пользовавшихся. Еврейские подземные кладбища были открыты Ант. Бозио в 1602 году, двадцать четыре года спустя после христианских. До разделения религии-матери, иудейства, с религией– дочерью, христианством, покойники их не нуждались в перегородках между своим могилами: труп христианина не сквернил кладбища иудеев, труп иудея не сквернил кладбища христианского. Отдельные христианские кладбища понадобились только тогда, когда иудеи перестали считать христиан иудеями, и христиане решительно порвали свои связи с синагогой, – значит, не ранее конца первого века. Впрочем, и в государственной религии самого Рима кремация трупов была лишь господствующим обычаем, но вовсе не догматом. Еще законами двенадцати таблиц римлянину представлено право выбора, как хоронить своих мертвецов, – через сожжение или зарытие в землю. Не принято было сожигать грудных детей, если они умирали до прорезания зубов. Не расходовались на погребальный костер для своих покойников бедняки. В самом обряде кремационных похорон остались следы всеобщего погребения в землю. Труп на костре посыпался землей (glebam in osniicere), существовал обычай отрезать частицу сожигаемого тела и хоронить ее отдельно в землю, либо в том же порядке погребать неуничтоженные огнем кости; искупительный обряд для убийц требовал, чтобы кающийся бросил на труп жертвы горсть земли – в символ земного погребения (Marquardt). При республике сожжения трупов чуждались многие аристократические фамилии; в роде Корнелиев первым покойником, вознесенным на костер, был диктатор Сулла. Кремационный способ погребения – по преимуществу императорского времени, первых четырех веков нашей эры; но и в течение их закон (Lex Tudertina) оказывал равное покровительство погребению в землю, объявляя священными (punis et religione solutus) как место сожжения трупа, так и могилу. Кремационный обряд, как особенно удобный и эффективный для церемоний апофеоза, строго соблюдался для мертвецов императорского дома, однако бывали исключения и из этого правила. Похороны Поппеи Сабины, вдавшейся в иудаизм, обошлись без сожжения тела; покойницу бальзамировали и отнесли в мавзолей Августа на Марсовом поле, в фамильный склеп цезарей. Для христиан, принявших иудейский способ погребения, он освящался благочестивым подражанием Гробу Господню, который Иосиф Аримафейский «высек в скале». И подобно тому, как гроб Иисуса был «новый», так и первобытные христиане заботились, чтобы каждый верный получил особое место вечного успокоения, не хранившее ранее другого мертвеца (Boissier, «Promenades archéologiques». – Pressense). Это верование пережило те времена, когда христианских мертвецов надо было прятать от преследования врагов в стенки подземных коридоров, если только было когда-нибудь такое время. Двенадцать лет спустя после миланского эдикта, папа Юлий (336—347) основал три новых подземных кладбища у Фламиниевой дороги, у Аврелиевой дороги (второе; одно там уже было, и на нем, по преданию, первоначально погребен был ап. Петр: «Qui sepultus est in via Aurelia in templo Apollinis, juxta locum ubi crucifixus est, juxta palatium Neronianum in Vaticano) ,-иу дороги к Порту. Папа Дамазий (366-384), которому катакомбы обязаны приведением их в тот тип, как мы их видим, еще мечтал быть погребенным в катакомбах св. Каллиста «если бы не боялся тем оскорбить святых, здесь лежащих». К концу IV века относится могила неизвестной девушки, которую в 1906 году римская курия канонизовала, после столетия чудес, под именем святой Филомены. Несколько ниже я вернусь к курьезной истории этого религиозно-археологического недоразумения, разоблаченного известным Орацио Марукки. Если росли даже новые катакомбы, то понятно, что и старые кладбища постепенно расширялись и округлялись. Обычай хорониться не только в землю, но и под землю стал теряться лишь в половине V века.
Итак, мертвое население подземного Рима довольно пестро по вероисповедному составу, и христиане в нем – наслоение, хотя господствующее численно, но верхнее, последнее. Правда, следует отметить, что в подземных кладбищах галереи христианских могил никогда не проникают в площади усыпальниц иноверных. Приближаясь к районам последних, христианские гробокопатели часто делали очень крутые и неудобные повороты, с единственной целью избежать неприятного близкого соседства. Единственное резкое отступление от этого правила, поместившее под знаменитой церковью Domine, que vadis, среди Христовых мучеников и первообращенных, склеп жреца Сабация, объясняется ошибкой фоссора, неумело открывшего галерею в чужой языческий могильник. Это не помешало, однако, фрескам в этой катакомбе слыть долгое время за христианский пир праведных, и – уж не знаю, какому чуду приписать, что Винцентий, жрец Сабация, и небесная дева Вибия не успели самозванцами пробраться в список святых прежде, чем наука оказала церкви услугу – разоблачить их (P. Saintyves). Еще резче повороты коридоров в тех случаях, когда ошибка фоссоров вдруг выводила какую-нибудь верхнюю галерею в склеп обыкновенного языческого колумбария. Энергия, с какой спешили исправить ошибку и заделать пробитое отверстие до лико возможной непроницаемости, свидетельствует, что случайность эта была серьезно неприятной. Быть может, не потому только, что она нарушала, так сказать, духовный комфорт христианских мертвецов и их верующих родственников, и не потому даже, что обнаруживала наличность тайного кладбища (мы увидим, что они не были тайными), а потому, что ошибка нарушала чужую собственность, вторгалась на чужую территорию, да еще заповедную (locus religiosus). Это должно было вести к неприятнейшим столкновениям и последствиям – тем более, для людей «нелегального вероисповедания», religionis illicitae. Любопытно, что до сих пор не найдено в катакомбах следов кладбищ еретических, хотя церковные писатели упоминают об их отдельном существовании, упрекая сектантов, что они воровали для себя с кладбищ апостольской церкви тела знаменитых мучеников.








