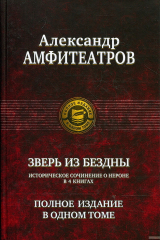
Текст книги "Зверь из бездны. Династия при смерти. Книги 1-4 (СИ)"
Автор книги: Александр Амфитеатров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 91 страниц)
На пути к месту Лоллию нагнал военный трибун – с приказом государя наложить на себя руки. Голова Лоллии, говорят, была доставлена Агриппине, а та не только злорадно рассматривала безобразный обрубок трупа, но, запустив палец в рот мертвой красавицы, пересчитала ее зубы, сопровождая надругательство скверными остротами. Агриппина не подозревала, что за издевательство над прахом Лоллии, ей самой отплатит со временем той же монетой цинического осмотра и грязных шуток ее собственный сын. Останки Лоллии десять лет лежали на чужбине. Нерон не только разрешил перевезти прах несчастной красавицы в Рим, но и воздвигнуть над ее могилой монумент.
Несмотря на подкупы знати льготами и милостями, несмотря на благоприятные донесения о настроении сената, Нерон опасался ехать в Рим. Но четырехмесячное скитание по Кампании надоело его свите, и эти, по крепкому выражению Тацита, «сквернейшие люди, которых никакой двор не распложал более», убедили его, наконец, возвратиться в столицу. Как ни бранит их Тацит, а «сквернейшие люди» оказались правы: бояться Нерону было решительно нечего и некого. Церемония цезарева въезда в Рим обратилась в настоящий триумф. Сенат в парадных тогах, представители городских триб и громадные массы черни вышли навстречу императору далеко за город. Вдоль пути цезаря выстроили шпалерами женщин и детей – настоящий живой цветник, подобранный по возрасту и росту. Нарочно выстроенные огромные платные трибуны ломились от публики. Толпа ревела, рукоплескала, сыпала цветы. Нерон, торжественный и великолепный, подобно полубогу, по розам проехал в Капитолий и совершил благодарственное молебствие.
Кажется, он сам был поражен размерами своей неожиданной популярности. Правда, из толпы, вместе с воплями восторга, летели по адресу цезаря и колкие шуточки, но их добродушная злость только увеличивала сходство между торжеством Нерона и настоящим триумфом. Правда, на форуме нашли подкидыша, с запиской на шее, лаконически гласившей: «выброшен, чтобы не убил своей матери», а на нескольких статуях Нерона оказались надетыми мешки – намек на старинное наказание, когда отцеубийц зашивали в один мешок со змеей, кошкой и обезьяной и бросали в воду. Но, во-первых, это были, конечно, шутки немногочисленных агриппианцев и старой республиканской оппозиции. А во– вторых, цезари, вообще, не принимали слишком близко к сердцу обид народного остроумия. Если народ смеется и острит, значит, он спокоен, – такова обычная логика цезаризма. В погоне за этим симптомом народного довольства, цезари часто сносили от черни оскорбления в упор, за одну мысль о которых слетела бы с плеч голова сенатора или всадника. Калигулу, выряженного Юпитером, один галл-сапожник обозвал в глаза, без обиняков, «ходячей ерундой». И державный самодур, – тот самый, который мечтал: как бы хорошо, если бы у всего римского народа да была одна шея, да по той бы шее топором! – проглотил дерзость, не поморщившись. Если на такую снисходительность достало даже полоумного Калигулы, тем понятнее она в далеко неглупом Нероне. Светоний изображает Нерона образцом терпимости к демократическим шуткам, эпиграммам, карикатурам на его счет. Он никогда не преследовал и не заботился разыскивать их авторов. Обидчивее был он в своем дружеском кругу, но Ренан небезосновательно замечает, что обижала его и в этих случаях не столько открытая приятельская насмешка, сколько измена дружеству, издевательство из-за угла, предательство интимно принятого в цезарево доверие человека. Оставаясь верен себе и теперь, Нерон притворился, что не замечает дерзких настенных эпиграмм, в которых его сравнивали с мифологическими матереубийцами, Орестом и Алкмеоном, намекали на кровосмешение, предшествовавшее гибели Агриппины, и т.д. Водевильный актер Дат позволил себе намеки на отравление Клавдия и попытку утопить Агриппину, в присутствии самого императора. Нерон ограничился тем, что выслал дерзкого комедианта из Рима.
Торжество, пережитое цезарем при въезде в Рим, оставило в нем глубокое впечатление. Во-первых, он убедился наглядным опытом, что ему, действительно, некого бояться или стыдиться: что бы он ни предпринял позорного и жестокого, все будет извинено Римом; он – полубог, сверхчеловек, которому все позволено. во-вторых, глядя на страшные толпы, вопившие ему восторженные приветствия, он сообразил, где его любят и кто его настоящая опора, понял, кому он должен угождать, чтобы чувствовать себя государем, твердым у власти. С этих пор правление Нерона начинает, понемногу, выливаться в две, почти исключительные функции. Сперва оно превращается в неутомимо деятельную дирекцию общественных увеселений, а затем от дирекции этой отделяется, как бы зависимой от нее мрачной ветвью, тайная канцелярия для преследования богатой знати, систематически плодящая конфискации и смертные приговоры.
ИСТОРИЯ ИЛИ РОМАН?
Еще Вольтер выставил целый ряд соображений по здравому смыслу, которые подрывали доверие к рассказу Тацита о смерти Агриппины, Если легенда безвредно выдержала удары столь искусной и меткой руки, виною тому отнюдь не слабость обвинительной логики в доказательствах Вольтера, но могущество таланта в рассказе Тацита, Он, в трагических страницах летописи своей, по обыкновению, зачаровывает читателя настолько, что тому становится почти безразлично, как было дело на самом деле, и хочется, чтобы было так, как велит ему верить Тацит. Он давит впечатлением, как Шекспир, как Лев Толстой, как Бальзак, и нужно найти в себе не только большое мужество «своего мнения», но и значительную долю здравомысленной сухости, чтобы пройти очарованный лес его обаяний, не поддавшись его красотам, во всеоружии сомнения и анализа.
В наши дни, ободренный Вольтером, взял на себя такую задачу П. Гошар (Р. Hochart), скептик, прославленный своим отрицательным отношением к Тациту. Этот ученый, лет двадцать тому назад, выпустил книжку «Сенека и смерть Агриппины» – настолько резко расходившуюся с обычными мнениями по предмету вопроса, что автор, в ожидании взрыва ученых негодований, не решился даже печатать свой труд во Франции и под своим именем. Брошюра появилась в Голландии, под псевдонимом Н. Dacbert. Большой успех работы Гошара подвинул его к новым трудам в том же направлении. В следующей главе мы рассмотрим его много нашумевшую гипотезу о подложности всех исторических сочинений Тацита, которые он относит... к XV веку по Р.Х. и приписывает перу гениального флорентийского ученого– гуманиста, знаменитого Поджио Браччиолини. Здесь, покуда, мы займемся лишь его внимательною поверкою Тацитова рассказа о кораблекрушении Агриппины. Она даст нам понятие о манере Гошара испытывать факты и послужит, таким образом, подготовкою и освещением к его исследованию сочинений Тацита.
Странным представляется Гошару уже самое предложение матери со стороны Нерона воспользоваться триремою для переезда из Байи в Баулы. Это всего лишь два километра пути. Женщине, только что выдержавшей трудный и длинный морской переход, легкое ли дело было – снова спускаться из горного замка на берег, садиться в ладью (scapha) и плыть в ней к трирем, которая, по мелководью бухты, могла стоять на якоре не ближе трех, четырех десятков саженей от берега? Вся эта сложная переправа взяла бы времени гораздо больше, чем надо, чтобы дойти пешком до Баул. Трирема – военный корабль, с 170 гребцами. Это – фрегат античного флота. Гошар справедливо замечает, что он нисколько не удивился бы, если бы Нерон предложил матери государственную трирему для только что совершенного ей перехода в Байский залив из Анциума или Остии, но фрегатов не шевелят для плавания на два километра. Сойти с горы – сесть в лодку – взобраться на трирему – плыть, самое большее, двадцать минут – сойти с триремы в лодку – выйти из лодки – подняться на горы: все это так длинно, сложно и мешкотно, что решительно непостижимо, зачем бы Агриппине понадобилось поздней ночью, после трудного путешествия и полного волнений, утомительного дня, проделывать гимнастику, совсем несообразную с ее возрастом и не необходимую по обстоятельствам. Ведь при ней была ее свита и носилки, в которых она прибыла к обеду. Да – надо полагать – не так же была бедна императорская вилла экипажами, чтобы, в случае, если бы Агриппина отпустила свои носилки (чего не могло быть по светскому этикету – отношения между матерью и сыном только что были слишком натянуты, чтобы подозрительная Агриппина сейчас же согласилась при дворе Нерона «быть как дома») не нашлось для высокой гостьи удобного и приличного порт-шэза?
Боги, – говорит Тацит, – послали ночь ясную, небо звездное, море тихое, как будто для того, чтобы лишить преступление всех средств к укрытию. Несколько странно по времени года: в марте Неаполитанский залив почти постоянно в волнении. Несомненно он был в волнении и в предшествовавшие дни и, по местным морским приметам, должен был остаться в волнении еще некоторое время. На бурное море, по Тациту, и рассчитывал Аникет: «Если она погибнет в кораблекрушении, то кто возьмет на себя пристрастную решимость приписать злодеянию действие волн и ветра». Итак, план был намечен на ночь бурную, ожидать которой позволял вообще бурный период года. Marzo pazzo (март сумасшедший) – говорит неаполитанская пословица. По наведенным мною справкам в Неаполитанском порту, 18—23 числа марта – из всей весны – самые бурные и опасные на заливе. Если сопоставить с этим известие Светония о повреждении собственной яхты Агриппины, искусно брошенной капитаном, тоже заговорщиком (сколько заговорщиков!) на береговые скалы, вследствие чего и очутилась, дескать, императрица на Нероновом корабле– ловушке, то получаем верное подтверждение: море было в волнении, mare agitato. Нельзя же подобные трагикомедии грубо подтасовывать на зеркальной глади своего, так сказать, домашнего залива! Весь мир изумлен был уже и тому, когда русская императорская яхта наскочила на подводный камень в финляндских шхерах, но налететь на подводный камень в Байской бухте для римской императорской яхты было бы равносильно тому, как если бы «Штандарт» потерпел аварию между Петергофом и Кронштадтом.
Несмотря на то, приходится, скрепя сердца, поверить Тациту, что выпала такая зловеще-счастливая спокойная ночь: при других условиях, морская поездка Агриппины стала бы совершенно невероятной. Никто без насильственной побуждающей причины не выберет для пути расстоянием в два километра плавания по бурному морю, когда есть прекрасная береговая дорога, которую можно покойно сделать в носилках в какие-нибудь двадцать минут. Для предпочтения бурного моря спокойной суше Агриппина должна была бы обладать какой-то нарочною любовью к морской болезни. Итак, море было спокойно, ночь ясна, звезды ярки. Но как же на спокойном море, в ясную ночь, под путеводною яркостью звезд, могло быть разыграно кораблекрушение императорской яхты в заливе, который каждый неаполитанский рыбак знает, как свою собственную ладонь? И – когда же? Мало, что в праздник Квинкватрий, когда все береговое население свободно веселится до поздней ночи, но еще и после только что состоявшейся примирительной торжественной встречи императрицы-матери с сыном цезарем? Берег должен был залит быть народом. Даже предположив, что отплытием Агриппины на триреме празднество кончилось, двадцать минут, нужные ей для плавания до Баула, слишком короткий срок, чтобы толпы успели схлынуть и берег совершенно обезлюдел. В ясную ночь из Байской бухты даже близорукому видно движение каждой лодчонки до Поццуоли. Первый крик утопающих, даже только затемнение ночных огней на гибнущей императорской яхте, и она была бы немедленно окружена лодками рыбаков. Да так и было: легенда наивно не пропустила этой подробности, – спасаясь вплавь, Агриппина на полпути к берегу подобрана была спешившими на выручку рыбаками.
Живя над заливом Специи, я ежедневно наблюдаю, с какой удивительной быстротой окружаются гребными и парусными лодками входящие в порт броненосцы, даже самый умеренный ход которых, конечно, гораздо быстрее самого спешного хода римских трирем, двигавшихся человеческими руками. Полтораста лет тому назад в Ливорно, когда Орлов обманом захватил на фрегате своем княжну Тараканову, весть об этом наглом насилии пролетела по заливу с молниеносной быстротой, и море сразу закипело сотнями угрожающих лодок: де Рибас должен обратить пушки на город и пригрозить, что откроет бомбардировку. Но Орлов и де Рибас не церемонились, их дело было сделано, и они могли вести себя разбойниками начистоту; а Аникет должен был церемониться, – ему надо было устроить не убийство, но несчастный случай. Кораблекрушение было сразу замечено на суше. Когда, чудом спасенная, Агриппина плыла к Люкринскому озеру, она уже встретила лодки, спешившие к ней от берега. Это публика, от которой Аникет не мог отделаться и, как командир местной эскадры, он не мог не предвидеть этой невозможности. Опять, как в деле Британика, оказывается, что тайное преступление, будто бы нарочно, выносится зачем-то на площадь, чтобы было как можно больше ему свидетелей. Сверх того – по справедливому замечанию Гошара – удивительное дело! Затевали Нерон с Аникетом трагедию искусственного кораблекрушения – якобы судно, гонимое ветром и борением волн, рассядется, ударившись о скалы и подводные камни, – и не нашли для этакой инсценировки места действия лучше, чем безопаснейшую часть Неаполитанского залива, бухту, заведомо без подводных камней, – и времени удобнее, чем ночь полного морского затишья и переезд, который на выполнение их сложного, механического замысла давал лишь несколько минут!
В каком расстоянии от берега произошло ложное крушение триремы? Оно не могло быть большим, потому что Агриппина спаслась вплавь. Тацит так и говорит: пес multum progressa navis, судно отъехало еще не очень далеко. Да ему и некуда было далеко уходить: приняв Агриппину саженях в тридцати от пристани в Байях, трирема должна была двигаться береговым же фарватером, не уходя в открытое море. Когда, избавившись от первой опасности, Агриппина соображает обстоятельства покушения, она вспоминает: «обрушилось судно, ехавшее вблизи берега, не гонимое ветром, не наскочившее на утесы (litus jexta, non vent is acta, non saxis impulsa navis)». И это верно. Иначе переезд опять обессмысливается. С какой бы стати Агриппина, любительница моря, прекрасно зная местность, позволила капитану корабля увозить ее, вместо прямого назначения, куда-то вдаль залива? И – какому капитану? Аникету, которого она терпеть не могла и который, она знала ее ненавидел. Уже и то удивительно, что она согласилась ехать с ним. Назначить подобную личность командиром ее почетного корабля сразу было нелюбезною бестактностью со стороны Нерона, которая должна была не успокоить Агриппину, но обидеть и насторожить. Но допустим, что Агриппина, возбужденная вином, была настроена так добродушно, что проглотила эту пилюлю без протеста. Все же, такую неприятную компанию высочайшая особа еще может претерпеть по необходимости – на срок и в служебных рамках назначения, которое Аникету предписано. Но беспечно отправляться почти одной, без свиты, с Аникетом в безвестную ночную прогулку, не предвиденную в порядке придворного дня, – нечто совершенно не в нравах двора и не в характере подозрительной и надменной Агриппины, к тому же как раз именно теперь напуганной предшествовавшими слухами и, если верить Светонию, даже повторными покушениями.
Ведь еще утром Агриппина была предупреждена, что на море ей приготовлена какая-то опасность. «Хорошо известно, – говорит Тацит, – что Нерону изменил кто-то, и потому Агриппина, осведомленная о заговоре, в сомнении, верить или нет, предпочла прибыть в Байи (из Баула) в носилках (gestamine sellae pervectam)», отказавшись от приготовленной для нее роскошной яхты. Очутиться на подозрительной яхте под командой подозрительного капитана, дающего судну подозрительное направление, – совершенно неестественно для женщины, выросшей в политических интригах, как Агриппина. Как бы ни разнежил ее Нерон за ужином, одно уже появление на сцену заклятого врага ее Аникета (mutuis odiis Agrippina invisus) должно было отрезвить Августу и навести на самые черные мысли. Ведь она же была жизнелюбива и опаслива настолько, что в вечном ожидании покушений, постоянно принимала противоядия, не спала под потолком и т.п. Тут же, вдруг, она сразу изменяет всему своему характеру: предпринимает ночью опасную прогулку, которой боялась днем, вверяется человеку, верить которому она не может, и – как только взошла на корабль – разлеглась в каюте (под потолком) и беспечно беседует со своею Ацерронией.
«Агриппину сопровождали двое из ее приближенных»: вольноотпущенница Ацеррония и вольноотпущенник Креперей Галл. Это опять невероятно по нравам эпохи. Куда же делась ее свита? Где люди, которые принесли ее носилки в Байи? И если даже предположить, что она отпустила свободнорожденных из клиентуры своей возвратиться сухим путем, то не могла она остаться хоть без нескольких своих рабынь и рабов. Это невозможная непристойность с точки зрения римского этикета. Гошар совершенно основательно противопоставляет этому странному почти что одиночеству императрицы известный эпизод в «Сатириконе» Петрония– плавание Трифены, неотлучно окруженной своими служителями. В спокойное время они ее развлекают. Когда поднялась буря, их первая забота – охранять свою госпожу: они завладевают корабельною шлюпкою и в ней спасают Трифену от верной смерти в кораблекрушении. Мы видели в главе о рабстве, что, даже скрываясь беглецами, от политических врагов своих, знатные римляне влачили за собой нескольких рабов своих. Таинственность отъезда одной дамы Марциал тем и характеризует, что она взяла с собой только трех рабынь. Агриппина же находилась в условиях не таинственных бегов, но торжественных проводов: сын-император сопутствовал (hilare prosecutus – у Светония) ей до самого челна, который доставил ее на яхту. К слову сказать: если злодеяние произошло близко от берега, то Нерон должен был видеть и слышать все приключение. Десять лет тому назад я нарочно излазил горы Байской бухты и Люкринского озера, измеряя предполагаемые расстояния от spiaggia до предполагаемых высот, на которых расположены были виллы Нерона и Агриппины. Разумеется, надо учесть несовершенство нынешних разрушенных дорог и осыпавшихся троп: по зигзагам мраморных лестниц подъем от моря к дворцу должен был совершаться гораздо скорее, чем возможен он в настоящее время. Но сейчас-то этот подъем, при всех усилиях ускорить его, при тогдашней моей привычке к горным прогулкам, брал у меня от 35 до 45 минут. Сократим это время, для удобств древности, вдвое, даже втрое, – значит, на десять-пятнадцать минут. Если морской гребной путь от Байи до пристани к Баулам занимает двадцать минут, если крушение последовало вскоре после того, как трирема снялась с якоря в Байях, то ясно, что, хотя бы оно приключилось даже на половине дороги, Нерон не успел еще подняться во дворец свой и, следовательно, должен был явиться свидетелем совершившегося. Между тем, Тацитов роман изображает его ожидающим в волнении «известий, что злодеяние вполне окончено» и т.д. Где он ожидал этих известий? Кто принес их ему? Ничего не известно. Общие позы, общие слова, общие ситуации.
Романическая выдумка ясно выдается пересказом разговора, который, будто бы, вела Агриппина с Ацерронией. Кто мог сообщить этот разговор? Ацеррония погибла под ударами весел, Креперей Галл раздавлен глыбою свинца, успев перед смертью с удивительной чуткостью разобрать, что это был именно свинец, а не другая какая-либо тяжесть. Агриппина после крушения прожила так мало, что вряд ли ей было время подробно расписывать идиллические подробности своей роковой прогулки. Получается нечто вроде известной немецкой сказки. Вор забрался в избу и увидел, что одинокую старуху душит домовой. Задушил – и скрылся, а вор умер на месте со страха. Старуха умерла, вор умер, домовой исчез: а история, тем не менее, почему-то стала известна.
Разбирая технические подробности покушения, Гошар отмечает, прежде всего, что как рассказ Тацита, так и Светония, составлены, очевидно, не моряками и не со слов моряков записан, так как страдают неопределенностью корабельной терминологии (вместо camera или diaeta Тацит, совершенно обывательски, определяет «каюту», как locus, место) и плохо знают устройство и расположение триремы. Светоний даже не характеризует судна, на котором пробовали погубить Агриппину, каким-либо определенным техническим именем, отделываясь просто опять-таки обывательским же общим словом «корабль», navis. Между тем, он определенно знает тип яхты, на которой Агриппина прибыла из Анциума: liburna или liburnica. Это – судно военного образца, введенное в римский флот после битвы при Акциуме, где быстрый и увертливый ход маленьких либурн Октавия восторжествовал над огромными, тяжеловесными судами Антония. Сооружаемое из сосны или ели, оно было усовершенствовано римлянами против первоначальной модели, заимствованной у либурнов, иллирийских пиратов. Разбойничья косная обратилась в военный корабль, с очень длинным, узким, острым и с носа и с кормы, корпусом, – род громадной гондолы, но вооруженной мачтою под косым латинским или квадратным левантинским парусом, и одним, либо более рядом гребцов, в соответствии величине судна. Яхта либурнского типа, выработанная протоками и скалами далматинского побережья, приспособлена к нуждам плавания быстрого и дальнего. Отсюда же вышел средневековый тип венецианской галеры. В эпоху Нерона либурна была, повидимому, излюбленным типом быстроходного судна: ее изображения на медалях дошли к нам от правлений Клавдия и Домициана, которые время Нерона соединяет, как одно из промежуточных; название ее встречается у поэтов Неронова века: Лукана, Силия Италика. Со временем, в III веке по Р.Х., либурна одолела все остальные виды и типы римских военных судов, так что ее название стало нарицательным для всякого военного корабля, как раньше нарицательно было имя триремы. По словам Светония, был уговор, чтобы капитан либурны, на которой прибыла Агриппина, напорол свое судно на скалы и тем поставил императрицу в необходимость воспользоваться приготовленным ей предательским кораблем. Что для последнего не нашлось у историков никакого определенного имени, Гошар объясняет тем, что штуку, якобы предложенную Аникетом, нельзя было проделать ни с каким типом военного корабля, ранее известным. Не заводят военные флоты раздвижных кораблей нарочно на предмет самопотопления. Дион Кассий говорит, что идею корабля-западни дало Нерону театральное зрелище: в какой-то феерии судно распадалось, выпуская из трюма своего разных зверей, а потом опять смыкалось и становилось таким, как было. Мало ли какие чудеса позволяет осуществлять на сцене легкий, декоративный материал, не требующий сильных моторов. Театральный корабль после крушения в «Африканке» или «Летучем Голландце» разбирают и складывают в депо декораций, но настоящий корабль после крушения оказывается на дне моря, которое столетиями не отдает его земле, а то и никогда. Если театральным приспособлением Аникета еще возможно было раздвинуть корабль, – что, однако, у Аникета тоже не вышло, – то уже никак нельзя было сдвинуть после того, как, искусственным крушением, в корпус судна вторгнулась вода. Дело же шло, ведь, не только о том, чтобы погубить Агриппину, но, вместе с нею, не пропасть и самому Аникету, со всем экипажем. Но, так и быть, допустим невозможную возможность, будто Аникет сделал такой удивительный корабль, чудотворный «Наутилус» капитана Немо, который в открытом море сам и растворяется, и захлопывается по желанию капитана, на что не способны даже и нынешние сотто-марины. Во всяком случае, это было изобретение новое, не успевшее даже получить себе особое нарицательное имя (navis – у Тацита и Светония, у Дионы Кассия – νανζ, πλοτον). Постройка военного корабля – дело долгое, сложное, людное, огласочное. Можно скрыть тот или другой секрет в его устройстве, что и делает каждая государственная верфь, но немыслимо скрыть общий тип и назначение судна, сооружением которого заняты не один десяток, а может быть, не одна сотня человек. Когда строят подводную лодку, рабочим ясно, что это будет – не миноноска, – и обратно. И, действительно, слух о каком-то странном, где-то для чего-то сооружающемся судне, дошел до Агриппины и заставил ее опасаться. Это еще Вольтер хорошо подчеркнул. «Нельзя было, говорить он, строит подобное судно без того, чтобы рабочие не догадались, что оно предназначается для убийства какого– либо важного лица; этакий секрет не замедлил бы сделаться достоянием всего Рима и т.д.» Где могло сооружаться подобное судно? Естественно казалось бы – на верфи Мизенского флота, в соседстве с местом будущего покушения. Однако Дион Кассий уверяет – будто в устье Тибра, в Остии. Во всяком случае, если даже и там, то, значит, доставленный каким бы то образом из Остии механизм должен был на Мизенской верфи быть собран и проверен. Не пустили же в ход такую ответственную машину без пробы? Все это предполагает, что убийство подготовлялось чрезвычайно долгое время, чего совсем не слышно в быстром темпе Тацитова рассказа. Да и невозможно иного темпа допустить: пред нами подготовка не революционного акта, который, в чуждом двору среде, может зреть годами, но придворного заговора, который никогда не выдерживает испытания долгой тайны. Затем: если адская машина была устроена на новом судне, то спуск нового военного корабля – не такое малое событие, чтобы Тацит мог замолчать его в церемониале торжественного дня. Конечно, цена триремы в бюджете римского фиска не та, что цена броненосца в бюджете современного морского государства, но если посчитать разницу в выросшей строимости денег, то пожалуй, соответственные своим эпохам, бюджетные значения триремы и броненосца окажутся не так уж непропорциональны. Уже в первой половине XVII века Юст Липсий имел материалы, достаточные для почина истории римского флота, за ним следовал с большим запасом фактических данных Иоганн Шефер (1654), а в XVIII веке итальянские ученые Гори и Лигорио изучением надписей положили основание обширному списку имен, которые носили суда обеих римских военных эскадр – Равенской т.е. Адриатической, и Мизенской, т.е. Тирренской. Список этот пополнялся затем Кардинали, Рункеном, Ашбахом и, с особенною подробностью, Ферреро (1884). Французский историк Мизенского флота, Виктор Шапо называет по именам в эскадре этой 1 шестирядный корабль (гексера), 1 пятирядный (квинкверема), 9 четырехрядных (квадриремы), 55 трехрядных (триремы), 13 либурн и 7 оставшихся в надписях без обозначения. Была ли обречена гибели от адской машины новая, только что спущенная, трирема, был ли аппарат Аникета приспособлен к старой (что было бы вероятнее – в виду предубеждения Агриппины к какому-то таинственному новому кораблю, о котором дошли до нее зловещие слухи, но, по доказательному мнению Гошара, неисполнимо технически), – в обоих случаях имя судна, пропавшего в таких трагических и странных обстоятельствах, должно было бы запомниться в летописях. Вместо того, последние не знают не только имени судна, но и – какого типа оно было. Оно – только – navis, νανζ, πλοτον).
Не знает его и хор в памфлетической «Октавии», хотя он рисует покушение Аникета с такою подробностью, что приводит даже предлинную речь, которую Агриппина произнесла будто бы перед тем, как броситься с корабля в море.
«И наш век видел великое сыновнее преступление, как государь (princeps), обманом заманив мать свою, спровадил ее на смертоносном суденышке (rate ferali) в Тирренское море. По заранее полученному приказу, матросы поспешают выйти из спокойной гавани, и шумит море под ударами весел. В открытое море мчится корабль (ratis), но, вот, под обрушенною тяжестью он зашатался, разверзся и черпает морскую волну. Страшный крик возносится к небу, мешаясь с женским плачем. Свирепая смерть носится пред глазами. Каждый ищет спасения от гибели. Одни нагишом бросаются на доски разломанной кормы и разрезывают ими волны, другие стараются доплыть до берега вплавь. Многим судьба утонуть на глубинах. Августа раздирает на себе одежды, рвет волны и орошает лик горькими слезами. И, убедясь, что нет надежды на спасение, восклицает, пылая гневом, раздавленная несчастьем:
– «Так вот, сынок, награда мне за все мои заботы? Только то, значит, и заслужила я, что этот корабль (carine), я, которая тебя родила, которая дала тебе жизнь и – о, безумная! – империю и имя Цезаря. О, супруг мой! Обрати ко мне очи твои с берегов Ахерона и насыться моею карою. Вот я – виновница твоей смерти, о несчастный! – я, из– за которой погиб твой сын, – вот сейчас я помчусь в смертную область твою (ad manes tuos), не погребенная, потопленная волнами свирепого моря. И поделом мне это!»
«Пока она говорила, волны достигли уст ее. Она ныряет в море и выныривает, подброшенная морскою волною, гребет руками, страх ее подбодряет, но усталость лишает сил напрягаться. Но в обессиленной звать на помощь груди уже ожило упование восторжествовать над угрюмою смертью. Многие смельчаки спешат на помощь государыне, уже потерявшей силы в борьбе с морем, и, в то время как она едва шевелит руками, ободряют ее криком и вот – выхватили из моря.
«Ах, стоило ли тебе избегать волн свирепого моря? Все равно, погибнешь ты от меча сына своего, преступлению которого с трудом поверят потомство и ряд отдаленных веков».
Кто бы ни был автор «Октавии» и написана ли она раньше Тацита, при Флавиях, как думают Нордмейер (его мнение, что «Октавия» – памфлет против «второго Нерона», т.е. Домициана), Петер и др., или позже Тацита, – во всяком случае, связь этой «претексты» с текстом Тацита ясна. Или Тацит воспользовался «Октавией» для своего эпизода, или автор «Октавии» переложил в стихи для своего хора Тацитов эпизод. Но подробностей оба автора друг против друга не дают нисколько, если не считать театрального эффекта речи Агриппины перед тем, как броситься в море: неправдоподобная условность, которой, разумеется, не мог допустить гениальный художник Тацит, le plus grand peintre de Pantiquete как называл его Расин. Та же подробность, о которой только что шла наша речь, тип корабля-ловушки, – еще более темна в трагедии, чем у Тацита, ибо в «Октавии» корабль определяется то именем плоскодонного судна (ratis), то килевого (carina). Правда, что у поэтов ratis употребляется как общее обозначение всякого корабля, но – понятное дело – разъяснению Гошарова недоумения эта поэтическая вольность нисколько не способствует. Если бы Агриппина, именно уже рассудка вопреки и наперекор стихиям, имела неосторожность войти на трирему, действительно, лишь с двумя приближенными, то – какая надобность была Аникету шевелить столь сложный и неуклюжий механизм убийства? раз женщина так беспечно отдала себя во власть ему, он мог убить ее, даже не прибегая к оружию, ударом первою попавшею под руку тяжелою вещью. Боялись обличающих убойных знаков? Однако – все покушение было рассчитано на средства, при которых убойные знаки неизбежны: ведь тяжестью, рухнувшей с мачты, рассчитывали Агриппину задавить, а не потопить, и, когда Ацерронию приняли за Агриппину, на нее посыпались удары веслами, баграми и пр. Бить не боялись: contis et remis, et quae fors obtulerat, navalibus telis conficitur – «была забита шестами, веслами и другими, какие попадались под руку, корабельными орудиями». Сама Агриппина получила рану в плечо. Расчет был – не утопить, а сперва достоверно убить, разыграв затем сцену кораблекрушения, в котором нашли бы себе извинение какие угодно убойные знаки.








