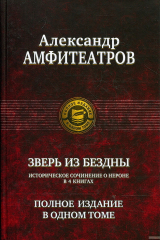
Текст книги "Зверь из бездны. Династия при смерти. Книги 1-4 (СИ)"
Автор книги: Александр Амфитеатров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 82 (всего у книги 91 страниц)
Пизону возражают, что цезарь, вероятно, напуганный следствием по делу Эпихарис и смутными слухами о заговоре, почти перестал выходить из дому и все время проводит либо в своих покоях, либо в дворцовом парке.
– Но он не изменил своей любви к цирку и, во время представления, бывает доступнее, чем когда-либо!.. Обдумано и решено: убить Нерона в цирке, во время праздничных игр в честь Цереры, справлявшихся между 12 и 19 апреля. План не представлял ничего нового, до мельчайших подробностей повторяя убийство Юлия Цезаря. Часть заговорщиков, под предводительством Латерана и Сцевина, должна окружить Нерона в цирке. Латеран, – человек смелый духом и огромный телом, – приближается к цезарю, как бы затем, чтобы просить правительственной субсидии своему расстроенному земельному хозяйству. Он падает к ногам Нерона, обнимает их и внезапно роняет цезаря на пол. Сообщники добивают лежачего врага!..
– Дайте мне первому перерезать ему горло! – молит Сцевин, – и общим соглашением, ему единогласно уступают честь и эффект быть новым Каской. Пизон, тем временем, вместе с Фением Руфом и знатнейшими приверженцами переворота, должен был ожидать вести о смерти императора близ храма Цереры, чтобы – le roi est mort, vive le roi – немедленно проследовать оттуда в лагерь преторианцев и получить их санкцию на принципат. Дабы придать его исканиям власти авторитетность и связь нового претендента родственным преемством с Юлиями-Клавдиями, дорогими римскому народу, думали развести Пизона с женой и показать его войскам уже как мужа принцессы Антонии, дочери цезаря Клавдия от первой жены его Элии Петиты. Тацит, однако считает известие о такой затее вздорной выдумкой. По его мнению, и Антония была слишком благоразумной женщиной, чтобы рисковать собой в столь сомнительном предприятии и ставить на знамени его свое имя, и Пизон был слишком влюблен в свою Атрию Галлу, чтобы изменять ей ради политической авантюры.
Сцевин готовился к цареубийству, как к трагическому театральному представлению. Среди римских декабристов это – их Якубович. Накануне дня, назначенного для покушения, он сделал решительно все, чтобы дать понять окружающим, что он – человек роковой и стоит на пороге какого-то ужасного и таинственного срока. Он утвердил печатью свое завещание, дал – как бы желая показать себя близким к смерти – вольные наиболее любимым рабам, других наградил деньгами, а к вечеру устроил великолепный ужин, за которым, однако, сидел мрачный, заметно удрученный тяжелыми предчувствиями, и напрасно хотел казаться веселым и разговорчивым.
Главным агентом Пизона в сношениях с заговорщиками, его адъютантом и делопроизводителем, был некий всадник Антоний Наталис. Человек этот – заведомо всем домочадцам Сцевина – провел с господином их, 11 апреля, в день, когда тот так мелодраматически позировал перед ними, – долгое время в тайной беседе, содержащей, вероятно, последние инструкции к покушению. Расставшись с Наталисом, Сцевин призывает своего любимого вольноотпущенника, грека Милиха и разыгрывает перед ним, как перед наперсником в трагедии, новый ряд загадочных сцен. Он щеголяет перед Милихом пресловутым ферентинским кинжалом, сердится, что ветхое оружие притупилось, и приказывает отточить его на камне, как иглу.
– А кроме того, приготовь на завтра бинты, корпию – словом, перевязочный материал: я могу быть ранен.
Камердинер нашей эпохи, выслушав такие приказания, решил бы, что барин едет на дуэль. Камердинер античного римлянина сообразил, что дело идет о заговоре на жизнь правящего государя. Революционные кадры Пизона нашли своего Шервуда. Милих прикинул в уме странные распоряжения господина к его, еще более странному, поведению, привел его в связь с визитом
Наталиса, правой руки Пизона, то-есть человека политически– неблагонадежного еще с 62 года, – и недолго колебался, как ему поступить. Награда за предательство ожидалась верная и огромная. А тут еще жена, – Милих, все-таки, нашел нужным посоветоваться с ней: кому выгоднее будет изменить – патрону или государю, – нашептала ему, что, конечно, патрону. – Тем более, – пугала она мужа с коварной «бабьей логикой», как презрительно отмечает Тацит, – тем более, что свидетелями дикого поведения Сцевина были не мы одни, но множество рабов и вольноотпущенников. Подозрение могло уже родиться у каждого из них, каждый в состоянии заявить на Сцевина «слово и дело». Следовательно, молчание твое господина, все равно, не спасет, а только ты прозеваешь награду, которая достанется тому, кто первый придет к цезарю с доносом.
Волнуемый корыстью и страхом, Милих подался на женин совет. Тацит, далеко неблагосклонный к Сцевину, не жалеет однако, резких слов для осуждения «холопской души» его предателя. Для Тацита, Милих – неблагодарный негодяй, забывший, ради могущества и денег, свой священный долг. Логика, странная для государственника нашего времени, но не для историка-аристократа, вздыхавшего в начале II-века по семейному «Домострою» крепостнической республики Катона. Вмешательство рабов и вольноотпущенников в политику было ненавистно римлянину старого закала, какими бы полезными результатами оно ни сопровождалось. Республика не хотела гражданских чувств раба и вольноотпущенника и, надменно не допуская их к гражданским обязанностям и повинностям, сурово блюла за их чувствами к собственникам и патронам. Как ни велик был инстинкт государственности в рабовладельческой аристократии, инстинкт собственности говорил в ней еще громче, настойчивее, жестче. Во времена Мария и Суллы раб, политически предавший хозяина, получал свободу в награду за донос, но был казним за измену господину. Один раб хотел спасти своего преступного и осужденного барина; другой раб выдал его правительству. И что же? Судьи постановили: дать свободу верному рабу, хотя, с государственной точки зрения, он был явный изменник, и отправить на крест предателя, хотя он действовал в пользу государства. Что касается вольноотпущенников, – закон римский ясно гласил, что особа патрона должна быть для них такой же почтенной и священной, как особа отца. За проступки против патрона вольноотпущенник отвечал, как за проступки против отцовской власти, за убийство патрона – как за отцеубийство. Вольноотпущенницы освобождались от власти патрона – так же, как дочь от власти отца: лишь выходя замуж, – а в брак они могли вступить лишь через подобие родительскому разрешению со стороны патрона. Пользование симпатиями и антипатиями крепостной и вольноотпущенной дворни к господам своим, в делах политических, началось лишь в смутные времена создания принципата. Да и то не один император-аристократ старался угодить знати тем, что подтверждал неприемлемость судебного свидетельства от рабов и в рабстве рожденных. Плиний воздает за это хвалу Траяну. Но цезари – последовательные демагоги и в политике, и в этике гражданственности – такими любезностями со знатью не считались.
Нерон в эти дни находился в одном из летних дворцов своих, в Сервилиевом парке, расположенном у дороги в Остию, за воротами остийскими, ныне воротами св. Павла. Милих явился ко двору рано утром, на рассвете. Часовые заграждают ему вход. Он объявляет слово и дело государево. Тогда его ведут к вольноотпущеннику цезаря, Эпафродиту, занимавшему при Нероне пост директора его библиотеки, – гораздо более важный по существу, чем говорит его название. Надо помнить, что Нерон был человек большого литературного образования, ученый подражатель древних поэтов, придирчивый критик, неутомимый чтец и плодовитый писатель. По пристрастию своему к литературе, он должен был входить с директором библиотеки в отношения частые и близкие и, конечно, держал на этом посту не первого встречного, но человека, лично ему симпатичного, преданного и дружественного. В данный момент Эпафродит был на верху могущества. По смерти Дорифора, отравленного в 62 году за несочувствие браку Нерона с Поппеей, он управлял комиссией прошений, поступающей на высочайшее имя (а libellis). Уже самый факт замещения им непокладливого Дорифора достаточно ярко убеждает, что он был партизан Тигеллина и Поппеи и стоял за тот же деспотически-серальный режим, к которому влекли они государство и божественного цезаря, со дня на день все более и более безумевшего от власти, вина, искусства и женщин. Богат Эпафродит был почти невероятно. Память об эсквилинских садах его долго жила в Риме. Известен случай, рассказанный Эпиктетом, что некий проситель, упав к ногам Эпафродита, стал жаловаться на свою бедность. – Сколько же ты всего имеешь? – спросил временщик. Проситель отвечал: – Только шесть миллионов сестерциев (600 тысяч рублей). Тогда Эпафродит растрогался, изволновался и выразил искреннее изумление, как «бедняк» еще в состоянии терпеть столь жестокую нищету.
Короткие и отрывочные сведения об Эпафродите дошли до нас, благодаря тому случайному совпадению обстоятельств, что в числе рабов его был малютка фригиец, по имени или, вернее, по рабской кличке, Эпиктет, т.е. купленный, – впоследствии величайший апостол стоической философии, прославляемый даже и в наши времена, как чистейший и совершеннейший образец рассудочной добродетели и гениальный законодатель «христианства без Христа». По воспоминаниям Эпиктета, Эпафродит рисуется нам личностью довольно дюжинной, хотя человечество и обязано ему вечной признательностью за то, что он не оставил своего раба темным невеждой, а дал ему правильное философское образование у знаменитого Музония Руфа. По всей вероятности, Эпафродит был сам довольно хорошо образован, иначе он не занимал бы столь ответственного, в смысле эрудиции, поста при столь требовательном по начитанности своей государе. Но этически он не стоял выше других вельмож – выскочек цезарева двора. Так же пресмыкался перед высшими и «людьми случая», так же давил жестокостью неудачников, которые от него зависели. Эпиктет изображает Эпафродита низкопоклонным льстецом своего собственного раба, сапожника Фелициона, проданного им за негодностью, когда тот пошел в гору, сделался поставщиком высочайшего двора и стал лично известен цезарю Нерону. По древней легенде, Эпафродит – тот самый капризный господин, по чьей свирепой прихоти Эпиктет остался хромым на всю жизнь. Мальчик в чем-то провинился. Господин в наказание велел заклинить ему ногу в колодки. Рабы-мучители исполнили жестокий приказ с зверским усердием...
– Если вы будете продолжать, нога сломается, – невозмутимо заметил юный стоик. На слова его не обращают внимания, пытка продолжается, нога хрустит. – Ну, вот, ведь говорил я вам, что ей не выдержать, – спокойно заключает Эпиктет. Анекдот этот Цельз выставил в своем знаменитом памфлете против христиан, как образец мужества душевного, созидаемого философией и не превзойденного мученичеством христианским. Ориген и Григорий Назианзин отражали легенду Цельза, как серьезный полемический выпад, противопоставляя ей: первый – короткое молчание Иисуса на кресте, а второй – добровольность столь же терпеливого христианского мученичества, тогда как Эпиктет страдал – де, хотя и с благородством, но случайно, по причинам, стоявшим вне его воли и неотвратимым.
В действительности, вся эта история миф, и Эпиктет охромел не от пытки, но от ревматизма. Следовательно, мифично и участие в ней Эпафродита, и характеристикой последнего она служить не может. Нет сомнения, что человек этот, при всей пустоте своей и греческом легкомыслии, не был чужд, однако, и благородных порывов. Впоследствии мы увидим его – в роковые минуты падения Нерона – одним из немногих, оставшихся верными своему государю до конца. Эпафродиту выпала на долю печальная честь – докончить начатое Нероном самоубийство, дорезать последнего Юлия-Клавдия, когда рука его дрогнула нанести себе смертную рану. Грустная услуга эта сберегла жизнь Эпафродиту при пяти последующих императорах – Гальбе, Отоне, Вителлий, Веспасиане, Тите. Но шестой, Домициан, внезапно захотел показать на именитом вольноотпущеннике пример своему собственному двору, что, каков бы ни был государь, особа его должна быть неприкосновенна для подданного. Он казнил несчастного старика за цареубийство, тридцать лет спустя после его невольного преступления, не захотев принять во внимание даже того, что именно оно-то и открыло путь к империи Флавиям и, в числе их – последнему, – самому Домициану.
Показание Милиха, разумеется, взволновало Эпафродита страшно, – он тотчас поставил доносчика перед очи самого цезаря. Тот, перепуганный, посылает солдат арестовать Сцевина и немедленно притащить его на очную ставку с Милихом. Насколько глупо вел себя Сцевин перед покушением, настолько же ловким и хладнокровным самозащитником оказался он на первом допросе.
– Что это за оружие? Откуда оно у тебя? – спрашивают его, показывая пресловутый ферентинский кинжал, представленный Милихом в качестве вещественного доказательства.
– Это – священная реликвия из храма моей родины. Я уже давно приобрел ее и храню у себя в спальне, в божнице. Теперь, как вижу, плут-вольноотпущенник украл ее.
– Ты утвердил вчера завещание печатью. Почему именно вчера?
– Совершенно случайно: я часто пересматриваю свое завещание и не разбираю дней, когда приходится в него заглядывать.
– Ты роздал обильные денежные награды и выдал отпускные своим рабам?
– Я часто делал это и прежде.
– Но никогда еще с такой щедростью.
– Правда, но это – потому, что дела мои расстроены, доходы уменьшаются, кредиторы меня душат, и мне надо еще при жизни широко распорядиться своими имущественными правами, так как завещание мое может быть опорочено и ограничено в своей силе.
– Что значит вчерашний твой пышный ужин?
– Стол у меня всегда открыт для всех; я живу на широкую ногу, в свое удовольствие и мало забочусь, одобряют меня или бранят ханжи.
– Зачем приказал ты приготовить бинты и корпию?
– Никогда не приказывал ничего подобного. Доносчик – просто – возводит на меня напраслину. Налгав на меня всякого вздора по остальным пунктам обвинения, он морочит вас этими бинтами, как ложным вещественным доказательством, чтобы уверить суд, будто он не только доносчик, но и свидетель-соучастник моего преступления.
Невозмутимая самоуверенность Сцевина сбила Нерона и Эпафродита с толку. Они вполне убедились, что перед ними невинно обвиненный, и никакого заговора не существует, и Милих – мерзавец и злодей, желающий нажить капитал на легковерии подозрительных властей и гибели своего господина. Медаль перевернулась. Сцевин выходил сух из воды, а вольноотпущеннику пришлось плохо: ему угрожала смерть, как клеветнику на своего господина, или возвращение в рабское состояние – с крестной казнью за первый же проступок.
В такой грозной опасности, отчаянный в самой жизни своей, Милих – по научению жены своей, как видно, более продувной и хладнокровной – хватается за последнее средство: заявляет новое «слово и дело» – на Антония Наталиса.
– Он имел вчера долгий разговор с нашим господином, он тоже друг Пизона. Пусть объяснит, о чем они сговаривались.
Наталиса арестуют, подвергнут допросу. Застигнутый врасплох, не сговорясь заранее со Сцевином на случай неудачи покушения, он – на вопрос о сомнительном свиданий с последним – дает показание, с показанием Сцевина несогласное. Обвиняемых заковали в кандалы, стали допрашивать с пристрастием, пугнули пыткой, и – плоть оказалась в них сильнее духа: струсили и покаялись. Первым сдался Наталис. Более Сцевина осведомленный об организации заговора, он решил спасти свою голову чужими головами и из ловкого революционера сразу превратился в еще более ловкого доносчика. Первым он выдает Пизона. Вторым – Аннея Сенеку. Тацит, по обыкновению, притворяется неверующим в прикосновенность Сенеки к революции и объясняет оговор Наталиса либо той возможностью, что Наталис ошибался в виновности философа, либо – рассчетом снискать себе милость Нерона обвинением старого его учителя, с которым цезарь был теперь в ссоре, которого ненавидел, от которого жаждал отделаться под каким-либо благовидным предлогом.
Сцевин, узнав, что Наталис выдает, потерял голову. Раз все пропало, – неужели ему гибнуть одному? Нет, на миру и смерть красна. Да, может быть, за предательство-то еще и помилуют? И он раскрывает всю революционную организацию, сколько сам ее узнал, называя по именам вожаков. Тех мгновенно хватают. Лукан, Квинтиан и Сенецион попробовали запираться.
– Да вы не бойтесь, – убеждают их. – За признание вам выйдет помилование. Вашей жизни ничто не угрожает, – вы только назовите нам остальных.
И эти несчастные, изнеженные, жизнелюбивые простаки бросились в расставленные им следовательские силки с кроличьей готовностью и поспешностью, которые были бы смешны, если бы не были слишком отвратительны. Квинтиан выдает Глития Галла, Сенецион – Анния Поллиона, своих интимнейших друзей. Выспренный поэт поэт-декламатор Л. Анней Лукан, автор «Фарсалий», знаменоносец революции, превзошел подлостью всех: он предал в руки Неронова судилища Ацилию, свою родную мать.
За каждым новым предательством следовали новые аресты, за каждым новым арестом новые предательства. В Риме разыгрывалась настоящая оргия трусливого доноса. Стоило пугнуть пытками, и арестованные спешили откупиться от опасности, выдавая для тюрем, кандалов и допросов с пристрастием самых близких, самых дорогих себе людей. Благорожденные сенаторы и всадники соперничали между собой в трусости и подлостях измены. Лукан, Сенецион и Квинтиан, усердствуя, оговорили столько народа, что обширностью раскрываемого заговора вогнали Нерона в страх и хандру. Ему показалось, что весь Рим против него. Он заперся в замке Сервилиева парка, усилил свой почетный караул и объявил Рим на военном положении. Городские стены были заняты солдатами; цепи часовых рассыпаны по береговым линиям Тибра и Остийской гавани; по площадям, улицам, предместьям и ближайшим городам рыскали патрулями конные и пешие воинские отряды; в домах шли обыски. Особенно усердствовала германская гвардия, излюбленная опора цезарей, верная даже Калигуле чисто-собачьей преданностью. Нерон доверял ей, – как лично-наемной, чужестранной и потому ненавистной населению, более, чем римским легионерам. Аресты совершались массами. Толпы заподозренных приводились к воротам Сервилиева парка, где заседал грозный и беспощадный трибунал, состоящий из самого Нерона, Тигеллина и... Фения Руфа! Кто являлся перед ними для допроса, мог считать себя заранее погибшим. Всякая вина была виновата, все ставилось в преступление: улыбка при виде кого-либо из заговорщиков, ласковое приветствие при свидании. Гибельно перетолковывались случайные обмолвки в самых невинных разговорах; придавалось подозрительное значение совершенно нечаянным визитам; объясняли злым умыслом приглашения на обед в один и тот же дом, встречи в цирке или театре...
Фения Руфа судьба хранила: никто из арестованных не успел или не хотел еще обличить его, и – покуда – даже тень подозрения его не касалась. В стараниях сохранить и поддержать репутацию своей лояльности, он усердствовал на допросах едва ли не более самих Нерона и Тигеллина, являя себя неумолиможестким к недавним единомышленникам и сообщникам.
Как при таких условиях его не выдали сразу, трудно объяснить. Надо, впрочем, отметить, что не только Фений Руф, но и вся партия заговора еще оставались неведомыми для следствия. Быть может, придворная партия была худо осведомлена об ее составе и, выдавая своих господчиков, не могла назвать никого из влиятельных преторианцев? Быть может, все эти Сцевины, Луканы и т.д. рассчитывали, что не все еще погибло для них, покуда Фений Руф и военные на свободе? что, если проиграно дело заговора Пизоном, то осталась еще попытка к открытому преторианскому бунту, который низвергнет Нерона, отворит темницы и разобьет кандалы его жертв? Ведь, покуда были только допросы, да пытки; казни еще не начинались.
Но сказанная возможность – не более, как моя личная гипотеза, вызванная недоумением: почему в то время, как одна половина заговорщиков – придворно-аристократическая – проявила столько, так сказать, самопожирающей подлости, другая половина, военно-демократическая, не подверглась ее разоблачениям и оставалась некоторое время в тени? Настолько в тени, что глава солдат-заговорщиков, Фений Руф, был даже приглашен в число следователей, а душа организации, Субрий Флав, во все время допросов, находился при Нероне, в качестве дежурного флигель-адьютанта. Если же отказаться от скользкого пути гипотез, придется констатировать безусловно одно: редкое общество проявляло в истории больше негодяйства и трусости, чем компания Пизонова заговора в первые дни по его раскрытии.
На темном фоне отвратительных предательств загорелась тогда всего лишь одна светлая точка, – в оргии животного эгоизма, не рассуждающего и безжалостного жизнелюбия, выдался лишь один благородный порыв. И – к огорчению Тацита – этот «слишком блистательный» пример геройства дала женщина, а – к сугубому огорчению – даже и не аристократка, но представительница как раз того класса, который великий римский историк особенно презирал и ненавидел: вольноотпущенница, – да вдобавок еще и кокотка, – все та же злополучная Эпихарис.
Нерон вспомнил, что она содержится в предварительном заключении, по доносу Волузия Прокула, недоказанному тогда, но теперь получившему полное подтверждение в раскрытии Пизонова заговора. Приказано было возобновить следствие по делу Эпихарис. Допрос она выдержала твердо, не признавшись ни в чем, никого не называя. Нерон приказал ее пытать в расчете, что нежное женское тело перед ужасами боли окажется слабее духа. Он жестоко ошибся. Эпихарис высекли кнутом, – она молчит, стали жечь каленым железом, – она молчит. Палачи пришли в ярость. Непобедимое упорство женщины, торжествующей над свирепой изобретательностью мужчин, заставило их перейти к самым страшным пыткам римского застенка. Эпихарис молчала. Наконец, палачи выбились из сил. Допрос отложен на завтра. Эпихарис – едва живую, с вывихнутыми ногами – отнесли в тюрьму.
Оставшись в «одиночке», она взвесила свои силы, – и поняла, что истратила всю себя, чтобы честно выдержать пыточные зверства. На новый допрос ее не хватит, истерзанное тело – при новых муках – заговорит против ее воли. Нерон и Тигеллин добьются нужных им признаний, друзья и единомышленники Эпихарис очутятся в тюрьмах, сложат головы на плахах...
Назавтра пришли за Эпихарис: в застенок! Идти она не могла: вывихнутые ноги не держали. Положили ее в носилки, понесли... и принесли к судьям – мертвую. Благородная женщина сумела спасти друзей от гибели, себя – от предательств: она удавилась шнурком от корсета (fascia), туго привязав его к спинке носилок и потом всем корпусом осунувшись вперед, в глухую петлю...
Не легко было Тациту отмечать этот подвиг низкорожденной женщины, и с его стороны рассказ об Эпихарис – тоже, своего рода, подвиг исторического беспристрастия. Как ни презирает Тацит низшие классы своего общества и, в особенности, вольноотпущенников и вольноотпущенниц, однако, не может утаить, что из женских образов, мелькающих на кровавых страницах его летописи, едва ли не два только освещают эпоху сиянием истинно-женского благородства, величием истинно-женской, любвеобильной души: вольноотпущенница Актэ – «muliercula», любовница Нерона, и вольноотпущенница же Эпихарис, заговорщица против него.
И трудно выдумать в честь политической героини эпитафию, более прекрасную для нее и более ужасную для эпохи, ее породившей, чем краткая характеристика, которой удостоил Эпихарис гордый Тацит, уважая ее против воли: «слишком блистательный пример подала женщина, и притом вольноотпущенница, прикрывая среди величайших мучений людей чужих и почти неизвестных себе, тогда как свободнорожденные, и притом мужчины, всадники и сенаторы, выдавали каждый самых дорогих себе людей».
Кто изучал историю европейских революций, тому фигура героини Пизонова заговора не покажется новой и оригинальной. И, в самом деле, Эпихарис не только характер, она – тип. Или вернее: прототип. Прототип тех женщин, полных могучего напряжения действующей воли и страдательного самоотвержения, что является главными рычагами едва ли не всех освободительных движений, их красотой, их поэзией. Каждая революция имела своих Эпихарис, воспетых поэтами, прославленных публицистами и историками. И – Бог знает, кто важнее для успехов свободы, – мужчины ли, несущие в бой за нее свою нравственную и физическую энергию, или эти часто слабые и неумелые деятельницы, но восторженные вдохновительницы на борьбу, жертвы и саму смерть. Знамя идеи поднимает и несет в битву мужчина, но вышивает его гордые девизы и вручает его бойцам – на смерть или победу – женщина. В полках идеи она – и маркитантка, и солдатская жена, и сестра милосердия, и Иоанна д’Арк. А когда знамя повергнуто в крови, растоптано ликующим врагом, и один за другим падают смелые бойцы, дрогнули трусы, и паника холодом смертного ужаса бежит по расстроенным рядам, – тогда эти самоотверженные Эпихарис приходят к своим мужьям, братьям, любовникам для последней самой важной помощи, для последнего и самого страшного урока. Женщине не в подъем оружие, женщина не в силах биться за идею, – так пусть же мужчины учатся у женщин, как за идею надо умирать!
Несмотря на массу арестов и на упадок духа среди схваченных заговорщиков, дело революции было далеко еще не потеряно. Повторяю свою гипотезу: быть может, потому-то арестанты и щадили военную партию, что ждали от нее, еще невредимо сосредоточенной вокруг еще невредимого Пизона, – бунта вооруженной рукой. Донос Милиха, арест Сцевина и Наталиса стали, конечно, известны заговорщикам в те же часы, как они совершились. Затем пришли слухи, что Сцевин нетверд, путается в показаниях, выдает. Люди энергичные, – быть может, именно Субрий Флав, Сульпиций Аспр, Гавий Сильван – люди военной партии, – говорили Пизону, что теперь осталось одно – идти на пан или пропал, броситься на встречу опасности, открыто, подняв знамя восстания.
– Ступай в лагерь преторианцев – говори с солдатами!
– Ступай на форум, войди на трибуну,– говори с народом!
– Пусть вокруг тебя явят себя все твои соумышленники: их число, их имена привлекут к тебе и тех, кто до сих пор не был в заговоре!
– Ведь, главное – обнародовать начало дела, пустить революцию в ход. – Одна молва уже, что восстание началось, поднимет твои шансы ... Открытие заговора застигло Нерона врасплох, не приготовленным. Не давай ему опомниться! Он беззащитен, он растерялся. И посмелее его люди поддаются панике, если ударить на них внезапно. Куда уж этому комедианту взяться за оружие против нас, а Тигеллин его знает только своих девок.
– Смелее! Человеку, не слишком энергичному, мало ли что кажется тяжелым не в подъем, покуда он не взялся за дело! А возьмешься, – так и увидишь, что многое в нем пойдет и сделается само собой.
По видимому, Пизон полагал, что, не называя Фения Руфа и других именитых заговорщиков, арестованные не выдадут и его, Пизона: по крайней мере, сторонникам открытого восстания пришлось теперь разубеждать своего вождя в этой наивной надежде. Ему говорили:
– Арестованы слишком многие. Не все же они герои и мученики! Один не устоит перед пыткой, другой – перед наградой. И кончится дело тем, что придут к тебе гвардейцы, наденут на тебя кандалы, и умрешь ты, казненный, – позорной смертью. Уж если умирать, так умирать с честью, защитником республики, с криком – «свобода’’! Ну, положим даже, что солдаты за тобой не пойдут, народ от тебя отступится, придется тебе умереть. Так, по крайней мере, хоть умри-то славной смертью, достойной твоих предков, примерной для потомков...
Пизон остался глух ко всем красноречивым увещаниям. Мало энергичный с самого начала заговора, более пловец по течению, чем борец против волн, недоверчивый к искренности своих сторонников, он принял катастрофу с глупой покорностью судьбе, как человек, которому вся эта революционная кутерьма до смерти надоела, и он рад отделаться от нее, – хотя бы даже стоимостью своей головы. Махнув рукой на заговор и свое претенденство, он отправился... гулять по улицам! Затем – никем нетронутый – спокойно возвратился в свой дворец; заперся в кабинете, написал завещание и – в одиночестве – стал ожидать смерти.
Странная прощальная прогулка Пизона – прямое доказательство, как правы были друзья, убеждавшие его не мямлить, но действовать. В то время, как второстепенных вожаков и участников революции хватают десятками, солдаты и сыщики врываются в дома, рыщут по улицам и площадям, берут кого и где попало, – Пизон, виновник смуты, имеет возможность безопасно ходить по главным улицам столицы, и никто из клевретов правящей власти не дерзает задержать его, наложить на него руку. Казалось бы, арестовать его следовало Нерону прежде всего и было важнее всего, а между тем, арестуют всех, только не Пизона. Очевидно, арестовать не «не хотели», но «не смели», – боялись, что римская улица втайне сочувствует Пизону и не даст его в обиду.
Растерянность оробевшей власти была так велика, что, когда Нерон приказал, наконец, прислать к Пизону отряд солдат, чтобы возвестить ему и привести в исполнение смертный приговор, то даже и это распоряжение приняло характер скорее пробы наудачу, чем решительного действия. Император не осмелился велеть: – Подите убейте Пизона! – старым солдатам своей гвардии, которые, однако, убили некогда, по его приказу, Суллу и Рубеллия Плавта и простили ему убийство Агриппины и Октавии. Он уже не верил своим преторианцам, боялся, что в среде их Пизон стал популярнее его, боялся, чтобы, вместо убийц, не доставить претенденту, преданного душой и телом, почетного караула. Поэтому против Пизона отправлена была сборная команда из новобранцев, вперемежку с солдатами недавних призывов. Живя в доме, огромном, как дворец, Пизон, конечно, легко мог бы отразить эту толпу, если бы хотел. Но ему все надоело, – опротивела и жизнь. Даже не подумав защищаться, он перерезал себе жилы на руках и истек кровью. Обнародование завещания, написанного им перед самоубийством, изумило Рим: излагая свою последнюю волю, Пизон гнуснейшим образом льстил своему сопернику и убийце – божественному цезарю Нерону. То была попытка – сохранить от конфискации хоть часть своих имений для овдовевшей Атрии Галлы, любовь к которой этот странный политический Обломов императорского Рима унес и за могилу.
Легкость, с какой удалось императору отделаться от Пизона, подняла дух неронианского двора и трибунала, орудовавшего во дворце Сервилиева парка, и открыла им глаза на истинное положение вещей. Нерон, повидимому, понял всю случайность своей победы и поторопился ее закрепить за собой, покуда заговорщики, оставшись без вождя, как овцы без пастыря, не успели опомниться и сгруппироваться около какого-либо нового избранника. Смерть Пизона открывает ряд казней.








