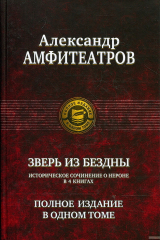
Текст книги "Зверь из бездны. Династия при смерти. Книги 1-4 (СИ)"
Автор книги: Александр Амфитеатров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 91 страниц)
Марта очень восторгается целебными советами, которые Сенека будто бы преподал хандрящему приятелю и родственнику в своем ответном трактате. Но, собственно говоря, последний не заключает в себе прямых и практически указаний, как побороть бессилие воли, и гораздо ценнее те части его, в которых Сенека мастерски, как глубокий художник-психолог, анализирует самое чувство сплина, терзающего душу Серена, и, судя по многим указаниям и намекам трактата, не его одну. Диагноз общественного недуга поставлен философом, действительно, гениально. С орлиной зоркостью усматривает он и ловит на лету мгновенные порывы этой беспочвенной тоски, этого «самоболения», чтобы потом описать их в стройной и меткой системе. Он создает поразительную картину дурных нравственных наслоений. Самонедовольство, отвращение к окружающей среде, бесхарактерные колебания из стороны в сторону души, лишенной привязанностей, но не чуждой сильных порывов, слагают мрачную атмосферу какой-то нетерпеливо мучительной праздности, накопляющей так много желаний, что, клубясь в беспорядочной давке, не находя себе выхода, они умирают, как бы задушенные одно другим. Глубокая меланхолия, томление духа – неразрывные спутники подобного душевного состояния – прерываются вспышками неустойчивой энергии, бросающей начатые дела, не кончив, надрывающейся в жалобах, что вот ни в чем-то не везет, ничего-то не удается. И вот человек начинает негодовать на свою судьбу, проклинать свой век, ожесточенно и сосредоточенно уходить в себя, обретает жестокое наслаждение растравлять свои душевные раны придирчивым и насмешливым самоанализом. Следующая ступень: человеку становится жаль себя, его стремление – бежать от себя, ослабить привередливые муки взыскательного самосознания. Он пускается в бесконечные путешествия, мыкает горе от берега к берегу, но горе-злосчастье бежит за ним, как верный спутник, и на море, и на суше. Переложив эти последние строки пушкинскими стихами, как не вспомнить тут:
Им овладело беспокойство,
Охота к перемене мест
(Весьма мучительное свойство,
Немногих добровольный крест.)
… … … … …
Он начал странствия без цели,
Доступный чувству одному
И путешествия ему,
Как все на свете, надоели.
И вот, наконец, пред нами странное и жалкое, изношенное существо, какой-то обглодок жизни: радости его не радуют, печали не печалят – он так развинтился и ослаб нравственно, что уже не в состоянии видеть себя самого в зеркале без дрожи отвращения. Ну, что же? Да здравствует самоубийство! Оно – исход из опостылевшего круга, где нет уже надежды найти хоть какую-нибудь новую черту. Влача безрадостное однообразие жизни, скучая несносным постоянством застывших рамок жизни, римские Чайльд– Гарольды восклицали:
– Как? всегда, всегда одно и то же? – с неменьшим упорством и с не менее трагическими интонациями, чем, восемнадцать веков спустя, «москвич в Гарольдовом плаще» декламировал свои красивые жалобы:
Зачем я пулей в грудь не ранен?
Зачем не хилый я старик,
Как этот бедный откупщик?
Зачем, как тульский заседатель,
Я не лежу в параличе?
Зачем не чувствую в плече
Хоть ревматизма? Ах, Создатель!
Я молод, жизнь во мне крепка;
Чего мне ждать? Тоска, тоска...
Любопытно, что, быть может, сходство между Онегиным и Аннэем Сереном не вовсе случайное. Говоря о классических знаниях А.С. Пушкина, принято брать на веру его собственные насмешливые отзывы о своем лицейском полуобразовании: «читал охотно Апулея, а Цицерона проклинал», «он знал довольно по– латыни, чтоб эпиграфы разбирать, потолковать об Ювенале, в конце письма поставить vale, да помнил, хоть не без греха, из Энеиды два стиха». Но мы не должны забывать, что этот классический полуневежда, еще в тридцатых годах, умел читать и понимать Тацита несравненно лучше, чем тридцать лет спустя, прочел и понял его знаменитый Кудрявцев. Пушкинский взгляд на Тиберия опередил на целую четверть века характеристику Штара и на сорок лет Сиверса и Германа Шиллера. Мы должны припомнить, что сюжет «Египетских ночей» найден Пушкиным в короткой, но энергической фразе Аврелия Виктора, а чтобы найти у Аврелия Виктора красивую энергическую фразу, надо иметь много терпения и опытности в обращении с его сухой латынью, – да и кто, кроме историков-специалистов, заглядывает в Аврелия Виктора? Знакомство с этим скучным и малодаровитым автором неинтересно и почти невозможно для дилетанта. Бесчисленное множество цитат, разбросанных по стихотворениям, письмам, дневнику, мелким статьям Пушкина, доказывают, что в области латинской лирики он был свой человек и, когда нуждался в классической справке, не подолгу рылся за ней по полкам своей библиотеки. Он любил и тонко понимал Овидия и подражал Горацию с совершенством и изящной свободой родственного таланта. Наконец знаменитый отрывок «Цезарь путешествовал» – начало рассказа о смерти Петрония – дышит таким исключительным проникновением в дух и быт римского общества в первый век империи, такой красивой и метко направленной античной правдой, каких не показывал ни один из романистов, писавших на античные сюжеты ни до, ни после Пушкина. Эта страница напоминает мозаики и фрески Помпеи, один день среди которых скажет внимательному и чуткому наблюдателю о быте древнего дачного города больше, чем можно извлечь из целой библиотеки исследований – фолиантов. Отрывок Пушкина, по красноречивой сжатости своей, достоин быть поставлен рядом с лучшими образцами латинской выразительной краткости. Тон, стиль, характер выдержаны с таким совершенным мастерством, что, если бы не имя Пушкина и не известность латинских авторов данной эпохи, отрывок можно было бы принять за перевод одного из них. Правда в дневнике Пушкина, – по поводу опечатки в латинской цитате шестой главы «Онегина», – имеется и такое признание: «С тех пор, как вышел из лицея, я не раскрывал латинской книги и совершенно забыл латинский язык. Жизнь коротка, перечитывать некогда», и пр., и пр. Если поэт написал эти автобиографические строки вполне искренно, то надо удивляться, во-первых, его изумительной памяти, полной верных и точных классических воспоминаний через четырнадцать лет по окончании лицейского курса. Во-вторых – совершенству, с каким в лицее преподавали древние языки, если даже посредственный ученик выходил из стен его с такими обширными и прочными знаниями. Вряд ли теперь, после тридцатилетней тирании мнимо-классической системы графа Д.А. Толстого, найдется в русских учебных заведениях юноша 16—17 лет, владеющий латинским языком настолько свободно, чтобы читать Апулея, да еще «охотно», рыться con amore в сухих рассказах Аврелия Виктора и т.п. Правда, впрочем, что именно господство названной системы и убило классические знания в русском интеллигентном обществе, загородив для несчастных питомцев своих Ходобаем и Курциусом весь чудный мир латинской и греческой поэзии. Больше того: сделав его, через тех же Ходобаев и Курциусов, противным и ненавистным и юношеству, и родителям юношества, и всякому сострадательному сердцу, хоть сколько-нибудь соприкасавшемуся с «плинфоделанием египетским», которое в гимназиях наших процветает под псевдонимом изучения древних языков»
Однако как бы ни была великолепна память Пушкина, как бы ни прекрасно учили лицеистов, но факт безошибочных цитат наизусть, четырнадцать лет спустя после знакомства с источником, довольно невероятен, и я позволяю себе думать, что фразу Пушкина об отвычке своей от латинской книги и языка надо принимать cum grano salis. С Сенекой Пушкин был несомненно знаком, и именно с трактатами, посвященными Серену. Диалог «De otio» отразился в романе Пушника даже прямой цитатой, с указанием источника:
Мы рождены, сказал Сенека,
Для пользы ближних и своей.
Да и вся эта строфа, выброшенная Пушкиным из текста восьмой главы романа, легко могла бы сойти за пересказ современным языком и в применении к современным понятиям и бытовым условиям тех строк диалога «De tranquillitate animi», где Сенека убеждает Серена лечиться от разочарования усердием к общественной деятельности, в какой бы то ни было форме, – ибо:
Блажен, кто понял голос строгий
Необходимости земной,
Кто в жизни шел большой дорогой,
Большой дорогой столбовой,
Кто цель имел и к ней стремился,
Кто знал, зачем он в свет родился,
И Богу душу передал,
Как откупщик иль генерал.
Затем следует уже приведенная цитата из Сенеки. Конечно, шутливый тон пушкинских стихов превращает заключенное в них нравоучение в пародию; но великий поэт наш никогда не чуждался пародии; из пародических затей возникли многие создания его гения. Пародия на «Двенадцать спящих дев» породила четвертую песнь «Руслана и Людмилы», пародия на «Лукрецию» Шекспира дала толчок к «Графу Нулину».
Целительная практическая мораль трактата, как уже замечено выше, невысокого уровня. За исключением практических паллиативов, применительных к правам и политическому строю века, ее легко уложить в короткий афоризм: покуда жизнь сколько-нибудь сносна, ее надо терпеть, а жизнь вовсе несносная не стоит, чтобы ей дорожили, и лекарство от нее в самоубийстве. Это – обычная панацея стоиков: устами того же Сенеки они настойчиво предлагали ее всякому, кто «мудр». И восторгаться, вместе с Марта, дидактическими находчивостями Сенеки тут, право, не от чего. Скорее надо согласиться с Гастоном Буасье, который, анализируя трактат «De tranquillitate animi», видит в нем не духовную, так сказать, аптеку, но свидетельство, что вопли Серена разбудили душевные раны самого Сенеки, и последний напрасно старается «на проклятые вопросы дать ответы нам прямые». Буасье справедливо замечает, что в письме своем ученик-племянник – маленькое зеркало для самого дяди-учителя. Серен выражается так же, как Сенека, любит, подобно ему, озадачить читателя смелой фразой, пикантным, словцом, не боится резких переходов от грубой обыденной прозы, от низменных понятий и выражений к самой приподнятой риторике, словом, у него манера и стиль Сенеки. Поневоле задаешься вопросом, – говорит Буасье, – не пошло ли подражание дальше внешности? Не от своего ли наставника заразился Серен противообщественным недугом сплина? Сенека превосходно рисует нравственное равновесие, которое противопоставляет, как желанный идеал, недугу воли, удручающему его конфидента. Но такое равновесие было самому ему вряд ли хорошо известно, при его беспокойном образе жизни. Да и этический метод его не таков, чтобы создавать из учеников людей уравновешенных. Сенека учитель благородных экстазов, искусный подчас воспламенить фанатика до готовности бестрепетно сложить голову за идею, но неспособный закалить питомцев своей морали в совершенном умении и привычке владеть собой, придать им ровную ясность духа и ума, то хладнокровие, то постоянство выдержки, которыми вооруженный человек остается верен себе во всяких обстоятельствах, не меняясь по их воле, но, обратно, их подчиняя своей. Пылкая и в высшей степени восприимчивая душа Аннэя Серена рекомендована нам из ряда вон впечатлительной самим же Сенекой в другом его трактате «De constantia sapientis». Но впечатлительности молодого офицера равна и его нравственная неустойчивость. Мы видим Серена то в высоком подъеме книжного благородства, то в низменном житейском падении, совсем недостойном не только философа, но даже просто порядочного человека. Он выходит из себя от благородного гнева и скорби при воспоминаниях об оскорблениях, отравивших жизнь любимцу стоиков, Катону, – и, по долгу службы, играет в истории с Актэ роль, только что не сводническую. Это необычайно чуткая впечатлительность к страданиям, так сказать, литературным, требующим для оценки своей усилий воображения, при полной моральной неразборчивости в фактах действительной жизни совершенно декадентская черта, и, притом, одна из опаснейших. Нерон был сантиментален, и бедствия театральных героев заставляли его плакать горькими слезами. Больше того: вернее будет сказать, что он вовсе не мог представить себе житейского несчастья, если оно не объяснялось литературной цитатой. Лишенный власти, преследуемый, вынужденный к самоубийству, он иллюстрировал греческими стихами и громкими театральными фразами решительно все моменты своего бегства и смертного часа.
История с Актэ, разумеется, не становится красивее от сопоставления ее с гамлетовской декламацией Серена в диалоге
«О спокойствии души». Напротив, и без того уже трагикомическая, фигура «рыцаря на час» делается еще курьезнее, когда мы вообразим, что свои красивые чувства и громкие фразы он, может быть, обдумывал и сочинял, сидя в какую-нибудь темную, скучную ночь у дверей своей мнимой любовницы, в качестве послушного Лепорелло при шаловливом цезаре Дон-Жуане. Удивительнее всего, что исполнение столь незавидных обязанностей уживалось в Серене не только с философским настроением, но и с большим личным самолюбием. Он был очень щекотлив в вопросах личной чести, дурно принимал обиды и злые шутки на свой счет, которых, по фальшивому своему положению, должен был выносить немало. Только что помянутый другой трактат Сенеки, из трех посвященных Серену, «О твердости мудрого» («De Constantia sapientis», что в точности можно передать словами, о выдержке характера), касается именно этой черты характера Серена. Он даже имеет другой, более интимный и выразительный подзаголовок «Ad Serenum nec injuriam nec contumeliam accipere sapientem», то есть «Наставление Серену, который не умеет считаться ни с обидами, ни с насмешками». Эта, по выражению Дидро, апология стоицизма близко сходится с современным учением о непротивлении злу и насмешливой теорией Шопенгауэра о рыцарской чести и ее щекотливых вопросах. Мораль здесь сводится к довольно дешевому утешению, что «мудрый оскорблен быть не может». «Мудрый или обращает поношения в шутку, или смотрит на людей, как врач на больных, и, что бы не случилось, всему противостоит спокойно».
Стоические ли утешения подействовали, классический ли девиз императорского двора, что «нет стыдного, когда велит цезарь», но со временем Серен примирился с своим двусмысленным жребием. Он живет в свое удовольствие, уже не помышляет о самоубийстве, служит, делает карьеру, философствует на досуге и, – судя по тому, что Сенека посвятил ему еще один, на этот раз, уже откровенно автобиографический, трактат «De otio», Серен даже выучился, если не действовать, то упрекать других в бездействии. В свое время я еще вернусь к трактату этому, необходимому в своде общей характеристики Сенеки. Здесь достаточно указать, что со времен трактата «De tranquillitate animi», учитель и ученик успели поменяться ролями. Серен зовет и ободряет, а Сенека отнекивается. Трактат «De otio» занят разбором и защитой прав трудящегося человека на отставку от карьеры, на уход от общественной деятельности, за усталостью. Назначение человека, – доказывает философ, – не ограничено только деятельным началом жизни: должно быть место и время и для начала созерцательного. Трактат написан Сенекой уже после добровольной отставки его от поста первого министра, которой стоическая партия двора, сената и знати была очень недовольна. Содержание трактата вежливо и твердо отвечает на дружеские упреки за отказ от полезной и важной службы, приносившей так много добра и отечеству, и партии. Лицом, которому пария поручила передать отставному вельможе лестные упреки эти, был именно Серен. Очевидно, он успел завоевать себе положение и почет среди стоической интеллигенции: одной родственной близости к Сенеке было, конечно, недостаточно, чтобы партия выбрала Серена своим глашатаем в столь важную минуту и по столь важному для ее существования вопросу. Тем более, что в составе партии имелся еще ближайший родственник Сенеки, к тому же человек крупного дарования, самый блестящий поэт эпохи, Марк Аннэй Лукан.
Успокоительные рассуждения Сенеки относятся к ранней молодости Серена. «De tranquilitate animi», – из первых трудов философа, по возвращении его императрицей Агриппиной из ссылки, что случилось в 49 году по Р. X. С годами, отбыв Sturm und Drang стоической юности, Серен, конечно не лез уже из кожи вон, слушая о неприятностях Катона, как случилось однажды в доброе студенческое время. Не порвав своих связей со стоиками, он в то же время умел остаться угодным двору. По крайней мере, даже когда Нерон стал уже коситься на стоиков, поссорился с Луканом, глухо враждовал с сенатской оппозицией и открыто разорвал добрые отношения с Тразеей, Серен все-таки не потерял его милости. Даже падение дяди министра не принесло ему вреда по службе. Напротив: тут-то вслед за смертью знаменитого Бурра – и попал Серен в римские обер-полицеймейстеры (praefectus vigilum), заместив в ней Тигеллина, назначенного одним из двух командиров гвардейского корпуса (praefectus praetorio). Если верить, вместе с Гиршфельдом, что Аннэй Серен, упоминаемый в 81-й эпиграмме VІІІ-й книги Марциала, не какой-либо другой одноименный нашему герою, – то придется отметить, что, вместе с полицейской службой, Серен заразился и типическими полицейскими пороками. Дело идет о привязанности некой Гелии к ее жемчугам: «Если бы ей бедняжке, случилось их потерять, так, по словам ее, она не проживет и часа». – Вот бы, насмешливо заключает Марциал, – где поработать руками Аннэя Серена! Фет и, следовательно, редактор его переводов Марциала, граф Олсуфьев, считают, что речь идет о каком-то знаменитом воре Марциаловой эпохи. Но, строго проверяющий свои тексты, Гиршфельд относит насмешку к Аннэю Серену, обер-полицеймейстеру. Превращение ученика стоиков в полицейского хапугу, конечно, совсем неожиданно и весьма мало последовательно. Однако, если вспомним, что и сам великий ментор Серена, Сенека, был не вполне чист на руку, то метаморфоза становится не так уже невероятной. Наслаждался своим полицейским благополучием Серен очень недолго. В конце 63-го года по Р. X. его уже не было в живых. Он умер смертью скоропостижной и вовсе не стоической: от несварения желудка, объевшись грибов за каким-то товарищеским полковым обедом. Отравление было массовое: кроме Серена, погибло несколько трибунов и центурионов. Чтобы, так сказать, добить поэзию философской легенды Серены, добросовестный старик Плиний сохранил и убийственно прозаическое название грибов, от которых он умер: suilli – свинухи. И что за удовольствие обращать в пищу столь сомнительное растение? – удивляется натуралист.
Саркастическая гримаса смерти Серена удивительно цельно дополняет и заключает обобщение его фигуры в историко-литературный тип. Как много Гамлетов кончили жизнь Фальстафами!.. Гениальнее прозрение заставило Пушкина прервать свой роман, как биографию Онегина, на полпути его жизни. Ведь, в будущем, нашего любимого героя почти наверное ждало бы самое грустное опошление. Разве, что какая-нибудь шальная пуля – на дуэли или в прибежище всех тогдашних разочарованных – кавказской войне – спасла бы его от жалкой судьбы, которую пуля самого Онегина отвела от его друга Ленского:
Прошли бы юношества лета,
В нем пыл души бы охладел,
Во многом он бы изменился,
Расстался б с музами, женился,
В деревне, счастлив и богат,
Носил бы стеганный халат,
Узнал бы жизнь на самом деле,
Подагру б в сорок лет имел,
Пил, ел, скучал, толстел, хирел
И, наконец, в своей постели,
Скончался б посреди детей.
Плаксивых баб и лекарей.
Именно по такому безжалостному, но верному рецепту окончил жизнь литературный внук Онегина Илья Ильич Обломов. Ничтожество его попусту размененной жизни не помешало, однако, сохранить к нему – до самых последних дней – самую пылкую и участливую дружбу таким умным, мыслящим и деятельным людям, как Штольц и Ольга. Пращур всех героев безволия, бедный Л. Аннэй Серен, также не был лишен дружеского утешения.
Привязанность к нему Сенеки осталась неизменной до самой смерти. Учитель горько оплакивал своего безвременном и бесполезно погибшего ученика. «Annaeum Serenum, carissinum mihi tam immodice flevi, ut, qood minime velim, inter exempla sim eorum, quos dolor vicit». (Я так неумеренно плакал об Аннэе Серене, друге моем милом, что мог бы, хотя совсем того не хочу, быть зачисленным в образцы того, как людей побеждает скорбь.) Память об их философской дружбе не умерла в потомстве. Еще тридцать лет спустя, о ней говорил с почтением и ставил ее в пример искренних человеческих отношений даже несмешливый и далеко не робкий пред авторитетами эпиграмматист Марциал. Хваля пред К. Овидием, добровольным эмигрантом нероновской эпохи, восковой бюст его друга, когда-то сосланного Нероном, Максима Цэзония, поэт начинает характеристику последнего стихами:
Вот он – могучий друг блестящего речью Сенеки,
Бывший ему ближе Кара, роднее Серена...
(Facundi Senecae potens amicus,
Caro proximus auf prior Sereno...)
II
Тацит, как большой аристократ, говорит о вольноотпущеннице Актэ очень презрительно: она для него – «бабенка», miliercula. Но, даже и при столь надменном освещении, образ Актэ – тень милая и симпатичная. Именно тень, потому что Актэ, – может быть, даже не собственное имя. Еще Тиллемон считал Актэ – вероятно нарицательным определением «вольноотпущенницы». Если бы это было так, то мы имели бы красивый символ женщины, олицетворившей собой положительные стороны целого класса: женскую демократическую мораль перед лицом аристократического мужского повелительства. Но – собственное ли имя Актэ, классовое ли прозвище (как имя Эпиктета), – во всяком случае, под этим именем, Нерону посчастливилось полюбить женщину очень хорошего сердца. Сам Тацит признает, что от Актэ никому не было обиды, и при дворе даже радовались этой связи, так как любовь к Актэ удерживала Нерона от преступных вторжений в лоно аристократических семейств, с их более, чем не строгими, – по крайней мере, в этом веке, матронами.
Надменное отношение Тацита к Актэ смутило некоторых историков думать и писать о ней гораздо хуже, чем она заслуживает. Между ними – наш Кудрявцев, всегда чересчур доверчивый к симпатиям и антипатиям Тацита. Герман Шиллер, так часто предостерегающий своего читателя против писателей, охочих вводить роман в историю и затемнять вымыслом факты, тем не менее сам сочинил, без всяких к тому данных, догадку, будто Нерон впоследствии отстранил от себя Актэ не за что другое, как за взятки. Гораздо более правдоподобны и доказательны характеристики Актэ французскими исследователями, с Э. Ренаном во главе. Из немцев им вторит Крейер.
Актэ любила Нерона с первой встречи до самой смерти. Уже отвергнутая им для других женщин, она все-таки оставалась вблизи его. Мы встречаем ее при Нероне в самые критические минуты его жизни. Когда императору грозит опасность или бесславие, Актэ является к нему добрым ангелом-хранителем, со смиренным, но смелым словом обличающей правды на устах. По-видимому, Нерон, даже утратив любовь к Актэ, сохранил к ней уважение и веру. Говорить ему правду в глаза осталось как бы нравственной привилегией Актэ. Когда партии Сенеки над было открыть государю глаза на какую-нибудь интригу, а ни у кого не хватало на то духа, подсылали к Нерону верную Актэ. Многие историки полагают, что Актэ была христианка, подтверждая свое мнение ссылкой на послание апостола Павла к филипнянам, в заключительных стихах которого апостол передает своим духовным детям привет от «святых из дома Цезаря». Апокрифические Деяния апостолов Петра и Павла также свидетельствуют, что апостол языков обратил к вере в Распятого одну из любовниц Нерона, и св. Иоанн Златоуст повторил это предание. Вряд ли, однако, апокриф имеет в ввиду Актэ. Последний исторический акт, в котором является ее имя, тому противоречит категорически. Дело в том, что впоследствии этой женщине выпала грустная радость воздать последние почести праху Нерона и зажечь его похоронный костер. Похороны Нерона обошлись Актэ в 200.000 сестерциев – 20.000 рублей. Сумма значительная, говорит о хорошем состоянии. Что Актэ не была брошена Нероном без средств, свидетельствуют, сверх того, многочисленные надгробные надписи ее рабов и рабынь, дошедшие до нашего века. Время сохранило могилы ее двух камердинеров, скорохода, пекаря, евнуха и греческой певицы. У нее были собственные виллы в Путеолах и Веллетри, от которых сохранились водопроводные трубы, с штемпелем – «Клавдия Актэ, вольноотпущенная Цезаря». Она имела кирпичные заводы в Сардинии, что доказывается найденными кирпичами, тоже заштемпелеванными с маркой. Актэ совершила погребение Нерона строго и благоговейно по ритуалу римской государственной религии. А ведь обряд учинен был над трупом человека, объявленного вне закона. Это отверженное тело Актэ могла бы похоронить по какому ей угодно обряду. Будь она христианкой, конечно, она похоронила бы прах любимого человека по тому обряду, который сама признавала, то есть по обряду иудейскому, как была погребена императрица Поппея. К ней, к слову сказать, некоторые (Бароний, Лун) тоже относили выше приведенные намеки апокрифических «Деяний». Затем: в этот период свой, христианство еще не выделилось в определенную и отграниченную от иудейства религиозную группу и представляло собой – а уж в особенности для римлян-то, которые, и пятьдесят лет спустя, в вероисповедных вопросах сиро-палестинского востока разбирались плохо, не более, как иудейскую секту. Если бы Актэ была христианкой, т.е. христиано-иудейкой, то, при ее влиянии на Нерона, вряд ли она, столь важная дворцовая сила, осталась бы не замеченной иудейскими посольствами к двору Нерона, историю и хлопоты которых рассказывает Иосиф Флавий. Он отметил всех юдофилов Рима, содействовавших ему, и, в том числе, именно «богобоязненную» Поппею Сабину и танцовщика Алитура (еврея родом). Но имени Актэ нет у него. Иудейской ненависти к новой христианской секте это умолчание никак нельзя приписать. Во– первых, потому, что у Иосифа Флавия ее, вообще еще не было, и, наоборот, впоследствии сочинения его были найдены даже удобными для интерполяций, выгодных христианству. Во-вторых, потому, что Иосиф Флавий был фарисей, а в фарисеях первобытное христианство, с ап. Павлом во главе, видело не гонителей своих, но скорее защитников против нетерпимости господствующего саддукейского духовенства.
С другой стороны, есть, пожалуй, слабые доводы и в пользу гипотезы о христианстве Актэ. Она была родом из Азии, края, с которым римские христиане имели чуть не ежедневные сношения. Не раз случалось, говорит Ренан, что прекрасные вольноотпущенницы – и как раз те самые, что наиболее были окружены поклонниками, – предавались всей душой восточным религиям: так, напр., Овидий, Проперций, фрески Помпеи равно свидетельствуют о значительном распространении в мирке этом культа Изиды. Самое имя Актэ близко к Акме (Накта, по-сирийски – «умница»), имени еврейки, влиятельнейшей вольноотпущенницы и камер-юнгферы двора Ливии Августы, о неудачных политических интригах которой в пользу иудейского принца Антинатра против отца его Ирода Великого рассказывает Иосиф Флавий в XVII книге «Иудейских Древностей». Затем – по-видимому, Актэ навсегда сохранила простые вкусы и никогда не покидала совершенно своего мирка дворцовых рабов, то есть именно того «дома Цезаря», о «святых» из которого говорит апостол. В надгробных надписях имя Актэ упоминается в сопровождении целого ряда имен христианского характера: Клавдия, Феликула, Стефан, Кресцент, Фебея, Онисим, Фалл, Артемас, Эльпис. Наконец, «фамилия» Аннэев, откуда вышла Актэ, по многим признакам, стояла близко к христианской общине, быть может, даже и к самому апостолу Павлу. Вольноотпущенники Аннэев, правда, много позже в III веке, носили имена обоих римских апостолов – и Петра, и Павла. Самого Сенеку многие считали тайным христианином, и существует целая литература по поводу этого романтического заблуждения, дошедшего до нас через средние века, от отцов церкви. Мы с ним еще встретимся в четвертом томе «Зверя из бездны», Когда христианство победило, торжествующая церковь с такой прямолинейной простотой и безапелляционностью зачеркнула возможность языческой нравственности, что все прошлое четырех веков, считая с начала христианства, резко разделилось на черное и белое. Если на черной половине замечались белые просветы и пятна, церковь, не задумываясь, объявляла их христианскими или стоявшими под влиянием христианства. Поэтому в церковной и зависимой от нее поэтической легенде оказались христианами не только Актэ, Поппея, Помпония, Грецина, Сервилия и Сенека, но даже Эпитект и сам Тацит.
Во всяком случае, была ли Актэ христианкой, нет ли, уже самое желание так многих, чтобы она была христианкой, доказывает, что милая девушка заслуживала чести быть в рядах лучший части современного ей человечества. В мрачной ночи жизни Нерона Актэ – единственный светлый луч, единственная нежная лирическая строфа в этой грозной, бурно-беспутной, беспредельно-декадентской поэме.
Доведавшись о романе императора, Агриппина взревновала сына до какого-то безумия. Она повела себя в отношении Нерона и Актэ – как отмечает Тацит – даже не по-женски, а по-бабьи (muliebriter). Кричала, что ее меняют на вольноотпущенницу! что не доставало только, чтобы Нерон дал ей в невестки дворовую девку! и тому подобные пошлости. Очень может быть, что – воздержись Агриппина от сцен грубой беспредметной ревности, Нерон позабавился бы хорошенькой Актэ неделю – другую, а там пресытился бы, заскучал и бросил надоевшую игрушку. Но препятствия разжигают страсть. Волнуемый медовым месяцем первой любви, император возмутился грубыми выходками матери до бешенства. Привязанность его к Актэ обострилась противодействием, в самом деле, до готовности жениться или, по крайней мере, до громких заявлений о такой готовности. Думать об ее осуществлении ведь возможно было бы только по разводе с Октавией, а до развода не допустили бы Нерона не только мать, но и Сенека с Бурром. Их мнение о необходимости для Нерона крепко держаться за клавдианскую фамилию и за «приданое» жены своей хорошо известно.
Сверх того брак, которым Нерон угрожал матери, был просто таки невозможен по легальным условиям римского семейного строя. Светоний, тоже упоминающий об этом романе Нерона, говорит о его брачных намерениях, как о величайшей нелепости: Acten libertam paulum afuit quin justo sibi matrimonio coninngere, summissis consularibus vins qui regio genere ortam perjurarent. Малого не достало, чтобы он женился законным браком на вольноотпущеннице Актэ, причем нашлись угодливые консуляры, которые клятвенно успели вывести для нее царскую родословную. Римский законный брак – дело веское, прочное, строгое и формальное – до такой степени, что как бы даже ледяное. Рим – государство с условной религией, предписывавшей обряды, но не требовавшей веры, и с основой семьи, браком, предписывавшим деторождение, но не требовавшим любви. Передовой, развитой, тонкий Сенека со спокойной совестью характеризует отношения римских законных супругов афоризмами, достойными Кабанихи в «Грозе» Островского: «Мудрец должен любить супругу свою по рассуждению о достоинствах ее, а не по чувству». «Нет ничего постыднее, как любить жену с такой страстью, будто она любовница (uxorem amare quasi adulteram)». Последний афоризм имеется в «Грозе» дословно.








