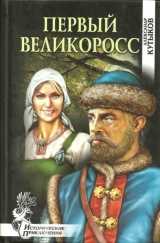
Текст книги "Первый великоросс (Роман)"
Автор книги: Александр Кутыков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц)
– Чего там у вас за разбойничий вертеп? – высунулась наконец она.
– Весь срам в одном месте собрался, – пожаловался Сыз.
– Очумелый Сыз дерется! – ответили одновременно Ярик и Птарь.
Дед, как на врага, посмотрел на Ярика:
– У-у-у, дундырь!..
К вечеру настроение поднялось. Все вели себя так, будто самое страшное уже произошло. Обложенное лапником гнездо заполнилось задолго до темна. Было немного тесновато, но поедаемая в непривычных количествах еда сгладила это неудобство. Лишь Стреша сидела какая-то вялая и болезненная. Тихо сетовала Гульне, что болит живот.
– Жри меньше! – ляпнул Ярик, но тут же понял, что сказал непутевое.
– Да она второй день еле волохается! Не то что кушать – головенку еле держит! – Гульна гладила распущенные черные волосы девочки. Картина ребятам не нравилась. Им было противно смотреть на поблекшую двоюродную сестру, которую мамка без конца лелеет. Паробки поглядывали на Светю и Сыза. Светя уже не слишком одобрял их выходки.
– Заночуете под деревом! – пообещал мальцам он.
Ребята отвернулись к Сызу: всклоченный дедок-раздевулье так и высекал из них улыбки. Стоило чуть дольше положенного Птарю посмотреть на Сыза, как тот резко и внятно произнес:
– Дундыря!
– Что ты заладил, дед? – поинтересовалась Гульна. – Откель слово такое?
Он молча завалился на бок и отвернулся. Полежав с минуту и постучав морщинистым, бородавчатым пальцем о дубовую ветвь, раздраженно пояснил:
– Дун-дун – дун-дырь!..
Было гораздо теплее, чем вчера. Кветень кончился. Начинался ласковый озеленитель и искуситель травень…
Утром разоспавшаяся семья просыпалась по очереди. Птарь вяло слез с дуба и, расстегивая порты, с полузакрытыми глазами направился в кусты.
– Поди в другое место, – сказала оттуда Гульна.
Малец, мало включаясь в утро, увидел растерянную Стрешку, повернулся на месте и тут же справил нужду. Полез обратно, цепляя локтями и коленками отдыхавших. Ярик спал. Снова заснул и Птарь.
Потревоженные Светя с Сызом медленно спустились вниз. Дед занялся костерком, а мужичок, захватив топорик, отправился за дровами. Вчерашние деревяшки, лежавшие возле кострища, здорово отсырели, требовались новые. Светя сбивал обухом сучья с нижних ветвей – там они сухие и ломкие – и слышал, как рядом прошли к костру Гульна со Стрешей. Женщина большой рукой прижимала голову девочки к себе.
– Чего это вас носит где? В другой стороне? – вспомнил вчерашнюю обиду едкий Сыз.
– За грибами ходили, – ответила женщина.
Сыз подумал: «И эта заразилась ребячьей забавой…» Высек на пушок старого птичьего гнезда пучок искорок, закрыл огонек руками, раздул, охнул. Хорошо, что сидел, а то от головокружения упал бы.
– Ну и нашли? Грибы-то где? Какие щас грибы? – представлял себя хозяином дед.
– Нашли… – Ответ был скорый и таинственный. Сыз боле не продолжал допрос. Поглядывал на девчушку: в ее лице и движениях появилось что-то совсем взрослое. Что – не понять. Гульна носится с ней уж чересчур…
Светя принес дрова. У костра делал их покороче. Обламывал руками – топорик жалел. Если зазубрится – надо будет точить: железу ущерб. В лесных ручьях есть руда, но мало. Придется идти дальше – к Дикому Полю. А лес сейчас залит водой истаявшего снега.
– Так, мужики, нам пора домой! – внезапно промолвила Гульна.
– Так пойдем! – мигом отозвался Светя.
Сыз, оставшийся как бы не у дел, хотел спросить: «Чего ж так сразу?» – но лишь встал и, что-то бубня, пошлепал в лес. Светя ни о чем не спрашивал. В молчаливых сборах он опять был главным.
– Не горюй, сына, все наладится! – подбодрила его чем-то успокоившаяся мать.
– Что мне горевать? Ко всему привык! – Он был задумчив, и оттого крепкие смуглые руки его двигались медленно. – Ма, скажи: верно, будто в городах люди что-то занятное делают? Взять хоть Поречный… Туда пойдут – одно, сюда – другое… А на отшибах – как наш – есть одна сторона на выбор, и та под нами. Топчись ногами да гляди под них – в свою единственную сторону… По реке мест таких, думаю, немало, где люди живут, как мы?
– Всяко живут… По-разному… Но знаю точно: в городе хуже, чем у нас.
– Да, я слышал от отца. Про тягло он говорил, про беду от несвободы и обузы всякой.
– Ох, сынок, не в тягле дело. Просто. – Гульна подбирала слово, но не находила его. В голове путался всякий сор. А она чувствовала, что сына что-то мучит. «Взрослый мужик… Тяжко сердешному… Терпит все, любимый…» – И она принялась перебирать отрывки речей Ходуни, Гарнца, Некоши.
– Съезжу… Хоть в Чернигов, хоть в Любеч… Вы из Киева уехали – значит, и мне туда дороги нет.
– В городе все из дружин: в одной – ратоборцы, в другой – кантюжники. Семьи там большущие – те же дружины они и есть.
– Чем плоха большая семья?
– Большая семья: сват, брат, деверь – дрягва…. Хуже не сыскать… Как на войне… Иные, я видела, мучаются, но куда им деться при том гнете, кой сущий там на всех?.. Нас Стрибог отнес сюда, и слава ему за это. И то, что ты у нас не ходун, – благо тебе и нам с тобою.
– Надо вырваться из всего, мама. Мне ведь двадцать седьмое лето наступает!..
Вот здесь матери трудно было ответить. Большой мужик киснет в глуши против естества!.. Да, были денечки, когда от травня до липня уходили они на молодецкие бесовские игрища. Каждый год такое случалось. Сначала ходили вдвоем, потом разошлись. Светя как-то не пошел, и отправился один Щек. Опасности на гулянках тех– бесовские. Всем верховодит некошный: бучи, сечи… «А Светька – мужик домашний…» – безошибочно чувствовала Гульна.
Ростана, хоть и сама неопределенная всю жизнь, за ребят тоже боялась. Предлагала ходоблуды в Поречный: и ближе, и безопасней, и круглый год… Но решали все парни сами.
Ходуня не поощрял паробков шастать в Поречный. Но, по прошествию лет, Щек изредка, когда жива еще была его мать, стал наведываться в теремок: приходил, разговаривал, ночевал, возвращался… Светя же и не помышлял расстраивать отца: в Поречный не совался. И со временем все реже и короче уходил к Днепру – искать коло Леля. «А этим годом с теплой порой уйдет…» – поняла мать.
Жизнь– бестолковая и неустроенная– немало тяготила и Светю, и Гульну. Мать много думала о счастье сына, однако выбора здесь, как Светя брякнул – на отшибе, – нет. Но чтобы произошло наконец то, о чем Гульна тайно грезила, надо держать Светю возле дома. Гульба вдали от своего двора под опекой бесов в любой момент может завершиться печально…
Проснувшимся ребятам Светя объявил, что решено возвратиться домой, и коротко ответил на их вопросы, которые продолжились и при ходьбе по частому лесу. К Свете вернулось хорошее настроение. Ребята чувствовали это и спрашивали много. Старший брат, забыв гадкого Остена, отвечал с прежним достоинством.
В полдень семья подошла к берегу напротив дома. Братья по реке ушли в трескучие заросли и занялись постройкой плотика, дабы переправить кого-то за лодкой. Гульна, девушка, Сыз уселись на бревнышко, вглядываясь в родное место и припоминая каждый свое.
Там, где река поворачивала, братья собрали слеги, лаги, надергали в сыром овражке молодых елочек, снесли все к самой воде и стали связывать пеньковыми, в мизинец толщиной, узами. Вязки делали большие, складывали их воедино и опять увязывали вместе. Когда кончилась веревка, Светя помог вызвавшимся плыть ребятам сесть верхом на гибкий плот и, отталкивая от берега, сказал:
– Как пристанете, тащите плот на берег – будут дрова. Если развяжется случаем, хватайтесь за любой пук и плывите. Головы повыше держите, друг друга не замайте и даже не ищите! – докрикивал уже подхваченным горбатившейся водой паробкам.
На глазах ждавших напротив дома, ребята вылетели из-за поворота на темно-зеленом плоте и, веселясь, пристали к своему берегу. Втянули плотик, взмахнули руками для маминого и Стрешкиного удовольствия, взяли из-под мостков лодку. Разгоняя посудину, оба шлепали по воде – что им, порты и так сырые! Прыгнули, залезли и погребли через реку. Светя хотел крикнуть, чтобы Птарь остался – второго дня лодка еле выдержала всех, но потом решил не шуметь лишний раз. Вели себя они тихо, помня о возможном нашествии диких гостей. Впрочем, Гульна, дернув за рукав, с чувством отчитала младшенького сынка:
– Гляди-ко на мужа матерого! Эва, сидишь мокрый-то! Шасть-шасть по воде за лодкой! Кто – одни ноги окунает, а этот весь уж там, и все идет! – Гульна резко толканула Птаря для науки и подняла глаза на затаившийся дом.
Переправились, прислушались, поднялись, оглянулись. Светя подсадил мокрого Птаря на тын. Тот ловко подтянулся и спрыгнул внутрь – открыть засов. Зашли в ворота – тишина. Куры заперты, свинки на месте, козы и овцы поедают в изобилии наваленные веники… Зашли в дом.
Посреди светлицы на скамье лежал мертвый Некоша. Аккуратно одет, белая простынь свалилась на пол. Руки раскинуты, глаза открыты. Подошли, осмотрели… Хозяйка без лишних слов приступила к последнему обряжению старика.
За городьбой собрали костер. Усадили труп. Под левую руку сложили немного съестного. Заточили нож и сунули в обшлаг правого рукава. Короткое копье острием выставили над головой. В карманы набили земли со двора. Все это, вместе с Некошей, сожгли. Действом заправлял Сыз. Золу, которую не подхватил вольный ветер и не раскидал окрест – по берегу, по полю, по Десне, по-над домом, – собрали в горшочек и понесли на капище. Сыз по старости не пошел.
* * *
…До капища путь неблизкий. Через рощу, по местам тихим и почти безлюдным.
В реденьком леске, хранившем одиночные избы, кои в большинстве своем пустовали до веселых гулянок, находился каменисто-песчаный холм. Он желтел на фоне зеленых деревьев и салатовых лужаек.
Негустой, прозрачный перелесок был мало исхожен людьми и зверями. Все из-за того, что хорошо сохранял влагу. В ямках блестел ил наподобие речного. Когда на него ступали, он хлюпал и хватал за ноги.
Местные жители рассказывали наведывавшейся сюда каждый год молодежи сказку про то, что раньше тут был лес – как лес: лоси, туры, медведи, зайцев тьма… Но пришли однажды волхвы и стали зазывать народ помочь им установить истуканы всемогущих богов.
Стянулся люд к уважаемым гостям, слушали речи их мудрые и внятные. Колдуны поведали, что ворожба им, мол, подсказала сие место, сюда и пожаловали они волей рока по звездами указанному пути.
Мудрецам не верить грешно и не откажешь в помощи. И народ – весь, что собрался, целый день рубил, строгал, сек, мазал, обжигал, смолил… Установили полторы дюжины головищ на столбцах больших и малых.
Волхвы, утихнув в причитаниях и немых упованиях, ушли. Местные тоже подались по домам. Ночью же обитатели того леса все время ощущали качание и уклонение земли: дома словно плавали на ней, шаткой.
Утром, встав, обнаружили перепуганные люди, что земля окрест небольшого ранее возвышения опустилась, выделив для пущего огляда божественный холм. Некоторые дома вдруг оказались совсем в низинах и затопились водой. Жители тех жилищ покинули кров и удалились, стремясь забыть поскорее невиданное досель ужасное диво. По легенде – то все были сплошь лукавцы, и капище не потерпело их присутствия.
Верующие, что приходили в этот лесок, и взаправду подмечали в местных жителях бесхитростность, простоту, удивительную откровенность. Будто другой народ, ни на кого не похожий норовом своим. И животные поспешили покинуть переменившиеся места. Одним словом, здесь все было, как в дреме. Суровые, въедливые взгляды истуканов, оставшихся единственными обитателями леска, полновластно господствовали тут. Казалось, идолы гонят прочь всех, кто на них не смотрит и о них не думает. Увлечься заботами жизни своей под наблюдением строгих богов было невозможно.
Перунов лес отстоял от Ходуниного двора аккурат на полпути до Поречного. В сторону капища по дороге не имелось ни одного дома. Лишь спрятавшиеся где-то птички подавали скромные голоса. Иногда на самом капище можно было встретить народ из округи. Но начнется здесь скоро другое дело. Стянутся сюда на лето молодецкие ватаги: разношерстные и лоботряные. Настоящие же верующие посещали идолов круглый год: и в зимние праздники – Хорса, Велеса, и в летние – Купалы, Ярилы и снова Велеса – летнего…
Подошли к горе с остроликими богами. Гульна сразу же заговорила с ними быстрым речитативом – с надрывным трепетом, с придыханием и с упрямой верой. Ее состояние передалась всем, кто стоял за нею. У Свети по коже побежала дрожь. Стреша, не дыша, внимательно слушала, что говорит Гульна. А та поднималась по склону дальше и выше, слова расплывались, превращаясь в тишине редколесья в музыку. Девушка пошла за ней, держась на расстоянии, чтобы только речь просящей сделалась понятной. Вникала в мудреные, прекрасные, сильные словеса, чувствуя, как через живот приятным теплом все тело от маковки до пят наливается негой и благостью. Она чуть не упала, зачарованная.
Светя дивился разности лиц болванов, шарахаясь по склонам боле из любопытства. Он и во время прежних хождений тут ощущал, что полностью поглощается ровными думами, которые ни о чем и обо всем понятном, предельно ясном. Такие мысли за пределами Перунова леса его не посещали. Обрядов он не знал да и не хотел, но на капище ходить не отказывался. Тяга.
Подошел к матери. Та полулежала на боку возле статуи Мора и запросто с ним разговаривала, объясняя все самое-самое хорошее про Некошу. Светя улыбнулся и отвернулся глянуть на ребят.
О, боги! Паробки смеялись над истуканами! Ярик пытался влезть на столб – Птарь попросил проверить возгрю в носу идола. Мать ничего не замечала, полностью отдавшись беседе.
– Мама, приструнить их?
– Боги не глупы – разумеют. Обижать детей не станут. Ребята вырастут и поймут. Покаются за грех.
– А если не поймут и не станут каяться?
– Накажут… Коль хорошее будет невдомек, бобыня найдет миг, чтоб богов им вспомянуть. Но не сейчас, сын, – когда вырастут.
– Гляди – уже наказал!
Ярик не долез до верхушки, где красовалась гордая голова внимательного идола. Измазался в бурой смоле и, озираясь на взрослых, поспешно сполз. Грязный, ни за что не взяться – все липнет!.. Птарь сбежал от него. Извазюканный парень принялся с тщанием оттираться травой.
– Нужно другое рубище, мать. Видно, это уже не оттереть, – предположил Светя, вставая перед Гульной и заслоняя удрученного Ярика.
– Видишь, наказал взрослых, нас… Эх, знать бы – рубу поплоше ему дала.
Стреша улыбалась, глядя сверху на ребят. Гульна взяла девицу за плечи и повела куда-то.
Светя пошел к вершине. Там высился Перун. «Страшный, неприятный, суровый, неродной – а на самой что ни на есть высоте! Чужой… То ли дело – Световид четырехликий: непонятный, разный, притягательный, щедрый, а стоит с большим требищем пониже…» – заключил осмотр Светя.
А Гульна подвела Стрешу к странному столцу. На его вершине была высечена бабья голова с большими глазами, на теле-столбе – еще три лика с большими губами. Гульна погладила рукой истуканшу и сказала:
– Вот, Ляля, Ладина моя. Ляля, зажги ее сердце, остуди маковку, вяжи крепко ужищами, чтоб меч холодный их не сек, держи ее путами тугими и вящими с нашим Полелем!..
Девушка испугалась немного. Ворожба какая-то непонятная… Все помутилось в сердце и в мыслях ее.
– Ступай, дочка…
Девушка спустилась с холма и подошла к ребятам. Им уже все тут надоело. Один грязней другого, от просмоленных столбцов неотличимые… Хотела помочь Ярику. Достала из кармана тряпочку, которых дома надавала ей Гульна, и принялась было тереть, но парень отпихнул ее:
– Уйди, дура! На тебе! – Он грязным рукавом мазнул ее по лицу. Нос и щека прелестницы тоже украсились смолой.
– Ну, держись! – Девка плечом прыгнула на Ярика, свалила с ног и, вцепившись в слипшиеся патлы, принялась волтузить чумазое лицо по земле. Брат сего не ожидал, но развеселился и выкрикнул:
– Эх, девка, не повезло тебе! Щас будешь горько плакать!
Однако слишком сопротивляться не спешил. А тут подбежавший Птарь сбил сестру наземь…
* * *
Проснувшийся Щек долго никак не мог понять, где находится. Нудила тупая, гудящая боль, подергивая распухшие пальцы пробитой ноги. В глазах стояла ужасная картина вчерашнего боя, в ушах до сих пор отчетливо скрипели похоронные возки. Нет больше Малка… О, ужас!.. «Никто, кроме меня, из знавших его не ведает о смерти братца… А ведь не пересядь мы, возможно, он был бы жив, а я… Нет, я не могу умереть так рано… Сколь же годов было Малку?..»
Щек начал вспоминать. Если ему двадцать шесть, двадцать седьмой, а они со Светей годки, то про Малка разговор был, что он в половину младше Свети. Старики так и гуторили: «От старшего до малого веревочка с узлами. Кажен узел – то годок. Яичко с первым узелком – Птарь, дальше пустой узелок, дальше Ярик, дальше пусто, дальше Малк…» Ногтями скребя возле раны, Щек поминал стариков, считая года братьев. «По Светиной верви – от рождения на половинке яичко Малка держалось. Стало быть, Светя тогда был старше Малка на всю жизнь мальца… Недолгую жизнь… Когда ж разговор велся? В последний год жизни Ходуни – значит, два года тому минуло…»
Из комнаты, где вчера довелось мыться, Щек услыхал шум льющейся воды, стук деревянных бочек. Он встал и направился туда. В щелку усмотрел, как хозяева из опрокинутой бочки достали огромную, напитавшуюся квасами шкуру и пытались один край ее перекинуть через палку. В открытых оконцах комнаты светились остатки киевского дня. «Ба, еще ж вечер, но хорошо что встал!..»
Хозяин, хозяйка, три их дочки в исподнем, видимо, наверстывая не сделанную из-за битвы работу, облитые водой и квасцами, волохались со шкурой. Намокшие кремового цвета рубы туго обтягивали сластные формы баб и девок. «Маманя стара и слишком добра, а эти – хороши!» – отметил мужик. Айкали, ойкали девки – старались… Светло-коричневые груди с сосцами, ягодицы и бедра так и перекатывались под мокрыми рубахами. Молодухи сгибались, садились, дотягивались…
Не смея зреть такой блазн, Щек бесшумно похромал на улицу, вспоминая, где выход. Не отходя далеко от двери, справил надобность и вернулся в постелю.
«Хороши те, грудастые! И малышка лепа: власья – как у мокрой выдры прилизаны и блестят, летним дождиком переливаются; от грудок – одни пупыри…»
Мужик отвернулся, будто спит, но увиденное стояло перед глазами. Переключил скорей мысли на подсчет возраста братьев. «Два года назад, за год до смерти Ходуня, Свете было двадцать четыре. Малку двенадцать… Молодец Некоша, что веревочки узлил… Значит, сейчас нам со Светей по двадцать шесть, а Малкуне-покойнику, прими его Мать-Земля-сырая, четырнадцать. Ярику двенадцать. Птарю десять. А Стрешка, вроде, ровня Ярику…» Снова вспомнились тугие бедра под мокрыми одежами и, забыв про тянущую ногу, Щек незаметно заснул.
…Снилось гулянье в ночь Купалы. Девицы заглядывали ему в лицо, говорили, говорили, щебетали… Парней не было – одни девки да бабы. Смысл напеваемых ими речений не ухватывался. Среди звуков особенно сильно настораживала невесть как проникавшая через гомон тишь… Вроде, за деревьями стоял мужик спиной к ним. Почему-то Щеку казалось, что тот слушает его веселые разговоры с девками А бабы этого призрака в мужском образе не замечали и лезли, лезли, приставали, ждали ответа мужского. Красивые все, как одна, и жались только к Щеку!.. А он пошел мимо дымных костров в тишь к мужику.
Дошел. Тот обернулся. Малк. Статный, с мужественным лицом. И он проговорил: «Остен – хороший, а ты меня перехитрил…»
Щек проснулся. За столом сидел Пламен и что-то мастерил. Пахло гарью – видно, от сального фитиля… Пламен походил на Некошу: тоже ночью не спит дедок… Щек чувстввовал себя болезненно. Изнутри не отпускал нервный мандраж. «Верно, все от сна дурного…» Раздавшаяся нога после эдакого сна страшила. Настроение – муторное. Хоть плачь…
– Как нога? – заметил его пробуждение Пламен.
– Отекла. Днем посмотрю. Батя, где воды испить – сухо внутри.
– Сейчас подам, лежи.
– Нет, я сам. Все равно мне надо.
– Попей там, а по нужде щас проведу.
Выпил пол-ендовы воды и пошел за стариком.
– Сколько тебе годов, батя? – неожиданно для себя спросил Щек, видать, не успокоившись от вчерашних подсчетов.
– Лет пятьдесят живу. Я не считаю в точности.
Прошли мимо женской спальни. «Как тихо спят бабы», – подметил мужик и оступился на больную ногу. Рука уперлась в стену.
– Надысь, дочек твоих видел, иль кого? – спросил Щек.
– Одна – жена, другие – дочки. Три.
– Мужи-то на рати, аль не мужние? – Щек встал в указанный угол, но нужда прошла – обманулся по нездоровью.
– Одна – мужняя, средняя коя. А две нет. Бери, хошь, младшую – ей уже срок.
Щек молчал. Темнота, лица деда не видно. Вернулись к лампадке, и когда красноватый свет упал на лицо старика, Щек спросил:
– А ей сколь лет?
– Не знаю. Пора уже… – Потом, покумекав и вдумчиво растерев ладонью плечо, сказал: – Четырнадцать, вроде того. Про деда твоего я слышал, а отец-мать есть?
– Нету.
– Оставайся тогда здесь, – предложил Пламен, будто вопрос – и не вопрос вовсе.
– А зять где? – Мужика потянула эта тема. Да и хозяин охочий до разговоров… Щек подумал еще: «Все тут, в Киеве, будущих зятьков жалуют, или это я ему так понравился, что с налету решил сосватать мне свою дщерь?»
– Мужик ушел со Святославом, а она бездетная, и не получается у ней ничего.
– У меня там семья брата, могу туда забрать.
– Как знаешь… Уйдут окаянные и езжайте…
Пламен на копылах плел лапоточки для ходьбы по дому и совсем не глядел на гостя. Щек похромал ложиться.
– А нога заживет твоя…
Но ногу стало дергать. Щек лег и попробовал считать точно размеренные по времени рывки боли. От этого они утихали, будто зная предел известного Щеку счета.
Однако до рассвета уснуть не удалось. Боль с чего-то переместилась в живот. Мужик опять поднялся и сел за стол. Тревожные думы завладели им. Беспокоился, как отвечать перед Гульной будет. Неизбежен ее немой укор в его адрес за смерть Малка. Но ему не в чем винить себя… Сон еще дурной какой-то. «А, пес со всем этим! Лучше быть с упреком от родных, чем вошкаться по безлюдью!.. Смерти Малка я не смог бы избежать – тут, видно, так ему на роду написано было. Ехали мы в толпе своих, в самой гуще. В лоб стрелы летели. А когда к воротам повернули, в спины они понеслись. Под смертью я стоял не мене братца…» Дальше он вспомнил Остена, рыжего Хорсушку, все, сжавшее зубы, ополчение их. Подивился, сколько защитников в самом Киеве. «А сколь печенегов в поле намчало?! Тмутаракань несусветная, страшная!..»
Щек никогда бы не смог представить себе такого количества народа. Потому решил, если позволит нога, сходить на заборола и подивиться. Радовала догадка, что можно теперь не воевать в поле, а такие стены выдержат любого ворога. «Надо потрогать, из чего они сделаны, – вроде как камень?.. Приеду – расскажу своим про все…» И снова вспомнил Гульну со Светей. И не мог отделаться от чувства вины перед ними… Потом вдруг вспомнилось, что Гульна не раз намекала на Стрешу, как на невесту. «Небось, Светьке ее сватает… Почему я не хочу ей такого мужа? С чего ни взять – отовсюду мужик хороший, гладкий. И мамка его из всех выделяет, будто он ей родней остальных… Не хочу, чтоб она моею Стрешкою дела Светькины вершила!..» Щек припомнил, что сестренка – самый родной ему человек на белом свете.
Послышалось шевеление в женской спальне. Светало. Мимо заходили женщины. Расшумелись. Топилась печь, по ней звучно двигались горшки с кашей и взваром.
Старшие сестры, проходя мимо мужика, подолгу в упор глядели на него, громко разговаривая меж собой. Он вспоминал их ночных – в мокрых рубахах до колен – невольно переводя взгляд на срезы подолов. «Первая – какая-то странная: с прогибом в стати, но уверенная. А вторая – ничего себе, красивая. И икры колобочками – прям на загляденье… Муж где-то есть…»
– Ухаживай за женихом! – смеялась та, обращаясь к младшей.
Младшая, ничуть не стесняясь, подошла к мужику, кивнула на раненую ногу и сказала, глянув на сестер:
– Покушаем, попьем яблочного взвару и будем ногу вашу смотреть.
– А-а… – протянул Щек, смутившись от ее внимания. Глянул на стол и вновь на девушку.
– Вы не бойтесь, меня мама научила: я из сестер самая ловкая по болячкам.
Средняя засмеялась, а старшая покосилась на Щеково стегно.
– У нас дома из яблок тоже квас делают… И из ягод всяких… Но яблоки рядом не растут: надо к Перунову лесу идти… – разговорился Щек.
– Это далеко? – Подошла чуть не вплотную средняя.
– Вас как зовут? – перехватила его младшая, но средняя не осердилась, а старшая с матерью обернулись к гостю.
– Щеком.
Женская часть семьи разулыбалась.
– Очень хорошо. Кто же тебя так назвал? – Средняя стояла с миской и, спрашивая, мешала жиденькое тесто.
– Не помню, с рождения нарекли.
Засмеялись все.
– Вот это Папуша, – младшая показывала на среднюю, – это Хижа, – кивнула на старшую, и та отвернулась, – а маму нашу мы так и зовем мамкой. Меня кличут Длесей.
Щек постарался запомнить, чтоб не попутать невзначай. Впрочем, главное он выделил сразу: Длеся.
Странно оборачивалось все – на дрему походило. «Прямо какая-то стремнина моей жизни… А мне нравится!.. Если б не нога еще…»
Вспомнился один из их стариков: проткнув каким-то остнем пяту, он малость помучился да и помер.
– Сильно болит? – Девушка села на корточки подле мужика.
– Нет, уже забыл. Мне бы умыться.
– Пойдемте, я солью! – Радостно подскочила Длеся и кинулась в рабочую половину, где стояли очеп и вода. Гость пошел за ней. Умываясь, он спросил:
– Жив буду, поедешь со мной на Десну?
– А там страшно, волки есть?
– Волки есть, на брата раз напали… Но мы их не боимся! Скорей, они нас.
– Страшно… – ответила девица, не сводя глаз со Щека. Предложение взрослого мужчины ей понравилось. И сам он был ей по нраву: на вид – лесной, грубо одет, но глаза скорые и внимательные.
– Надо мамке с тятей сказать. Они меня очень любят.
– А старшую, Хижу, тоже любят?
– Тихо! Она не такая, как все. Колдушка!.. Девкой была очень веселой, а потом, вроде, на кого-то обиделась. Мы ничего не понимаем. Только знаем, что она очень странная: может хоть бабе, хоть мужику за одно словесо в харю заехать когтищами! – быстрым шепотом доложила девушка.
Щек, покончив с умыванием, молча наблюдал, как вода утекает по желобу под стену.
– На улицу течет?
– Пойдемте к столу. Зовут нас уже… – словно не расслышала вопрос Длеся.
На столе стоял горшок с гречневой кашей. В нее матушка засыпала смесь всяких сухих ягод и размешивала теперь все большой ложкой. Ягодки умягчались и пухли. Запах гречи не перебивали, зато смотрелось варево весьма вкусно. Рядом высилась стопка горячих овсяных лепешек и братина с заваренным из тех же самых ягод питьем.
К столу, покачиваясь и потирая плечо ладонью, вышел проснувшийся Пламен. Девчата разом замолчали, мать подвинулась на скамье. Хозяин сел и посмотрел лукавым взглядом на Щека и младшую дочь. Длеся потупилась, а Щек запросто спросил:
– Как спал-ночевал, батя?
Мать молча наложила кашу мужу. Сестры с прямыми спинами быстро кушали.
– Спал хорошо, щас поем и снова лягу.
– Дремотное лекарство – лучше всего, – рассудительно просопел над кашей Пламен.
– Не похоже, чтоб за стенами стая поганых стояла. Вы такие спокойные.
– Да они часто гостюют. Другой раз – прям под стенами шастают. Привыкли мы… – сообщила хозяйка.
– Что ж войско их не побьет?
– Они могут и мирно жить у себя в степях, а сюда по делам захаживают – с посольством и торгом. Ты не беспокойся, парень-друже, наши договорятся с ними, они и уйдут… – сообщил Пламен. – Правда, на сей раз много их что-то, крепко взялись.
– Выходит, мы зазря сюда мчались опрометью? Зачем нас собирали? Малк погиб пошто?
– Сейчас, сынок, проясню тебе всю твою еловую голову…
Щек очень обиделся на оскорбление, но вида не подал. Черпали кружками из братины взвар. Старшие сестры ушли, поблагодарив. Любопытная младшая слушала.
– Эти чертяки свое дело знают туго. Видно, там, откуда они явились, их хорошо научили, как договариваться и хитрить…
Мать стала собирать посуду. Подошла и Папуша, Глянула на мужиковатое, мясистое лицо гостя.
– …Умеют они, когда надо, сидеть спокойно, а когда надо – нежданно напасть! – объяснял неторопко хозяин, поглядывая на остановившуюся среднюю дочь. – У князя нашего, кстати, их в войске полно. Пока сильны мы, ведут они себя терпимо. А стоит остаться нам без дружины – сразу вспоминают давние и ближние обиды – и на осаду. Станут кружком и стоят, по сторонам озираясь.
– Видать, в сей раз вспомнили они многое? – осведомился Щек, разминая пальцами затекшее колено.
– Как бы там ни было, а ноне их полная степь. Надо ж как расплодились, собаки туземные!
– Что ж не побьет их князь? Позвал бы всю землю, пришли бы гуртом – никому не милы степняки.
– Некошный нашим князьям на ухо рясу ляпает, оттого и уши ихние неймут правде. Кривдой ведомы передние человеци, и Игорь был, и Святослав… До конца дело не доведут – о пустом все боле мыслят.
– Может, выгода здесь какая-то? – начал разбираться в большом деле Щек.
– Нет тут выгоды! Поначалу – недосуг, опосля – уже поздно… Токмо юли с ними, числом вели-ми. Они – от стен наших и до самого синего моря. Все, сынок, скоро внуки мои, если родятся, будут скакать по степи, как додоны… Забирай Длесю и в лес свой еловый ехай.
– Что ты пристал к парню? – донесся откуда-то голос матери.
– Почему они не рвутся в город-то? – вопросил гость.
– Рвутся каждый день. Для испуга огнь мечут, стрелы, никого не пускают – ни туда, ни сюда. На стенах люди гибнут. А они ждут от Ольги и горы что-нибудь себе послаще, посдобнее… А землю на помощь собирали – в торге этом нам корысть.
– В каком торге, батя? – все понял мужик и обвил голову руками.
– Не удивлюсь, сыне, что после вашей помощи наши мужи высокие без мечей вострых и стрел каленых отгонят собак в степь!.. Из-за вас, родимые, им нет ноне выгоды.
Днем Щек никуда не пошел. В городе было спокойно. Милашка Длеся сделала перевязку, лепетала, волхвовала. Приятно… Мужик, углядев молодую грудку под рубахой, положил руку на пшеничные волосы голубоглазой девушки. Она сказала: «Ну, потом…» «Когда?» – воспылал Щек и понял, что уже женат на девчонке. Длеся ничего не ответила, собрала лоскуты с сукровицей и направилась в ремесленное помещение – на помощь семье.
За обедом, когда расселись, Щек вспомнил о жите в своей калите:
– У меня, матушка, вам подарок…
Он вышел из-за стола. В верхней своей одежде, сложенной подле постели, нашел котомку и стал на стол выкладывать сухую рыбу. На полке увидал сухой горшок, ссыпал в него зерно. Плат стряхнул и протянул хозяйке.
– Вот, матушка, тебе покрывало. Носи не снашивай – доколь жива.
– Спаси боги тебя и твой род, сынок…
Она гладила пальцами плат. Тот был груб и шершав, но женщина радовалась. Очень. Папуша с Хижой глаз не сводили с парня.






