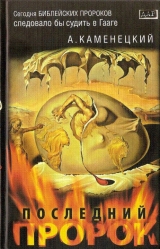
Текст книги "Последний пророк"
Автор книги: Александр Каменецкий
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 29 страниц)
– Читаете мысли? Буквально час назад шеф отправил меня в отпуск. Такое совпадение.
– Бедный, я вам не даю отдыхать! Вы, наверное, уже видеть компьютеры не можете.
– Примерно так, – уныло согласился я. – И компьютеры, и Москву.
– Тогда берите жену, дочку и поезжайте к морю! Машеньке тоже нужна разрядка. И она непременно должна побыть с родителями, со своей семьей.
– Надо бы поехать… В какое-нибудь дикое местечко, где нет этих огромных гостиниц, туристов, дискотек… Тринидад и Тобаго, например. Или в амазонские джунгли…
– Где много диких обезьян…
– Вот-вот. На необитаемый остров. Интересно, где можно достать путевку на необитаемый остров? Чтобы, кроме нас, там жил только Кинг-Конг.
– Любите экзотику? – глянула она на меня с одобрением.
– Скорее всего.
– А точнее?
– Просто нигде ее не встречал. Египетские пирамиды – это разве экзотика? Смотрятся как голливудские декорации. Не хватает только Элизабет Тейлор в роли Клеопатры.
– Поезжайте в Индию.
– Вот уж спасибо! Моя супруга учится в школе йоги, и в прошлом году их гуру побывал в Индии. Сбылась мечта идиота. И подцепил там жуткую дизентерию. Медитировал в туалете до конца тура. Даже из гостиницы не вышел.
– Ох эти русские йоги, – улыбнулась балерина. – Я вам другую историю расскажу. Один мой приятель начитался Хемингуэя и поехал в Испанию. Там, знаете, перед корридой по улице гонят быков, а народ их дразнит. Так вот, его укусил бык. Не забодал, а именно укусил! Представляете? Этот анекдот, наверное, до сих пор гуляет по Барселоне.
Я взглянул на монитор:
– Готово. Получите и распишитесь.
– Огромное вам спасибо! – Она снова протянула мне руку. Я собирался ее поцеловать, но все-таки пожал.
– Не за что.
– Дадите мне когда-нибудь пару уроков?
– С удовольствием. Она посмотрела на часы:
– Сейчас будет звонок. Кстати, у меня есть для вас одна идея. Насчет отдыха.
– А именно?
– Отец моего мужа владеет сетью отелей в Хаммарате. Очень симпатичное место, Средиземное море, тихо, уютно. И очень мало туристов. Вам понравится.
– Это где – Хаммарат? – С географией у меня всегда были большие проблемы.
– Северная Африка. Там пять лет назад сменилось правительство, ну, вы понимаете, возникли свои сложности. Теперь все в полном порядке, но турагентства не хотят рисковать. И совершенно напрасно. Сервис на европейском уровне, отличный климат, масса достопримечательностей. Есть на что посмотреть. Мы каждый год ездим туда отдыхать и очень довольны. Я всех знакомых агитирую за Хаммарат.
– Надо же поднимать экономику Северной Африки, – съязвил я.
– Вы напрасно так, – укоризненно возразила Ариадна Ильинична. – Я никогда не советую того, в чем сама не уверена на сто процентов. Если соберетесь, я позвоню тестю, и он вас прекрасно устроит со скидкой. Или вообще бесплатно.
– Хорошо, буду иметь в виду, – ответил я, и тут загремел звонок.
Настоящий, колокольно-пулеметный звонок, от которого дрожат стены и рвется наружу в экстазе школьная душа. Я его не слышал с незапамятных времен. Раскатистое эхо конницей пронеслось по коридорам. В нем можно было различить звон подков и шпор. Следом за тем по паркету застучали бескаблучные пятки – освободившиеся балерины сразу перешли в галоп. Дверь распахнулась, и мой зверек прямо с порога метнулся мне на шею: «Папа-а!» Маленькая, юркая, как ящерица, тяжеленькая, потная, с уже заметной округлой попкой и соломенной короткой трогательной косицей – моя дочь. Ткнулась мне в глаз мягкими губами: «Привет!»
– Соскучился, Еж?
Я ее называю Ежом. Может, и не очень хорошо для девочки, но нам обоим нравится.
– Соскучился ужасно!
– Тогда быстренько переоделся – и вперед! – с удовольствием командую я. – Сегодня у нас День исполнения желаний.
– А куда вы с папой пойдете? – педагогически тонко вставила Ариадна Ильинична.
– В зоопарк! – не задумываясь ответило дитя.
– Все, давай, жду, – сказал я и подтолкнул Машку к выходу.
– Приятно было познакомиться. – Балерина встала. – И огромное спасибо за ремонт. Передайте Татьяне Павловне, у нее замечательный муж. '
– Хорошо, передам. И осторожнее с компьютером, умоляю.
– А вы подумайте насчет Хаммарата. Там действительно очень славно. Возьмите мою визитку, позвоните, если что.
* * *
Машка, сияя, уже ждала меня в коридоре. За плечами – плюшевый рюкзачок в форме обезьянки. Мохнатая обезьяна уцепилась сзади и улыбается до ушей.
– Так что, зоопарк?
– Зоопарк, – подтвердила она, и мы вышли на улицу. Охранник помахал рукой нам вслед.
– А что случилось? – вдруг очень серьезно спросила Маша, едва лишь мы свернули в переулок. Я заглянул ей в глаза – густо-голубые, серьезные, с темными длинными ресничками. Дочка обещала расти красавицей – в мать. А ее мать я всерьез считал самой прекрасной женщиной на свете. Ха, разве это видно по моим поступкам?
– В смысле, Еж?
– Почему ты за мной зашел, а не мама?
– Потому что я, Машка, решил плюнуть на все и рвануть в отпуск. Вместе с тобой и с мамой.
– Правда?
– Правда. Чтоб у меня хвост отпал! – Моя самая страшная клятва.
– Ур-ра-аа!
Моя девочка очень непосредственно реагирует на хорошие новости. Она запрыгала на месте, размахивая руками, и завизжала так, что обернулись несколько спокойных прохожих. Я ощутил гордость за своего зверька, который растет свободным в несвободной по-прежнему стране. Естественным, как Маугли. По-моему, это здорово.
Впереди показалась пестрая будочка мороженщика. Машка-дикарка, уцепившись за мой палец, поволокла к ней папашу, как огромного несмышленого дога. Я повиновался безропотно.
– Заказывайте. – Седой нестарый дядька в фирменном переднике и колпаке походил на дореволюционного повара. На лице у него было написано добротное высшее образование.
– Так, – по-деловому заявил ребенок, оглядывая хозяйство высокообразованного дядьки. – Мне шарик клубничного с йогуртом, шарик орехового и шарик вот этого зелененького…
– Папайя, – подсказал продавец.
– И папайю. А папе… папа, что ты будешь?
– То же, что и ты.
– О'кей, тогда нам два стаканчика.
– Что надо сказать? – кисло-сладко прищурился мороженщик.
– Скорее, пожалуйста.
– Машка, не наглей, – потребовал я, доставая деньги.
– А что я такого сказала? – возмутилась она.
– Прошу. – Продавец протянул нам два вафельных конуса, поверх которых грудой лежали разноцветные снежки.
– Спасибо, – пробубнила Маша и самозабвенно впилась в мороженое.
– Сколько ей? – любовно спросил дядька.
– Восемь.
– Моей тоже восемь… Внучке, – добавил с улыбкой. – Во второй класс пойдет.
Мороженого я не ел лет сто. Почти с самого детства. Кажется, тогда оно было вкуснее и от него не ломило зубы. Старею, подумал я. Вспомнил канувшее в Лету эскимо на палочке за двадцать копеек и саму двадцатикопеечную монету – «двадцончик» мы ее называли. Помню, как рыскали около телефонных будок в поисках мелочи. Двушка, пятак, десончик, пятнарик, двадцончик, очень редко – «полташ» и совсем невозможное – железный руб. Его посчастливилось найти только мне одному, и то не на улице. Дежурный по школьному гардеробу, я иногда шарил по карманам чужих пальто. Когда выходила пописать старенькая Сталина Карповна. Жили мы с мамой бедно.
– Папа, о чем ты все время думаешь?
– Я думаю? – Мороженое медленно оплывало мне на пальцы – клубничное с йогуртом, ореховое и это, как его… папайя. – Ни о чем я не думаю.
– Нет, думаешь! – с обидой. – Ты совсем не обращаешь на меня внимания.
Я лихо подхватил моего Ежа и усадил на шею.
– Ты будешь стучать по лысине и мешать мне думать. Идет? Только не закапай меня мороженым смотри.
Мы вышли к фонтану, сотворенному гением Церетели. Бронзовые твари плескались в твердых струях пенистой воды. В чаше фонтана копошилась мелюзга. Зверек на моих плечах ожил и заерзал. Холодная капля хлопнулась о макушку. Папайя, решил я и почувствовал себя немножко верблюдом. Чувство оказалось приятным. Я послушно потопал к воде. Небо над Москвой раскалилось до прозрачной белизны.
– Пусти меня вниз, – потребовала Машка и, не дожидаясь, сама сползла на землю. Бросилась к фонтану.
В чашу набилось с десяток детей – плескались, визжали, поднимали брызги. Солнце вело по ним прицельный шквальный огонь. Мокрые тела слепили бликами. Тонкие лучи сбивали капли на лету, и они взрывались разноцветными брызгами. На парапете, поставив в воду босые ноги, лениво плавились мамаши в солнцезащитных очках, студенты и бродяги. Взлетали донцами вверх пивные бутылки, извергаясь пеной в подставленные рты классово чуждых людей. У фонтана наблюдалось всеобщее равенство.
– Папа, можно? – Машка с надеждой заглянула мне в глаза.
Мама бы не одобрила, но я ответил:
– Валяй.
Машка молниеносно разделась до синих трусиков и плюхнулась в воду. Ее погружение сопровождали счастливые вопли. Подумав, я снял галстук, расстегнул рубашку. Разулся, поставил туфли рядом, у дочкиного рюкзака. Оглянулся по сторонам, подкатил брюки до колен и погрузил ступни в теплую мутную жидкость. Наблюдая себя со стороны, отметил, насколько нелепо выгляжу. Лысоватый офисный служака воровато отдыхает. Его туфли «Ллойд», вывалив языки черных носков, усталыми собаками отдыхают рядом. Крахмальная белая рубашка режет глаз окружающим. Шелковый галстук болтается на плече. Рожа незагорелая, зеленая, усталая. Белые волосатые тонкие ноги. Во рту торчит сигаретина. Лоб наморщен, брови сведены. И в глазах баксы, баксы, баксы…
Рядом со мной, звякнув бутылками, уселась веселая парочка. Он: тишотка без рукавов, широченные вельветовые шорты, сандалии, копна растафарских косичек, перехваченных резинкой, серьга. Она: веснушки, короткая рыжая шерстка дыбом, огромные развязанные кроссовки, цветная татуировка на левом плече. По виду лет четырнадцать, не больше. Он усадил ее к себе на колени, обнял и целует взасос. Плевать на целый мир, если людям хорошо. Завидую!
– Уф-фф! – Машка наконец выбралась на берег, фыркая и отряхиваясь, как щенок.
– Накупалась?
– Ага.
– Теперь в зоопарк?
– Конечно! И еще мороженого.
Странно, до сих пор не могу поверить, что мне тридцать три года и у меня есть дочь. Иногда смотришь на себя в зеркало и не веришь, что стал взрослым. Когда Машку принесли из роддома, она была такая мелкая, скрюченная, морщинистая, красная… Вообще непохожая на человека. Я испугался ужасно. Не знал, с какой стороны к ней подступиться. Не мог представить, как можно вот это любить. Смывался на работу, притворялся сильно занятым. Хотя тогда было и впрямь уже много работы. Бедной Танюшке досталось. А потом… Ну что с отцами бывает потом? Влюбился. Пеленки – молочная кухня – аптека. Манная каша, свинка, краснуха, ползуночки, бантики, сказки… С удовольствием завел бы второго ребенка. Может, так и сделаем когда-нибудь. Может, и совсем скоро – скажем, сегодня.
По зоопарку мы оттопали часа три, не меньше. Сделали все, чтобы смертельно устать. Лев разевал нам на радость зубастую пасть, зевая. Слона мы кормили яблоком. Дразнили краснозадых мартышек. Решили во что бы то ни стало купить аквариум со скаляриями и неоновыми рыбками. Долго ждали бегемота, но он не всплыл. В его луже варились в горячей воде огрызки.
– Помнишь, – вдруг сказала Маша, – я была маленькая и болела, а ты рассказывал мне всякие истории? Про двух бегемотиков, Гипу и Поню. Они были такие крошечные, что только вместе их можно было считать целым гиппопотамом.
– Конечно, помню, – ответил я.
Еще бы: воспаление легких, температура под сорок не спадает третий день, у ребенка бред. Врачи требуют немедленной госпитализации. Прилетела из деревни Танькина какая-то дальняя родственница и не позволила. Привезла с собой какие-то корешочки, травы, настойки – мешок. Поставила внучку на ноги и уехала. «У меня же там хозяйство, буренка, куры…» Сама умерла через два года от саркомы. А такая крепкая казалась бабёха, казачка.
– Папа, смотри, верблюд!
Точно, верблюд. Собственной персоной. Облезлый, но гордый. Глядит на всех свысока, безразлично мусолит во рту желтоватую пену. Воплощенная независимость.
– А почему у него два горба? На сигаретах у верблюда только один.
– На сигаретах нарисован кэмел, а это наш верблюд, каракумский, – авторитетно объясняю я, табачный зоолог. – У него два горба, потому что много запасает впрок пищи. Жизнь в Каракумах тяжелая.
– А где кэмел? – упорствует дитя.
– Ну, где-где… В Египте. Там же на пачке пирамиды нарисованы.
– Тогда поехали в Египет!
– Прямо сейчас?
– Прямо сейчас.
– Отлично.
Мимо нас катит тележка, запряженная осоловелым от жары пони. Пыльная лошадка едва переставляет ноги, уныло цокая сбитыми копытами. Забрались в расписную тележку, которой правил здоровенный детина в кожаном жилете на голое тело. Его бы самого в хомут, подумалось мне. Пони жалко. Я потребовал:
– В Египет!
– Чего-чего? – От удивления возница проснулся. – Куда?
Я повторил направление.
– Это новый ресторан, что ли, открыли? – Красная лепеха его физиономии смотрела на нас немигающими водянистыми глазками.
– Египет – это где фараоны и кэмелы, – сказала Машка. – Везите нас в Шереметьево-два.
Накатавшись и нагулявшись, мы упали на облезлую скамеечку в тени огромной старой липы. Усталые, довольные собой и друг другом. Где-то за кулисами орали попугаи. С другой стороны кто-то лениво рычал, прочищая глотку. В пруду хлопали крыльями утки-мандаринки и гуси-лебеди. Липа экзотически пахла. Мы чувствовали себя немножко путешественниками. Как бы в джунглях.
– Знаешь, Еж, – сказал я, – ваша директриса предлагает нам поехать в Африку. Хочешь в Африку?
– Конечно! – Машка даже подпрыгнула на месте. – Хочу!
– Значит, поедем, – ответил я и в этот самый момент решил: действительно поедем. – А чего ты хочешь еще?
– Секрет. – Она прижалась ко мне горячей щекой.
– Большой секрет? – Я погладил дочь по соломенным волосикам.
– Очень большой.
– Ну, скажи на ушко.
– Не скажу.
– Пожа-алуйста!
– Хочу… – Она подтянулась и спрятала мокрые губенки в моем ухе. – Хочу, чтобы ты все время был дома. И не работал ночью. Вообще никогда-никогда не работал. И ходил со мной гулять. И катал на машине. И покупал мороженое. И любил нас с мамой…
Я вдруг понял, что ее губы были мокрыми от слез. Губы и все лицо.
Теперь мне предстояло испытание нешуточное. Визит в старую арбатскую квартиру, куда сбежала моя Таня. В дом, где меня никогда особенно не любили. В королевство, где правил, растеряв все иные свои привилегии, Илья Иванович Смоктунов – великий советский скульптор, лауреат Госпремии, старый партиец и почетный пенсионер. Тесть мой. Когда дочь поставила его перед фактом, что собирается замуж за голодранца-студента из Долгопрудного, он не разговаривал с ней целый год и на свадьбу не пришел. Теперь давно уже остыл, но смотрит на меня свысока по-прежнему. Гордый тип, с большими причудами. Похож лицом на артиста Ульянова.
Старые квартиры, в них что-то есть особенное. Особый запах. Пахнет книжной пылью, сыростью немного, скрипучим паркетом, нафталином из шкафов и кладовок, с антресолей, где хранятся давно не ношенные вещи… Сложный коктейль, как у дорогих духов. В таких квартирах люди живут поколениями, они как крепости. В них покойно, уютно, в них чувствуешь себя в ощутимой точке между прошлым и будущим, в длинной цепи, в единой связке. Арбатскую квартиру нельзя купить, это глупо. Она должна достаться по наследству, от дедушки с бабушкой – коренных, родовитых, московских. Парень из коммуналки, я всегда мечтал жить в таком доме, как этот, например: Овсяниковский переулок, четырнадцать дробь восемь. Чтобы полуобсыпавшиеся кариатиды с аскетичными мужскими лицами поддерживали ветхий балкон. Чтобы многослойно крашенная узорчатая дверь в два моих роста, тяжеленная и скрипучая, была с позеленевшей ручкой. Чтобы широкая лестница, как во дворце, с чугунными витыми перилами, и высокие потолки с лепниной, и грязный задний двор-колодец с гаражами и остатками гипсового фонтана… И чтобы древняя, пережившая все физические пределы возраста старушка со стеклянной брошью на заштопанном платье выгуливала у подъезда жирную, седую и лысую собачку… В Овсяниковском, четырнадцать дробь восемь, я не был уже давно, с год. А подъезд преобразился. Хоть мочой воняло по-прежнему и еще прибавилось надписей на ободранных стенах, многие двери были уже стальные, танковой брони, свежевстроенные. На втором этаже, квартира слева, где жил, как его называла Таня, «вечный жид», столетний почти большевик Исай Фомич, знакомый лично с Лениным, Сталиным и Троцким, на месте двери вообще зиял провал. Перестройка добралась до логова старого коммуниста, и новый хозяин, выполняя волю истории, произвел тотальный аборт, выскоблив стены до кирпича и полы – до подозрительно гнилых черных бревен перекрытия. Внутри выла, надсаживаясь, дрель – что-то буравили, может, пропавшее золото партии искали, не знаю.
Вздохнув тяжко, я покосился на полированную латунную табличку с надписью «Заслуженный скульптор СССР Илья Иванович Смоктунов», позвонил. Заслуженный скульптор мне и открыл. Высокий рукастый дед-здоровяк, он поправился, обрюзг, облысел еще больше, как-то осел в землю, но все еще напоминал одно из своих творений, угловатую гранитную фигуру с грубыми и мощными простыми чертами, молотобойца. Улыбнувшись Машке, раздвинув губами тяжелую, застывшую маску лица, тесть выдавил мрачно:
– Ну, проходи, раз явился.
С большой неохотой я переступил порог. В этой многокомнатной пещере с полутемными пыльными закоулками, уставленными антикварной мебелью, с мохнатыми коврами и бронзовыми светильниками, я всегда терялся. Огромная, запущенная, полумузейного вида, я вечно туалет в ней найти не мог. Где-то в неисповедимой глубине скульпторского дома протяжно ныла медитативная музыка – наверное, Таня делала свои упражнения, боролась с тоской. Сутулый, в обвислых штанах и майке, из-под которой выбивалась густая белая щетина, Илья Иванович смерил меня недобрым взглядом:
– Что ты у нас забыл?
Прозрачно-голубые, с красными прожилками глаза уперлись в меня, прячась пулеметными гнездами в тени крепкого лба и спутавшихся мохнатых бровей. Когда старик злился, с ним было нелегко.
– Таня есть? – спросил я.
– Она тебя не звала. А я так и подавно.
– Ну не сердись, деда! – вдруг встряла Машка, теребя тестя за руку. – Пожалуйста, не сердись. Мы тебе большого рака купили в подарок. Хочешь рака?
Сами не зная зачем, мы набрали в супермаркете кучу еды, сладкое и тысячу других бесполезных предметов. Например, мороженого лангуста. Клешни у него были склеены синим скотчем. Как будто deep-frosted тварь не сдохла, но впала в анабиоз.
– Беги играйся, внучка, – отрезал старик. – Пошли, зятек, разговор есть.
На кухне пахло роскошным обедом. Если есть в этом доме тот, кто мне хоть немного сочувствует, это, как ни странно, теща, Евгения Петровна. Мне позволено называть ее «тетя Женя». Значит, готовились к моему приходу, простили уже заранее. Приятно. Илья Иванович плотно закрыл дверь, достал из буфета, похожего на готический собор, пару стопок и графин с водкой. Разлил. Потребовал:
– Выпьем сначала.
Чокнулись, выпили. Водку они настаивают на лимонных корках, еще шут знает на чем. Получается отлично. А вообще скульптор попивает. Наша семейная тайна.
– Стало быть, мириться пришел, – сказал он, шумно фыркнув, как старый морж.
– В общем, да, – подтвердил я. Илья Иванович помолчал.
– А ты знаешь, как она плакала? Каждую ночь ревела в подушку. Мы с матерью за эти две недели валерьянки выпили на полпенсии. Ложится спать и ревет…
Я виновато поморщился.
– Вот скажи: ты зачем работаешь? – Он снова наполнил стопки. – Для чего?
– В каком смысле?
– В прямом.
– Ну как… Я люблю свою работу, – замялся я. – И деньги неплохие в общем.
– Во-во, деньги. – Заслуженный скульптор залпом проглотил водку, ловко влил ее прямо в желудок. – Только о них и думаешь. Деньги, деньги… Все мало тебе. Сколько человеку надо для счастья, скажи? Миллион? Миллиард?
– Но при чем тут…
– А при том! – Он с размаху грохнул кулаком по столу, так что даже графин подпрыгнул. Скульпторы, они сильные. – Ваше поколение вообще ни во что не верит, кроме денег. Расплодили торгашей, торгашескую эту психологию расплодили, а она как зараза, ко всем теперь липнет. Ну скажи прямо: во что ты веришь? Есть у тебя какая-нибудь идея в жизни? Мы тоже, знаешь, в свое время от зари до ночи вкалывали, жены нас не видели. Только мы новую жизнь строили, здоровье гробили на это. А ты – что ты строишь?
Тесть мой дядька умный, но демагог. Спорить с ним невозможно, не переспоришь. Навис над столом тяжелой тушей, уперся локтями – попробуй сдвинь.
– Ничего я не строю, Илья Иванович, – ответил я спокойно. – Мое дело – компьютер. А насчет идеи… вы меня простите, конечно, но идея у меня одна: я хочу, чтобы моей семье было хорошо. И все. Чтобы Таня и Маша ни в чем не нуждались.
– Вот им и хорошо! – проревел тесть, снова хватая графин за тонкое горлышко мускулистой ручищей. – Лучше некуда. Жена от него сбежала – это он, понимаешь, о ее счастье так позаботился! Заруби себе на носу: ни дочку, ни внучку я в обиду не дам, понял?! Нам с матерью каждая ее слеза знаешь во что обходится? Пей давай, что ты на меня уставился.
Мы помолчали, каждый подумал о своем.
– Илья Иванович, я сегодня первый день в отпуске. Хочу, чтобы мы все вместе поехали в Хаммарат, к морю. Так что все будет нормально, поверьте.
– Это где еще – Хаммарат? – Тесть недоверчиво хмыкнул.
– В Северной Африке. Говорят, отличный курорт.
– Африка, Африка, – презрительно процедил он. – Черное море вас не устраивает, по заграницам хотите мотаться. Чтоб заразу там подцепить какую-нибудь.
– Напрасно вы волнуетесь…
– Такую страну развалили. – Тесть помотал мощной своей головой, поскрипел зубами. – Помню, Дом творчества в Гурзуфе – это ж рай, чего еще надо-то? Танька, она ведь в Гурзуфе, считай, выросла. Эх-хх… – Он задумчиво почесал седую грудь. – В общем, ты понял меня. Если семья на первом месте – значит, семья. Твои слова. Отвечать за них будешь как мужик. А за компьютером сидеть и дурак может.
Он встал, отодвинув ногой табурет, потер поясницу, крякнул, открыл дверь и зычно рявкнул в глубь дома:
– Таня! Сюда иди!
Вошла моя Таня – раскрасневшаяся, тоненькая, в облегающем трико и тишотке до пупа. Выпирали, торчали крупные соски. Косилась в сторону, не хотела смотреть на меня. А мне, знаете, захотелось сейчас же прямо затащить ее в постель и забыть обо всем на свете к чертям собачьим.
– Сядь, дочка, – велел Илья Иванович. Таня послушно села.
– Поговорил я по душам с твоим мужем, – сурово произнес он, похлопывая по столу ладонью. – Он мне слово дал.
Если сбрешет, я ему, хоть старый, все ребра переломаю. – Заслуженный скульптор, храбрый, снова потянулся к графину. – А теперь миритесь, орлы!
– Папа, тебе хватит. – Таня попыталась остановить его движение, но хрустальная посудина была уже ухвачена мертво.
– Отца не учи! – Понятия не имею, откуда он выудил третью стопку. – Ну, давайте, что ли! Мир?
– Мир, – сказал я, любуясь Танькой моей, еще влажной от пота, непросохшей.
– Мир, – тихо отозвалась она, и, все трое, мы выпили.
– Мать! – взревел Илья Иванович, ухмыляясь довольно. – Накрывай обедать!
В каждой бочке дегтя существует и своя ложка меда. Например, единственный человек в моей жизни, который вкусно и с любовью готовит, – Евгения Петровна, теща. Таня рафинированная, только микроволновку включать умеет, ей не передалось. Сухонькая, вертлявая и крохотная, востроглазая и с вечным счастливым румянцем, «тетя Женя» объявилась тотчас же, водружая в центре стола огромное блюдо с моими любимыми голубцами. Умопомрачительный запах заставлял думать о каком-то незапамятном детстве и сказочных лакомствах, в которые иногда превращалась обычная стряпня вроде макарон и сосисок. На запах принеслась запыхавшаяся Машка («Там такие мультики показывают! Такие мультики!»), получила три нешуточных, политых щедро сметаной голубца и умчалась назад, к телевизору. Их поколение выбирает «Покемона».
– Ну, будем здоровы. – Илья Иванович с полным правом, торжественный, просветлевший, наполнил свою стопку до краев.
С едой покончили быстро. Тесть, наполовину опорожнив свой графин, смотрел на него снисходительно. Молчал. Я краем глаза, робко, косился на жену. Она – на меня. Сытые, довольные, говорить ни о чем не хотели.
– Спасибо огромное, Евгения Петровна, – сказал я. Голубцы уютно лежали в желудке, словно для них только и был он, мой желудок, всегда предназначен.
– Спасибо, мамочка, – поддержала меня Таня.
– На здоровье, на здоровье, дети, – счастливо залопотала теща. – Вы бы чаще приходили, кушали… А то бледненькие такие оба, едите небось все магазинное, синтетику эту всю. Танюшка вон тоже привереда такая – ничего не ест, все кашки и кашки. Я на той неделе такой суп-харчо замечательный сварила, с баранинкой, а она хоть бы притронулась… Только плачет и плачет и кашки себе варит…
– Мама, перестань, пожалуйста, – потребовала Таня. – Это никому не интересно.
Вдруг тесть, он у нас человек внезапный, снова потянулся к графину, плеснул себе решительно водки. Начинается, тоскливо подумал я. Поддав, Илья Иванович произносил речи.
– Вчера по телевизору Егорку Гаранина видел, – объявил он, вытирая рот салфеткой, недовольный.
– Да ты что! – Евгения Петровна всплеснула руками. – И как там наш Егор?
– Хорошо, – обиженно проворчал тесть, пожевав губами, все еще жирными от голубца. – Очередную награду получил за своих бронзовых чучел. И нарядился, нарядился – такой весь из себя, во фраке, с бабочкой, куды там! А мне на семьдесят лет хоть бы открытку прислал… Зажрался, зажрался Егор. – Он помолчал немного, глядя в окно на старую липу. Словно там, на липе, среди веток сидел зажравшийся скульптор Гаранин. – Вот тебе, понимаешь, мать, и старый друг. Я его из какого дерьма вытащил, а! Егорка ж, он когда в семьдесят девятом интервью дал Би-би-си против афганской войны, его в дурдом упекли. А я сразу – на прием к Демичеву. Он мне: «Что же это вы, товарищ Смоктунов, за врагов советской власти просите? Или вы сами с врагами заодно?» Я ему: «Да какой же Гаранин враг, товарищ Демичев? Он запутавшийся человек, ему просто из приемника голову заморочили, и все». – «Вот мы ему больную голову и подлечим». Я все равно стою на своем. «Мы же, – говорю, – таким образом льем воду на мельницу. Даем империалистам очередной повод нас поливать грязью. Не надо Гаранина держать в клинике. Не нравится ему Советская страна – пусть катится себе на Запад…» А Демичев: «Отчего же вашему дружку Советская страна не нравится? Мы его в институте выучили, в Союз художников приняли с грехом пополам, мастерскую выделили, квартиру дали, выставки устраивали, в Дома творчества профсоюзные путевки чуть не даром получал. А Гаранин, как Пастернак, где жрал, там и срать сел…» Вот так, короче. Два часа мы пререкались, и в конце концов Егора выпустили. А теперь он все забыл, все забыл, поросенок…
– А как он у нас на даче жил, в Переделкине, помнишь? – отозвалась мечтательно Евгения Петровна. – Как вы с ним ночами спорили! Засядут с вечера – и давай, и давай… Я проснусь в полшестого, выйду на веранду – а там дым коромыслом. Две бутылки выпьют, окурков навалят полную пепельницу, и чуть не до драки… А потом все вместе шли купаться.
– О чем же вы спорили, интересно знать, с врагом народа? – полюбопытствовала ехидная Таня. Она отца боится, но иногда подкалывает, храбрый заяц.
Илья Иванович насупился. Черты отвердели, налились упругой массой:
– Ты, дочка, если не понимаешь, так и не умничай тут, ясно?! Я вашего Солженицына прочел, когда ты еще пеленки марала. Как раз Егорка и принес «Архипелаг ГУЛАГ». Помню, читал мне вслух, а потом вдруг сказал: мы, говорит, когда победим, мы вас не будем судить. Просто вышлем всех в Америку к чертовой матери. А то им слишком хорошо живется.
Таня неприлично прыснула в кулак. Я невозмутимо поморгал и разделил надвое вилкой последний кусок голубца, который уже есть не собирался.
– Зато теперь вишь как получилось: мы – здесь, а они – там, – невесело подытожил скульптор, гоняя под кожей щек чугунной тяжести желваки. – Победители, понимаешь. Такую страну развалили… Да если б та же Америка пережила то, что мы, – что бы от вашей Америки осталось? Революция, Гражданская война, разруха, голод… Только-только очухались – на тебе, тридцать седьмой год. А потом сразу – Гитлер. Двадцать миллионов погибших, понимаешь, а другие считают, что и все сорок. Опять разруха, опять все сначала, с нуля. Только после всего этого спутник в космос – раз! – Илья Иванович грохнул кулаком по столу, посуда дрогнула, но устояла. – Гагарина – два! Луноход – три!! – На луноходе банка майонеза опрокинулась, жестяная крышка со звоном покатилась под стол.
– Пап, я прошу тебя, – умоляюще скривилась Таня. – Это скучно, в конце концов, твои лекции слушать.
– Илюша, Илюша, хватит! – подхватила, затрещала мелко добрейшая моя теща. – Ты уже выпил, тебе хватит…
– Только-только нормально жить стали, – продолжал реветь Илья Иванович, блестя стеклянно-красными белками. Пьянел он внезапно и катастрофически. Преображался на глазах. – Только-только экономика заработала, людей из коммуналок в квартиры переселили, только-только дети родились, которые ни войны, ни голода не видели, – и тут трах-тарарах! – Стопка маленькой бомбой взорвалась о пол, шарахнув по ногам искристыми осколками. – Явились реформаторы на все готовенькое! Вы же эту несчастную страну уже десять лет грабите и все разграбить не можете до конца! Все, что советская власть создала, жрете-жрете, а оно есть и есть! И будет! Вы же ни черта не строите, кроме дворцов своих, вы же о будущем не думаете, у вас девиз: нахапать побыстрее сегодня, потому что завтра, может, вообще чечены эту вашу «новую Россию» на хрен взорвут. А Сталин правильно сделал: он нац-менскую кодлу выселил подальше, и стало на Кавказе тихо и спокойно. Потому что мыслил го-су-дарст-вен-но! Потому что строил Империю – да-да, Империю, с большой буквы, – как царь Петр свой Петербург – на крови. И построил, черт усатый! Ни одна зараза в нашу сторону плюнуть не смела. А теперь? Теперь что? Теперь о нас все ноги вытирают, вот вам и демократия ваша долбаная! Нищету расплодили, бандитов расплодили, в долги влезли, страну на колени поставили и радуетесь…
– Отец, ну хватит уже, честное слово! – Таня в сердцах шлепнула ладошкой по колену и бросила в мою сторону виноватый взгляд. Видимо, я отвечал здесь за тех самых, которые и «разрушили», и «довели». – Иди отдохни, хватит!
– Нет, ты скажи, зятек. – Теперь с тестем моим справиться было никому не под силу, периодически такое случалось. Настоянная на спирту кровь наконец шибанула ему в голову, долго готовилась, наверное. – Скажи: ты Россию любишь? Ты Родину свою любишь? А?!








