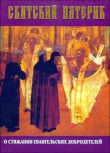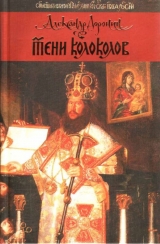
Текст книги "Тени колоколов"
Автор книги: Александр Доронин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 29 страниц)
Думал обо всём этом Алмаз и прислушивался. В эту горницу пускают только бояр и воевод. «Обнаглели! Не боятся, что их слова дойдут до чужих ушей, до царя!» – Алмаз вдруг почувствовал смертельную скуку. Ему надоело сидеть в кабаке, слушать пьяные бредни. Он оглянулся – его охранники сидели за тем же столом. Высокие, плечистые, медведя повалят. Крепкие парни, мордвины. В прошлом году Алмаз их из Нижнего Новгорода привез. И тут неожиданно дьяк вспомнил митрополита Никона. Слышал, и он мордвин, тоже в тех краях вырос, такой же богатырь. Ждут его в Москве с мощами Филиппа. Место Патриарха пока свободно…
Недавно сам Морозов вспоминал его хорошими словами, похоже, стремится не столько увидеть мощи святого, сколько самого митрополита.
«Сообщить ли о братьях Борису Ивановичу? – потекли мысли Алмаза по другому руслу. – Какая мне от этого польза? Да ладно, авось пригодится!».
И, приняв решение, дьяк злобно ухмыльнулся в усы, потом с размаху стукнул ногой в дверь, та открылась настежь. Вот они перед ним, Зюзины. Увидя Алмаза, онемели. Старший, Матвей Кудимыч, даже икать стал. Василий – кремлевский воевода – брата по спине принялся хлопать. Сейчас, считай, они в руках у Алмаза. Как он скажет, так и будет. У стрельцов Сыскного приказа топоры острые.
– С темной душой живете, с темной душой, – начал Алмаз. – Сами коренные зубы вырываете…
Василий бросился на него, но охранники злыми волками подпрыгнули, сбили его с ног.
Дьяк прошел к столу, заставленному подносами с едой, посмотрел на Зюзиных, грубо добавил:
– Греха не боитесь, гуляете!
Братья съежились, как листья, побитые морозом. А дьяк смотрел на них и наслаждался властью.
* * *
На седьмой день после похорон Патриарха собрались в Казанском соборе самые близкие его друзья: митрополит Корнилий, Неронов, настоятель собора, протопоп Аввакум и Стефан Вонифатьев, духовный наставник царя. О том о сем говорили, а вот о самом главном, из-за чего приехали сюда, молчали. Как лезть в царские дела – себе сделаешь хуже.
Стефана Вонифатьева протопоп Аввакум считал своим близким другом. Поэтому лучше других знал, чего не хватало в нем: силы воли, характера. В Патриархи, может быть, лучше бы подошел Никон, но его Аввакум знал плохо, хотя и земляки они, оба родом из земель нижегородских. Родное село Аввакума – Григорово – недалеко от Вильдеманова. Возможно, встречались, да пути-дороги Господь им разные дал… Хотя обижаться нечего: он, протопоп, тоже человек немаленький: в Юрьеве-Повольском под руками десять церквей и четыре монастыря держал. Там бы и сейчас служил, если бы не обижал попов. Те взяли и выгнали его. За два дня пешком дошел до Москвы. Жалуйся-нет, сейчас туда возврата не будет – попы умершему Патриарху посылали на него жалобу. Хорошо хоть, Иван Неронов к себе помощником взял. Ведь не пойдешь собирать милостыню, ею семью не прокормишь. А семья немалая: сами с Анастасией Марковной и трое сыновей. Жена и сейчас на сносях, каждый год рожает.
Аввакум старался спокойно думать о Никоне, но почему-то в душе закипали злость и раздражение: «Хитрющий он человек, для меня место не будет искать, как Неронов!». И не удержался, почесав живот, сказал вслух собравшимся:
– Стефана Вонифатьева нужно поставить в Патриархи. Он хороший человек, и церковные дела все знает.
За его слова, будто утопающие за береговую иву, зацепились присутствующие. За короткое время написали прошение царю. Первым под письмом приложил свою руку митрополит Корнилий, за ним Неронов с Аввакумом.
На другой день в Благовещенском соборе письмо вручили прямо в руки царя. Тот прошелся взглядом по хрустящему листу, лицо его побагровело, жилы на шее напряглись – явный признак гнева. Посмотрел в сторону толпящихся боголюбцев. В прошении не было имени того, кого он носил в своей душе. Пальцем поманил своего духовника.
– Ведаешь ли, о чем святые отцы просят?
Вонифатьев кивнул.
– А что сам скажешь?
Вонифатьев дрожащим голосом и онемевшими губами чуть слышно промолвил:
– Это место Господь другому обещал. Никон должен его занять, Государь!..
Вернулся Романов в Кремль в хорошем настроении. Навстречу сестра, Татьяна Михайловна.
– Ну что, братец? Что решили архипастыри? – взволнованно спросила она. – Назвали Никона или нет?
– Назвали. Под конец назвали. А Вонифатьев отказался. Слава Богу, что желания у нас совпали, – и Алексей Михайлович радостно поцеловал сестру, что редко случалось с ним.
Татьяна Михайловна долго не могла уснуть в ту ночь, всё вспоминала Никона: какая у него походка, голос, как посматривал на нее в Новоспасском монастыре, будучи его настоятелем. Никона она любила давно и тайно ото всех.
* * *
В последние дни перед глазами Алексея Михайловича часто вставала красавица Фима, дочь Федора Всеволожского. Вот и сегодня во сне ее видел. Лицо бледное-бледное, сама горько плачет. Алексей Михайлович так испугался, что, проснувшись, даже встал на колени около ложа.
«Надо нищим милостыню раздать, так, может, старые грехи отступят», – решил он. Позвал боярина Федора Ртищева, своего постельничего, который храпел в соседней зале. Приказал ему готовиться в дорогу. По пути тоже всё о своей бывшей невесте думал. Свадьба не состоялась, хитрые бояре обвели юного и наивного царя вокруг пальца, а девушку с родителями выслали в далекую Сибирь. Это уже потом Алексей Михайлович тайно приказал вернуть любимую в Новодевичий монастырь. Но монастырь – он всегда монастырь: с улицы красой сияет, а кельи темны.
Невеста, нежная и юная, в душе и памяти оживила воспоминания, что светлее весеннего дня, жарче костра – сердце вырывается наружу, будто птица из клетки.
Сначала царский возок приблизился к тюрьме. Врытые в землю, его казематы были глубокими и темными. Около старых новые свежие ямы вырыты – настоящие могилы. Одни уже закончены – сверху бревнами прикрыты. Другие ещё копают какие-то черные лохматые люди.
– Кто вас заставил? – спросил царь. Те, разобравшись, кто перед ними, молча брякнулись ниц, ушибая друг друга лопатами и роняя в грязь свои замызганные шапки, свалянные из овечьей шерсти. Только один не побоялся ответить:
– Морозов Борис Иванович приказал. Говорит, много надо ещё ям, чтоб все поместились.
Царь посмотрел на свежие ямы, уже занятые, откуда донеслись до него мольбы и вопли.
– В чем они виноваты? Почему над ними издеваетесь? – От волнения он говорил отрывисто и резко.
– Мы что, Государь наш батюшка?! Мы только рабы, – молвил тот же мужчина.
В эту минуту подбежал начальник тюрьмы и, трясясь, начал рассказывать, что вчера около Успенской церкви поймали шестерых пьяных мужчин и сейчас как раз для них и роют эти ямы.
Алексей Михайлович вдруг вспомнил слова недавнего доклада: в московских тюрьмах до двадцати тысяч человек. Так что зря он эту поездку затеял. Разве всех оделишь? Никакой казны не хватит!
В яму стражники опустили горящую палку, а оттуда им навстречу – брань отборная.
– Закройте свои поганые рты, не злите меня! – заорал начальник тюрьмы.
Алексей Михайлович подошел поближе, заглянул через отверстие вниз. В лицо ударил тошнотворный запах. Вышитым платочком царь прикрыл нос и спросил:
– Сколько вас там?
– Двадцать душ, – раздалось из ямы.
– Вот вам, ловите! – отвернув лицо, царь кинул в отверстие горсть ефимков.
– Добрый человек, выручи нас! – раздался снизу молодой голос.
– Ты чей будешь? – Алексей Михайлович обрадовался возможности сделать добро и искупить хоть один свой грех. Не взирая на удушающую вонь, пониже склонился к яме.
– Лексея Ивановича, боярина Львова конюх, – услышал в ответ.
– Как попал сюда, разбойник, за что?
– Хозяину не успел лошадь запрячь, он осерчал и сюда привез.
– Отпусти парня, он не виновен, – обратился к тюремщику Алексей Михайлович, сам вновь вытащил пригоршню денег из кармана, бросил вниз: – На, держи, сам лошадь купишь…
Возок царя остановился около Новодевичьего монастыря. Прежде чем выйти, Алексей Михайлович огляделся вокруг. Улица была пуста. Он надвинул шапку пониже и, спеша, направился к воротам, вновь оглянулся и постучал в крепкие тесины. Некоторое время стоял, разглядывая святые купола. Но скоро с внутренней стороны кто-то подошел, и открылось узенькое окошко, а потом защелку открыла сама игуменья Анастасия. Без слов поклонилась гостю, направилась вперед.
Идя за женщиной в черном, царь думал: «Здесь не как в Кремле, умрешь – никто о тебе и не спохватится…». Зашли в каменный дом с маленькими кельями, коридор которого освещался свечами. Шаги Алексея Михайловича раздавались ружейными выстрелами. По обеим сторонам стояли согнутые тени монахинь. Ни вздохов, ни восклицаний, ни острых взглядов. Научили здешних обитателей молчанию, хорошо научили…
Фима сидела на узенькой скамье и вязала шерстяной платок. Спицы так и мелькали в ее руках, играли солнечными зайчиками. Увидя входившего царя, встала, низко поклонилась.
– Прости, Лексей Михайлович, за дело принялась малость, – на бледном бескровном лице, обрамленном черным платком, засияли большие синие глаза. Из них, будто из глубокого колодца, закапали быстрые слезы.
– Полно, полно, хватит… Давно тоскую, вот и приехал навестить, – закрыв за игуменьей дверь, он начал успокаивать плачущую женщину. Про себя же думал: «Почему я, Государь Всея Руси, всесильный и могущественный, здесь беспомощен? Не в силах дать счастье ни Фиме, ни себе». Молча подошел к окну, чтобы скрыть свои слезы, и стал смотреть на улицу.
За Девичьим полем грустное небо коптила Патриаршая слобода. Дальше темнели Хамовники, Сивцев Вражек. Только кресты высоких церквей не затянуты дымом труб: неустанно сверкали.
Долго смотрел Алексей Михайлович в окно. И монахиня услышала, как он тяжело вздохнул. Она хорошо знала, как тяжка царская ноша, как труден его путь, поэтому всем своим исстрадавшимся бабьим сердцем жалела своего Лексея, а значит, любила – безнадежно, беспредельно. Она тихо, чтобы не спугнуть его мысли, подошла к киоту с образами, опустилась на колени и стала шепотом просить Богородицу охранять его и помогать во всех делах.
Сейчас он думал не о Москве, а о землях Ливонии и Украины, которые до сего времени не под его рукой. На российских границах ночью горят костры. Как демонстрация мощи, как знак власти. Но так ли уж силен он, царь? Вспомнил своих бояр: при дележке земель и вотчин изо рта друг у друга вырывают. Почудились вдруг даже голоса: «Наш Хилковский род ещё при Иване Грозном…» – «Ты, царь, возврати нам, Буйносовым, нажитое…». Каждый выбирал слова грубее, старался больнее задеть даже его, царя. Да, бояре думают только о себе…
– Семя тли! – незаметно для себя вслух произнес царь. Монахиня вздрогнула и обернула к нему лицо:
– Что молвишь, Государь? О чем это ты?
– Так, почудилось… Везде эти семена греха… Дьяволы бородатые! – Он уже улыбался, отходя от окна и каких-то своих дум. Перед ним сияли ее глаза, а в них – море тревоги… – Вот приехал навестить тебя, радость моя, а сам где-то остался. Прости, ради Христа!
Поднял Фиму с колен, легкую, как перышко, ласково обнял и спросил:
– Ну как ты тут? Обо мне, горемычном, вспоминаешь?
– Твой подарочек не дает забыть, ярче солнца сияет, сердце мое согревает! – И она поднесла к губам тонкую свою руку, на безымянном пальце сверкнуло кольцо с лазоревым камнем.
Алексей Михайлович взял эту руку, погладил и прикрыл ею глаза, в которых вдруг что-то защипало. Это кольцо он подарил названной своей невесте на обрученье. И Фима сохранила его, сберегла и в ссылке далекой, и здесь, в глухой келье.
Кольцо напомнило им не только о забытых радостях первой любви, но и о горестях, которые перенесли оба. За две недели до свадьбы с невестой вдруг сделалось худо: припадки, бред, бессонница. Боярин Борис Иванович Морозов, воспитатель юного царя, которого во всём слушался его батюшка, Михаил Федорович, помогал в государственных делах и Алексею Михайловичу. Не мог он позволить Государю Всея Руси взять в жены больную девушку. И нашел ему здоровую – Марию Милославскую. А Фиму с родителями подальше от греха отправил – в Сибирь.
Позже царь узнал, что опоили Фиму наговорным снадобьем, чтоб сделать ее больной. А младшая дочь Ильи Даниловича Милославского родила Государю троих дочерей. Однако особой нежности и любви на царском ложе он не испытал. Сердцу ведь не прикажешь.
– Не во всем на этой земле мы вольны! – вслух сказал царь, целую монахиню.
– Ошибаешься, Государь, – в моей жизни только ты волен, – прошептала та ему на ухо и, освободив руку из объятий, дотянулась до свечи перед иконами и потушила ее.
…Через окно кельи виднелось выцветшее небо. По нему стрелами летали ласточки и парил одинокий ястреб…
* * *
Раньше у Морозовых где только домов и земли не было: в Москве, под Рязанью, Тамбовом, в Оренбургских степях… Когда царем был бесстыдный опричник Ивана Грозного Борис Годунов, родовое дерево почти засохло. Самые прочные его ветви – умные воины и воеводы – были расстреляны и повешены. Морозовы ожили только при Романовых. Братья Борис и Глеб даже были воспитателями сына Михаила Федоровича. Столь почетная должность была получена, во-первых, из-за близких родственных отношений с царем, во-вторых, при поддержке боярина Салтыкова, который был братом их матери.
В 1634 году Борис Иванович получил из рук царя боярство. Когда Алексей Михайлович, за которым он таскал горшки и качал его зыбку, стал царем, он бегом побежал вверх по ступеням власти.
Вместе с властью росло и богатство боярина Морозова. От трехсот крепостных, перешедших ему в наследство, до семи тысяч, которые сегодня гнули на него спину, увеличилось его состояние. Столько крепостных было только у Никиты Ивановича Романова, дяди царя.
Влияние на царя и вес в государственном управлении Борис Иванович усердно и умело поддерживал, как огонь в костре: знай клади дров вовремя! Вот он вовремя и свояком царю стал. Государя женил на Марии Милославской, сам же обвенчался с ее старшей сестрой Анной. Авдотья Алексеевна Сицкая, первая жена Морозова, скончалась, не оставив ему детей. Однако Анна, хоть и моложе его намного, тоже детьми не порадовала. И красотой не блистала. Чего уж там! Только и выгоды всей, что царская родня…
Но это уже не волновало боярина. Не до того. Ему сегодня исполняется шестьдесят два года. Да и забот государственных слишком много, чтоб о пустом думать. Два приказа, Сыскной и Казенный, под его началом. Успевай только управляться! А уж годы не те, нет, не те!..
Сегодня, в день рождения, Морозов встал на ранней заре и вышел на улицу подышать чистым воздухом. Слава Богу, на здоровье грех жаловаться! Высокий, краснолицый, Борис Иванович твердым шагом спустился по лестнице, вышел на крыльцо своего терема. Дом двухэтажный, срублен из дубовых бревен, гладких и толстых. Островерхая крыша крыльца, будто клюв журавля, делала дворец непохожим на другие. Карнизы и наличники отделаны богатой резьбой.
По одной стороне двора протянулось около двадцати сараев. Они были битком набиты лисьими и беличьими шкурами, мясом и зерном. Подальше стояли конюшни и кухня. В зеленеющем саду уютно спряталась покрытая красной жестью церквушка. Перед ее иконами молились о прощении своих грехов только двое: Борис Иванович и его молодая жена. Иногда, правда, из Зюзина, из своего имения, приезжали к ним в гости Глеб Иванович, Федосья Прокопьевна и их сын Ванюша.
Братья всю жизнь помогали друг другу, поддерживали во всём. И любили друг друга так, как любят нажитое добро, в которое вложено много пота и крови, – любовью собственников. Старший даже брак брату устроил по своему разумению и выгоде. Федосья Прокопьевна, в девичестве Соковникова, была близкой родственницей царице Марии. А теперь ещё и продолжатель рода у братьев был один. Общая забота и общая надежда.
Борис Иванович посмотрел на всходившее яркое солнце и вздохнул всей грудью. Воздух, напоенный ароматом цветущего сада и свежей зелени, пьянил, как молодая брага. По узенькой тропинке через сад боярин направился к Москве-реке, полюбоваться ею и поразмышлять на просторе. Это делал он частенько.
Шел недолго – река текла в конце огорода. Борис Иванович встал на ее крутом берегу, долго смотрел, как серебряную гладь воды морщили мелкие волны. Всходившее солнце умывалось в реке, позолачивая воду. В глазах зарябило, они повлажнели от слез. По земляным ступенькам боярин спустился вниз, наклонился, пригоршней зачерпнул воду и умылся. Хорошее настроение сменилось какой-то неясной тревогой и ощущением чего-то непоправимого. Боярин был недоволен собой: «Вот, расчувствовался, как баба! Старею, видно. А ведь и не заметил, как старость подкатила…».
Чтобы уйти от этих необычных для него мыслей, он поспешил домой. Сегодня большие гости соберутся, их встретить-угостить нужно.
Сначала остановился на кухне. Здесь Федор, главный повар, суетился у горячих печей. Помощники – двадцать молодых парней – колдовали над длинным столом, не поднимая головы. Чики-яки, тики-таки, – плясали у них в руках острые ножи, стучали толкушки.
Боярин кивком позвал Федора на улицу. Когда тот вышел за ним, грубовато спросил:
– О самом главном угощении не забыл, не вытряс из головы, как муку через сито?
– Не забыл, боярин, не забыл. Мы его перед царем в последнюю очередь поставим, – заверил повар.
– Смотри же у меня! Ежели что будет не так, головы лишишься!
После легкого завтрака Борис Иванович лег отдохнуть. В это время его жена, окруженная многочисленными служанками, в своих покоях осматривала новый наряд, который нынче собиралась надеть перед гостями. Парча шуршала и сверкала, наполняя сердце молодой женщины волнением и предчувствием веселого праздника. Она выбрала из груды одежды рубашку из тончайшего полотна, подобрала мягкие сафьяновые сапожки, а на голову – богатый кокошник, расшитый драгоценными камнями.
Борис Иванович лежал и слушал раздающиеся через тонкую стену возбужденные женские голоса, и ему становилось приятно и покойно. Что скрывать, молодая жена подарила ему радость, облегчила его одинокую и угрюмую жизнь в пустом сиротском доме, где он метался, как волк в загоне. Теперь он успокоился, перестал ждать наследника, да и Анна по этому поводу не больно переживала. Здесь она была хозяйкой, вырвалась наконец-то из отчего дома. Вон сколько служанок порхает и кружится около нее! Будто на лугу бабочки…
– Анна Ильинична, – обратилась одна из них к хозяйке, – вот эти сережки к лицу будут.
Вдели в уши – те золотыми колокольчиками зазвенели. Игрушки, а не сережки.
– Нет, нет, они мне не идут. Эти невесте носить, а не замужней женщине, – сказала боярыня. Брови нахмурила, в голосе капризные нотки.
– Тогда эти бусы, по-моему, всем гостям понравятся, – начала успокаивать ее та же девушка.
– Да ты что, Уляша?! Наш Государь-батюшка бусы за украшения не считает. Щеки порумяню – и то хорошо. Так что ты не беспокойся, к своим, чай, как-нибудь выйду. Порадуем лучше всех песней. Спой, Уляша, ту, от которой я на качелях в саду плакала.
– Матушка наша, красавица, да что ты в этой грустной песне хорошего нашла? Да ещё в день именин Бориса Ивановича! Петь такую нельзя. Он рассердится.
– Ты только начни, потом мы сами скажем, понравится нам или нет, – настаивала Анна Ильинична. – Идемте-ка на улицу, там лучше петь – Бориса Ивановича не потревожим.
Морозов, слушавший этот разговор, встал с постели и подошел к окну. Вот девушки высыпали на улицу, окружили свою хозяйку и, взявшись за руки, повели хоровод.
Уляша запела песню. Голос дрожал – будто не песню пела, а жаловалась:
Зачем родила меня, ох, матушка, девушкой?
Зачем родила меня, ох, матушка, девушкой-куколкой?
Родила бы, ох, матушка, в чаще леса,
Родила бы, ох, матушка, большой березой.
Бродящий по лесу злой парень нашел бы пусть меня.
Острым топором, новым топором срубил бы…
Пела Уляша, девушки с боярыней плакали. Борис Иванович тоже расчувствовался, но не надолго. Ему вновь вспомнились приглашенные гости, и он торопливо стал одеваться, ведь нужно всё проверить, посмотреть, как столы расставили. Только хотел выйти, в дверях показалась Федосья Прокопьевна, жена брата.
Невысокая, худенькая, черемуховые глаза смотрят грустно. По виду – тиха и слаба. Но в характере Федосьи Прокопьевны было такое, от чего огнем обожжешься. Она не умела капризничать так, как Анна Ильинична, была прямодушна и слов на ветер не кидала. Скажет свое – голову отруби – назад не отступит. Но и добротой своей славилась. Людям последний кусок отдаст, только бы рядом не было нищих и голодных. Правда, эта черта характера не нравилась Борису Ивановичу, он считал доброту блажью. Но прощал снохе, любя ее, как отец родной.
Федосья была взята из не очень знатной семьи – отец ее, Прокопий Федорович, был великий труженик: служил воеводой в городе Мезень, потом был послом в Крыму, после этого вновь посылали воеводой к черту на кулички, в Енисейск. А когда дочь Милославского стала царицей, Прокопий Федорович, как ближний ее родственник, был приглашен стольником на свадьбу. Федосья Прокопьевна, дочь его, отличалась умом, красотой и твердым характером. А после возвышения отца стала завидной невестой, которую Морозовы и не упустили, сосватали.
– Где Глеб Иванович, почему до обеда дома сидите? – недовольно обратился к снохе старший Морозов.
– Он переодевается, батюшка, сейчас придет. По дороге в лавку заходили, за подарками. Оттуда и в Кремль заезжали.
– Что, Алексей Михайлович, мой свояк, готовит карету? – будто не о царе, а о простом человеке спросил боярин.
– Алексей Михайлович государственные дела справляет. Как ушел рано утром – до нашего приезда не возвратился.
– И отметить мои именины не приедет?
Федосья Прокопьевна бросила на него острый взгляд:
– Цари только Богу подчиняются!
Морозову послышалась в ее словах скрытая насмешка, и он насупился, лицо его потемнело.
Федосья Прокопьевна решила загладить свою резкость, ласково молвила:
– Мария Ильинична приедет, царица. Обещала иноземных послов привезти.
У Морозова с души будто камень свалился. Только зря, видимо, с подарками царю старался, Федора попусту заставил из белого теста птицу печь. А задумка была хороша! У Алексея Михайловича есть любимый сокол, с которым он часто выезжает на охоту. Пришел бы Государь сегодня – получил бы сокола испеченного. Сколько потехи было бы!
– Э-эх-ма, – только и сказал Морозов и пошел на кухню. Проходя по саду, улыбаясь смотрел, как его жена качалась, словно малый ребенок, на качелях, подвешенных между двумя деревьями, и пела.
* * *
По Варваровке двигалась многолюдная похоронная процессия. Под окнами своего большого дома стояли и смотрели на происходящее братья Зюзины. Старший, Матвей Кудимыч, то и дело трогал ворот вышитой рубашки, который душил его толстую шею, и шумно дышал открытым ртом, будто воздуха ему не хватало.
Младший, Василий, худощавый, высокий, некрасивый лицом, как все Зюзины, чесал свой большой нос и ждал, что скажет ему брат.
Тысячи людей шли по Варваровке в сторону Кремля – ногу некуда поставить. Десять здоровых стрельцов несли гроб на плечах, и он будто плыл над толпой.
Вот ударили в колокола в одном соборе, затем в другом, третьем – и наконец их звон слился в единый печально-праздничный набат. Казалось, само небо раскололось на тысячи звенящих осколков, и серые облака, которые ночью не успели вылиться дождем, поспешили вперед, будто кто их кнутом подгонял. Колокольный звон догнал их, стукнул по крутым бокам – те пролили вниз всю свою воду. Нет, на Варваровку ни капли не попало, – хватит, за ночь пыль в грязный кисель превратилась.
Матвей Кудимыч смотрел с завистью, зло. Впереди процессии с иконами шли архиереи, среди них был и новгородский митрополит Никон. За ними, неумолчно бурля, двигалась толпа стрельцов и простого городского люда.
– Чего ждут? – сквозь зубы сказал старший Зюзин. – Что они, святые мощи, дадут всем богатство и счастье?
Взгляд боярина был суровым, руки дрожали. Ему, выходцу из рода Рюриковичей, прадеды которого служили Московскому великому князю, не здесь бы на эти лохмотья глаза пялить – самому быть царем, показать в соборе, куда поставить гроб с мощами святого Филиппа.
– И-э-эх! – словно поднятый из берлоги медведь, зарычал Матвей Кудимыч и замахал могучим кулаком, будто хотел всех на месте уложить. Гнев требовал выхода. Ухватился двумя руками за оконный косяк, всей силой дернул. Нет, тот с места не тронулся, только красное стекло – дзинь-бинь! – в клочья разлетелось под его ноги, новые сапоги будто кровью обрызгало.
– Ты что… – Василий старался успокоить брата, сзади его схватил, да разве разгневанного остановишь.
– И-э-эх! – вновь вырвалось из хрипящего горла Матвея Кудимыча, и он так выругался, как не услышишь из уст заядлого драчуна-кабатчика. Боярин он, не комар. Бо-ярин! Только в честь его имени нужно было забить во все московские колокола. А сейчас восхваляют возвращение мощей Филиппа. Посмотрев искоса на брата, грубо спросил:
– Видал, что делается?! У-у, ироды!
– Говорят, Никона поставят в Патриархи.
– Откуда слышал, они тебе сказали? – взлохмаченной головой Матвей Кудимыч мотнул в сторону человеческой реки.
– Бояре об этом говорят.
– Бояре… Сам ты кто, бестолковый?
Василий засопел, видно, не понравились ему слова брата. И не удержался:
– Сначала жребий пал на Стефана Вонифатьева, да у царя были другие задумки…
– Стефану перед иконами только стоять, к людям стесняется выходить, а ты его в Патриархи ставишь, – ещё больше разозлился Матвей Кудимыч. Постоял немного, будто думая о чем-то большом, только ему понятном, и добавил: – Никон, говоришь? Это неплохо… Такого голыми руками не возьмешь! Норов его, и-х… – не договорил, с размаху пнул дверь, вошел в терем.
Василий ещё долго смотрел на людской поток, пока тот не поредел и не иссяк. А ответа на вопрос, почему это так взволновало брата, он так и не нашел.
* * *
Писательство на Руси считалось пустяковым делом. Первым счел это за большую работу Иван Грозный. Таким талантом одарил Бог и Алексея Михайловича. Он описывал почти каждый свой день: где был, с кем встречался и беседовал, о чем и в какое время.
О том, как доставили мощи Филиппа, он рассказывал в письме князю Одоевскому. Никита Иванович служит воеводой в Казани, в тот день в Москве не был, и, понятно, весть царя затронула сердце старика. Он с волнением читал: «Всем Собором встретили гроб около Напрудного монастыря и над своими головами подняли. С того времени святые мощи стали творить чудеса. Как принесли святого на Лобное место, здесь он девушку исцелил. Люди всем миром заплакали… Как с мощами встали напротив Грановитой палаты, здесь слепых он исцелил и, как во время Христа, верующие кричали: «Сын божий, спаси и помилуй!». Народу столько было – от Напрудного до Успенского собора яблоку негде упасть… И стоял он (Филипп. – Авт.) десять дней перед верующими, и в эти десять дней с утра до вечера били колокола: святая неделя шла, она была очень радостной. Много было исцелившихся».
Алексей Михайлович описывал все чудеса исцеления долго и подробно. Возможно, в этом письме он хотел рассказать совсем о другом: примирение Ивана Грозного с митрополитом Филиппом очищало Россию от тех грехов, которые лежали на ней тяжким бременем. Во всяком случае, это внушал Государю Никон.
Пока мощи святого творили чудеса, находясь в Успенском соборе, Никон не терял времени даром. Он встречался с Борисом Ивановичем Морозовым, беседовал с царем с глазу на глаз и принародно. Как всегда, Алексей Михайлович звал митрополита святителем души, расспрашивал о том, что нового видел он в пути и что взволновало его сердце. Никон цепким взглядом прощупывал толпу вокруг царя, громко и кратко отвечал на вопросы. Но последний ответ ошеломил всех.
– Людей больно воеводы зажимают. Последнее забирают. И попы службы проводят как попало, только грехи умножают.
Царь словно не заметил осуждения и строгости в голосе и словах Никона, ласково, со слезами на глазах произнес:
– Мы тебя очень ждали, Святейший! По-моему, вражда в церквях и землях наших вот из-за чего: сиротами остались они, и мы просим тебя взять их под свою руку.
– Боюсь, Государь, лик ангела не подойдет к моему лицу. Я родился в темном селе, отец был землепашцем, вырос без матери, сиротой. Среди них, – он рукой махнул в сторону архипастырей, – умнее меня есть, пусть кого-нибудь другого выберут. Только позвольте мне над святыми мощами провести службу. За то, что привез их издалека. Потом отпустите схимником в Новоспасский монастырь…
– Ты устал от тяжелой дороги, Святейший, пора тебе отдохнуть. Сам провожу тебя до монастыря, по пути могилам родителей поклонюсь.
И действительно, царь отвез Никона туда, где он три года был игуменом.
На второй день архипастыри встречали его около крыльца Успенского собора с иконами. Во время молебна над мощами Филиппа от голоса Никона даже свечи гасли. Он напомнил собравшимся о том грехе, который сотворил Иван Грозный с митрополитом Филиппом, и горько пожалел, что бояре и воеводы до сих пор не чтут церковь, не считаются с ней. А он, Никон, раб божий, слишком слаб, чтобы укрепить веру господню в людях русских.
Тогда царь встал перед Никоном на колени и, к великому изумлению окружающих, смиренно и слезно стал умолять его:
– Дело Патриарха твое, святейший! Только ты можешь спасти нас от греха великого, укрепить и направить. Не откажись принять патриарший посох!
– Будете слушать меня?! Даете в том твердое слово? – обратился Никон ко всем архиереям. – Дайте слово и обещание, что будете исполнять евангельские заветы, правила святых апостолов и святых отцов, законы благочестивых царей! Если обещаетесь слушать меня во всём, как пастыреначальника и отца крайнейшего, то по желанию и прошению вашему не могу отрекаться от великого архиерейства.
– Даем… обещаем… – послышалось со всех сторон, и все опустились на колени.
Никон, стоя на амвоне, возвышался над всеми. У его ног простерлись ниц не нищие, не крестьяне, не простые монахи, а бояре, воеводы, отцы православной церкви. И сам царь Всея Руси…
Великая минута, великий день!..
* * *
Тикшая взял к себе на ночлег Матвей Иванович. Стрешневы жили в маленьком переулочке, по-деревенски заросшем травой.
– Вот мое обиталище, – сказал сотский, когда они дошли до большого кирпичного дома. Широкие окна затянуты слюдой. Справа от улочки зеленел лес, сзади протекала Москва-река.
– Ты, Матвей Иванович, живешь как боярин! Что, с Новгорода стрельцов пригонял такие хоромы строить? – с восхищением сказал Тикшай.
– Вот этими руками с братом Павлом и с мурзой Ибрагимом его подняли! – Матвей Иванович раскрыл широкие мозолистые ладони и кивком головы показал на отлогий берег реки. – А там место, где кирпичи обжигаем. Глины сколько хочешь бери под обрывом!