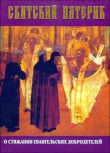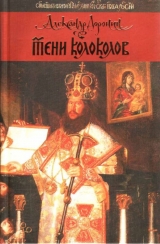
Текст книги "Тени колоколов"
Автор книги: Александр Доронин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 29 страниц)
Александр Доронин
Тени колоколов
Перевод с эрзянского Елены Голубчик
Глава первая
Коршун парил над дремучим лесом, в гуще которого было его гнездо. Знакомые места он по-хозяйски облетал дважды в день: после восхода и на закате. Сейчас дневное светило устало лежало на тонкой линии горизонта, и в его последних скупых лучах нежно млел весь западный небосклон. Коршун зорким оком оглядел гладь Волхов-реки, изрытое оврагами побережье и тёмные древние стены монастыря.
Река за прошедший день заметно изменилась: лёд вспучился и потемнел, как набухший горох. На берегу блестели в закатных лучах змейки ручейков, бегущих вниз, к реке. Сейчас, к вечеру, их затянуло тонкой плёночкой льда. Но придёт утро, встанет солнце, и они вновь заворкуют голубками на всю округу, журча на разные лады. И прибавятся новые проталины на пригорках, куда он, коршун, прилетит завтра поохотиться на мышей, зайчат или глупых перепёлок.
Не изменился за день только монастырь. Он остался таким, каким был сегодня утром, два дня или год назад, а может, и все пятнадцать лет, с тех пор, когда коршун птенцом, впервые вылетев из гнезда, увидел эти толстые башни из красного кирпича, незыблемо стоявшие на вершине горы. К ним вплотную подступали столетние сосны, будто охраняя это святое место.
Но вот на берегу Волхова рыбаки зажгли забытые костры, и в догорающее закатным огнём небо потянулись струйки дыма. К ним присоединились дымные столбы из бедных рыбацких хижин и монастырских келий.
Запах дыма и огни коршун не любил. Поэтому он ещё раз кинул взгляд на монастырь, который напомнил ему плывущий корабль, виденный им на Варяжском море, тяжело взмахнул крыльями и полетел в свое гнездо.
В двухэтажном каменном здании, возвышавшемся над остальными строениями монастыря, зажглось тусклым желтым пятном одинокое узкое окно. Там – покои митрополита Никона. Много часов он молился, не вставая с колен. До самых сумерек в покоях теплилась лампада, освещая лики святых на образах.
Никодим, служка митрополита, ленивый и медлительный монах, тихо вошел со свечой и поставил ее на стол. Постоял, ожидая приказаний, и, не дождавшись, вновь тихо ушел.
Владыка молился:
– Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое… – В начале молитвы к Богу Никон обращался шепотом. Но к концу слова его твердели, и он заканчивал во весь голос: – Не отвержи мя от лица Твоего и Духом Владычным утверди мя.
Этой ночью Никон много передумал и взвесил, душу свою до последнего потайного уголка Богу на суд представил, а заодно и дела свои грешные. Как тут не просить у Господа покаяния? Да и в вере укрепить себя лишний раз не помешает. Днем раньше пришла сюда, в Юрьев монастырь, весть о прибытии Патриарха Иосифа. У Никона и сон, и аппетит пропали, думы измучали. Зачем едет в такую даль Патриарх? От Москвы до Новгорода путь неблизкий, да ещё по таким дорогам ранней весной. Неспроста это. Не затем же едет, чтобы послушать, как Никон служит литургию Великим постом. Нет. Не иначе, как сам царь Алексей Михайлович посылает его. Хоть и прозвали его «Тихим», но он всё же царь, бог здесь, на земле Русской. Как его не послушаешь?!
Весть о приезде Патриарха выбила Никона из колеи. Не шли на ум даже святые книги, его утеха и отрада, над которыми он обычно проводил долгие зимние ночи.
Владыка закончил псалом и легко поднялся с колен. Он ещё не стар, крепок телом и здоровьем. Свеча на столе оплыла и, догорая, сильно чадила. Он зажег другую и посмотрел на открытую тут же книгу. Не читалось. Потом он бесцельно ходил взад-вперед по обширным своим покоям, больше похожим на молитвенный зал. В красном углу огромный иконостас, одна стена сплошь из цветных стеклянных витражей, привезенных из Византии, на другой – разных размеров и форм распятья, целая коллекция православных крестов.
– О Преславная Матерь Божья, помилуй мя, раба Твоего, и прииди ко мне на помощь… – вспомнил вдруг Никон о последнем средстве успокоения. Ему захотелось поклониться чудотворной иконе Богородицы, ее подарил когда-то Никону Стефан Вонифатьев, духовный отец царя. Одна она умела успокоить владыку. Но икона держалась в Георгиевском соборе, и не с руки идти туда ночью, тем более скоро заутреню служить.
– Бом! Бом! Бом! – раскололась тишина колокольным звоном.
Уходила ночь, наступал новый день, последний перед Великим постом. В народе этот праздник зовут Масленицей.
Во всех новгородских соборах – Софийском, Красновоздвиженском и Георгиевском – пройдут пышные службы, а потом новгородский люд устроит гулянье с плясками, катаньями, играми и, конечно, обязательно блинами.
Вспомнив о блинах, Никон почувствовал, как он голоден и озяб. Посмотрел на изразцовую голландку в углу – угли в ней подернулись серым пеплом, огонь давно погас. Нерадивый Никодим забыл о своих обязанностях. Владыка взял свой посох, украшенный драгоценными камнями, и громко постучал им об пол. Только после сердитого окрика Никодим появился в покоях и засуетился у подтопка.
– Где моя Псалтырь, Никодим? – грозно спросил слугу Никон, усаживаясь в мягкое кресло. – У меня есть ещё время до заутрени, хочу отдохнуть.
На столе любимого молитвенника не было, на киоте – тоже. Никодим в растерянности таращил свои глуповатые круглые глаза, он знал, что, в случае чего, пропажа Псалтыри ему не простится. Эту книгу владыке подарил когда-то царь Алексей Михайлович (Никон тогда был игуменом в Новоспасском монастыре и правил службы в присутствии Государя Всея Руси). Никон очень дорожил подарком и берег пуще глаз своих. Обтянутая бычьей кожей с медными застежками и уголками, писанная хорошими красками и украшенная затейливыми буквицами – книга была целым сокровищем. Да ещё и памятью о царской милости.
– Так где Псалтырь, бездельник? Что молчишь, как рыба? Или язык отнялся? – Никон замахнулся на съежившегося слугу посохом, но не ударил. Опустил руку и осенил себя крестом:
– Господи, избави мя, грешного, от козней сатанинских…
Никодим, видя, что молния гнева пролетела мимо, немного пришел в себя и вспомнил:
– Она в трапезной была… Должно, и сейчас там. Прикажете – мигом принесу.
– Мигом! Знаю я, как ты мигом! Тебя за смертью только посылать. Сам схожу. А оттуда – в собор сразу. Тулуп мне захвати. На дворе, чай, холодно… – и, постукивая посохом по каменным плитам пола, владыка вышел в темный коридор. На поставце у дверей владычных горели свечи. Он взял одну в руки и, освещая впереди себя путь, стал осторожно спускаться по ступеням.
– Благослови, владыка! – неожиданно раздался из темноты чей-то голос. От испуга Никон едва не выронил свечу. Но тут же взял себя в руки и, рассердившись на самого себя («Что же бояться, коль я здесь хозяин?!»), строго спросил:
– Кто ты, божий человек, и как сюда попал?
– Сторожем меня поставили, владыка! Тикшай я, послушник.
Подойдя поближе, Никон узнал его: это, действительно, был Тикшай, эрзянский парень, выходец из родных мест Никона. Молодой послушник всегда кичился этим перед другими: знал, что есть у него защитник. Владыка часто приглашал парня в свои покои, чтобы поговорить на своем родном языке, вспомнить сельчан и общих знакомых. Он будто молодость возвращал ему, напоминая о родных местах, народных праздниках и обычаях.
Владыка скривил губы и молча пошел дальше, бормоча себе под нос: «Аки тать из темноты… Ох, молодо-зелено! Пестуешь, пестуешь, а разума не прибывает. Неслухи!».
Тикшай покорно шел сзади, не чувствуя, однако, никакой за собой вины, хотя и слышал недовольные слова Никона. Другому, может, и не простилось бы, а ему владыка всегда прощает.
Никон шёл уже более уверенно по тёмным и узким переходам монастыря, так как за спиной теперь был надежный страж. Мысли его невольно от Тикшая перешли к молодым людям вообще. «Вот закончится война с Ливонией, обновлю монастырь, – думал он с какой-то светлой радостью. – Молодые хоть и грешат много, но всё равно они – надежная сила». Радость тут же погасла. Владыка вздохнул: «Куда же я их возьму-то? Монастырь тесен, ветх, в каждой келье и так по два-три старых монаха живут. Да и где молодых возьмешь, когда они государю нужны, не успевает войско набирать. С одной стороны поляки лезут, с другой – литвины. На юге от турок покоя нет. Да и в святой церкви порядка и единства нет. В монастыре вот и то дел невпроворот. За всё приходится платить, а денег не хватает. Чтобы переделать крышу Софийского собора, плотникам отвалили по карману серебра, да четырех бычков резали.
Где возьмешь денег на новые постройки, если монастырь два взноса отдает: в царскую казну и патриаршим службам? Божьи деньги должны идти на божьи дела… А государю бы побольше следовало о церковных делах пектися».
Никон остановился и оглянулся с опаской: не произнес ли он последние слова вслух? Но Тикшай, сопя, наткнулся сходу на него и испуганно сказал:
– Прости, владыка! Задумался я…
– О чем же ты задумался, отрок? Что ты можешь знать, кроме овец и коров? – Никон усмехнулся, но, заметив тень обиды в лице послушника, сердито добавил: – Может, ты ведаешь, почему люди враждуют друг с другом?
– От голода и болезней, владыка!
– Нет, ошибаешься, грешная душа! От людских грехов тяжких, от долгов неоплаченных за зло, другим чинимое, вся крамола змеиная на земле. И укрепит наши силы лишь одна святая истина.
– Какая же, владыка? – дрожащим голосом едва слышно произнес послушник. От грозного голоса и колеблющейся огромной тени Никона на мрачной каменной стене у него сердце ушло в пятки.
– А истина такова, сын мой: вера единая! Народы должны служить одному Богу, могущественному и сильному.
– Но жители нашего села молятся разным богам, и ничего, сил не убавилось… – робко возразил Тикшай.
– У наших сельских людей семьдесят богов. Это большая беда, парень. Их ещё не посетил свет разума, во тьме и зле влачат они свое существование. Пора и им обрести Христа, потому что нет на земле сильнее Бога. Нет для людей лучше заступника и спасителя.
– Как же Он один-то везде успеет и за всеми? Нас вон сколько! И земля ой какая большая! Уследит ли Он один? Осилит ли?
– Да, парень, тебе ещё долго придется за быками ходить, пока не прозреешь! Ступай на свое место!
Никон не на шутку рассердился: с этим парнем он зря время теряет. Сколько раз наставлял и внушал, да всё попусту. А всё потому, что упрямый, своенравный! Вот и сейчас покориться не хочет, стоит, не двигаясь, и взора не опускает.
– Что застыл, ступай, говорю!
– Уйду, владыка. Только все же скажу: у моего народа много богов, но ни один из них не посылает убирать навоз со скотного двора.
– У, сатана! – Никон погрозил Тикшаю посохом. – Уходи, пока я не рассердился по-настоящему.
Тикшай больше не стал испытывать терпения настоятеля, поклонился и исчез в темноте. Никон открыл дверь в трапезную, мысленно продолжая диалог с Тикшаем. «Да, он не отошел от эрзянской веры. И не скрывает этого. Но ведь повесить крест на шею ещё не означает – предать своих богов. Как сказал апостол Павел, – дух божий в душе неси…».
Где-то громко пропел петух. Никон вздрогнул. Пламя свечи качнулось и задрожало, готовое вот-вот соскользнуть с тоненького стебелька фитиля. Прислонив к столу посох, владыка торопливо перекрестился и подошел к окну. Начинался мутный белесый рассвет. Из щелей окна тянуло дымом и свежестью талого снега.
Петух пропел ещё раз, голосисто и длинно. Начинался новый день.
* * *
Юрьев монастырь со всех сторон опоясан высоким каменным забором, в котором пробиты бойницы. Не монастырь – крепость. В XI веке, когда он был построен, здесь проходил торговый путь от Балтийского моря до Черного, от варягов к грекам.
Юрьев монастырь богател и расширялся, крепло и могущество Новгорода. Воздвигнут был кремль, основание которому положил Софийский собор. Белый, величавый, как лебедь, он словно парит над городом. Пять его куполов сияют на солнце.
Несмотря на раннее утро, площадь перед собором запружена народом. А люди все прибывают и прибывают. Пришлось закрыть ворота кремля, чтобы не допустить давки. На их охрану по приказу Никона поставили стрельцов. Кто знает, что на уме у этого голоштанного люда? Глядеть пришли на прибывающего Патриарха или челом бить заступнику на притеснения господ?
Толпы народа стояли и на берегу Волхова, до самого пешеходного моста.
– Е-е-е-ду-ут! Е-е-е-ду-ут! – шквал голосов донесся по живой цепи, как эхо. И площадь колыхнулась к воротам. К ликующим прибавились вопли боли и ужаса: кого-то прижали, задавили.
– Ку-да? Ку-да! Чертовы дети! Куда прете?! Осади!! – На пути неуправляемой толпы встали всадники с бердышами и пиками наперевес.
Толпа отхлынула назад и, теснимая конными, разделилась, образовав широкий проход посредине. По нему во главе с Никоном двинулся навстречу высокому гостю весь причет церковный с иконами и хоругвями.
Пока встречающие переправлялись через мост, конный отряд, показавшийся из леса, приблизился так, что можно было рассмотреть богатую сбрую на коренниках и лихо заломленные бараньи шапки всадников. В середине отряда двигалась повозка, запряженная пятью лошадьми. Но вот послышалась гортанная команда, и всадники остановились. Один из них спешился и, подбежав к повозке, открыл дверцу. Неловко путаясь в полах длинной медвежьей шубы, из повозки с трудом выбрался маленький седой старичок. На его изможденном лице высохшей редькой плясал большой нос. Глаза смотрели цепко и внимательно.
Старик, как осторожная умная собака, потянул носом весенний, напоенный на сосновой хвое воздух, и улыбка блаженства озарила его лицо.
– Дон-дон! Бом-бом! – загудели на все лады колокола Софийского собора. От большого колокола, казалось, гудит сама земля. Он заглушил говор толпы, фырканье лошадей и птичий щебет.
Малые колокола, словно яркие цветы на лугу, радовали душу. В них слышались воркование голубей, детский лепет, колыбельная матери, чарующая песня гусляра.
Никон и сопровождающие его опустились на колени перед Патриархом. Он медленно поднял правую руку для благословения встречающих. Колокольный звон мешал новгородцам услышать слабый голос Иосифа.
Наконец большой колокол смолк. Утихли и подголоски.
Иосиф сделал знак всем встать. Никон легко поднялся с колен и приблизился, чтобы поцеловать руку Патриарха. Теперь они стояли рядом, оба владыки. Один – крепкий, могучий, как дуб, с душой, полной страстей, планов и надежд. Другой – дряхлый, слабый, словно полынь, пригнутая поземкой: ей уже не распрямиться, не вырасти…
«Постарел, очень постарел Патриарх! – удовлетворенно отметил про себя Никон. – Небось, я думает, что мы тут трепещем от его вида? И доволен. По лицу вижу – доволен встречей. Но это ещё не все, отче! Я тебе ещё радость припас!» – и Никон, не оборачиваясь, махнул кому-то рукой. В это же мгновение монастырский хор, гордость и слава владыки, запел «Верую». Будто райские ангелы слетелись на берег сурового Волхова. Благость разлилась в воздухе.
На глаза Иосифа навернулись слезы и крупными горошинами покатились по морщинистым щекам. Он собрался что-то сказать, но тут – откуда ни возьмись – под ноги Патриарху выкатилось чудо-юдо невиданное. Сверху глядя, вроде человек: лохматая нечесаная голова, драный тулупчик, руки до полу, опираются на какие-то колодки. Да и голос человеческий, мужицкий, с хрипотцой:
– Выслушай, батюшка, защитник владычный! Помоги рабам твоим, избави от гадюк!
Человек ещё ближе подкатил к Иосифу. Пытаясь поклониться, упал лицом в грязь. Теперь стало видно, что у мужичка нет ног и сидит он на тележке, пристегнутой ремнями к туловищу.
– Ну, говори, божья овца! Какие гадюки тебя жалят?
В голосе Патриарха Никон уловил нотки брезгливости и презрения. И не только в голосе. Иосиф подобрал полы шубы, чтобы проситель не мог дотянуться до них грязным лбом.
– Вон они, заступник! Рядом с тобой стоят, – калека ткнул колодкой в сторону священнослужителей, почтительно стоящих поодаль патриаршей повозки. – Митрополит – кровопийца, да и другие батюшки не лучше. У-у-у, гадюки!!! – Глаза его засверкали ненавистью, а из простуженного горла вместе с хрипом вырвались угрозы.
– У-у-у! – Не то удивление, не то страх прокатились по толпе. И все замолкло. Рты окаменели. Дыхание остановилось. Слышалось только всхрапывание усталых лошадей.
На Никоне не было лица. Но, несмотря на растерянность, он владел собой и понимал, что сейчас нельзя говорить, нельзя оправдываться, прежде чем Иосиф молвит сам.
Патриарх отвел спокойный взор от лица митрополита и обратился к калеке:
– А не скажешь ли ты, раб божий, чем же плох владыка?
– Почему же не сказать, скажу, коль послушаешь. Людей он не любит, а это великий грех. Христос любил, ради них на мученическую смерть пошёл, а владыка наш сам всех готов смерти предать.
– Ну довольно! Ты свою душу очистил, теперь ступай. Пусть Бог вознаградит тебя за радение – и ноги вновь отрастут.
Иосиф наклонился над ним, чтобы благословить его, и невольно отшатнулся: на месте правого глаза несчастного – пустая глазница.
Бормоча слова благодарности, мужичок – ёрк-ёрк, – упираясь руками в рыхлый снег, уполз в сторону. А Патриарх с раздражением сказал Никону:
– Ну что, святой отец, веди теперь к себе. Я устал, спина после долгой дороги ноет.
Кибитки и верховые повернули направо, к большому мосту. А Патриарх с Никоном и приближенные отправились по пешеходному мосту. При ходьбе гость дышал тяжко, с трудом переставлял ноги. Никон видел, каких усилий стоил ему каждый шаг. На кремль, монастырь и встречавший его люд Иосиф глядел с полным безразличием. Голова его мелко тряслась, дергалась редкая седая, но аккуратно расчесанная борода. И Никону казалось, что Патриарх недоволен им, сердит и раздражен: «Ну вот, я и пришел посмотреть, как ты здесь служишь Господу и Государю нашему…».
* * *
Во время службы в честь Прощеного воскресенья Никон забыл обо всем на свете, как всегда во время молитвы забывал о своих грешных помыслах, житейских заботах, мирских соблазнах. Он был наедине с Богом. В многолюдном соборе один на один с Владыкой небесным. Никон здесь, у престола, а Господь там, наверху, где под куполом сияет неземной Спас Преображенский.
Лицо владыки было мокрым от слез. Он забыл о случившемся возле реки, о сердитом Иосифе, о своей усталости. Голосом, полным восхищения и восторга, он восхвалял земные деяния Христа. Дрожали, мигая, свечи в поставцах, а ближние из них гасли, когда Никон начинал выводить:
– Яко Ты еси един свят, Ты еси един Господь, Иисус Христос в славу Бога Отца. Аминь!
Словно колокол, литой из гулкой звонкой меди, гремел голос владыки, заполняя собор. Что и говорить, умеет Никон призывать к себе Бога. Даже царь, Алексей Михайлович, не раз говорил ему: «Когда слышу твое пение, кажется, не на земле живу, а на небесах…».
Закончилось богослужение. Два монаха под руки вывели вперед Патриарха. Слабым дребезжащим голосом он стал рассказывать, как ходил отроком в Израиль, на святую гору Афон. Но вскоре то ли устал, то ли заметил, что большинство присутствующих его не слушают, замолчал и, повысив голос, вдруг громко возвестил:
– Братья! В этом светлейшем Софийском храме я, главный пастырь Руси, готов порадоваться за нового митрополита Новгородского, посвятившего свою жизнь восхвалению Христа. Государь наш повелел мне передать его монаршие милости вашему духовному наставнику.
Никон сделал знак хору, и под своды храма снова вознеслась благодарственная песнь:
– Слава в вышних Господу Богу, и на земли мир, в человецех благоволение…
Затем Иосиф передал митрополиту запечатанный сургучом свиток. Это было письмо царя.
Взволнованный происшедшим, Никон не сразу пришел в себя. Мысли путались, в груди гулко колотилось сердце. Вернувшись из собора к себе в келью и изнутри заперев за собой дверь, он рухнул на колени перед киотом и застонал:
– Господи! Ты принял мою жертву! Я не напрасно положил на Твой алтарь всех богов своего народа! Ты, мой заступник и спаситель, наградил меня и приблизил к себе. Обещаю, Господи, служить Тебе верой и правдой до последнего своего часа.
Лампада ровно освещала лики Богородицы и Спасителя. Но вдруг почудилось Никону, или слабый огонек от его горячего шепота дрогнул, что покачал головой Христос с осуждением: «Никита Минов, а чиста ль твоя душа? Ты предал богов своих предков. Не предашь ли Меня?».
Никон в ответ на это страстно и истово зашептал покаянный псалом, касаясь лбом самого пола:
– Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое…
Да, ему есть в чем покаяться и перед Господом, и перед людьми. Только он один знает, как жгут душу эти слова: «Ты предал богов своих предков». Так ему сказал и жрец Пичай из Вильдеманова. Более тридцати лет прошло с той поры, а упрек старца до сих пор бередит сердце. Но что ж делать, он избрал свой путь и пойдет по нему до конца. Для всех он теперь не эрзянин Минов, а митрополит Новгородский, властитель и владыка, любимый царём.
Никон скороговоркой закончил псалом, стал смотреть в лицо Спасителя, широко перекрестился и встал с колен. Распахнул скрипучую створку окна и полной грудью вдохнул бодрящий весенний воздух.
* * *
Иосиф собрался отправиться в Москву через три дня. Но неожиданно слег. Изношенное больное сердце не выдержало долгого пути.
Чем только ни лечили Патриарха, но острые боли не проходили, мучила одышка. Полусидя в высоких подушках, тяжело дыша, Патриарх думал о своей жизни, которая подходила к концу. Когда боль отступала, он звал монахов – Аффония и Исидора, ухаживающих за ним, начинал расспрашивать о местных монастырских делах и порядках. Монахи рассказали, что митрополит не сидит без дела. При нем увеличились монастырские взносы и монастырские земли. По указу новгородского владыки у нерадивых землевладельцев отбирались неухоженные поля. За монастырем, на берегу Волхова, Никон построил две новые мельницы, которые мелют зерно для городских жителей. Свои три мельницы тоже в полном порядке, обеспечивают мукой монастырь. Кроме этого, в монастырском хозяйстве восемьдесят коров. Есть крупорушка, маслобойня.
– А как в соборе службы поставлены? – спрашивал Патриарх Исидора и Аффония, поднося к губам белый тонкотканый платочек.
Монахи, низко кланяясь, степенно рассказывали. Иосиф слушал. Иногда останавливал их жестом слабой руки и начинал вспоминать о своих прожитых годах, о монастырях, в коих жил, о литургиях, которые проводил. Монахи терпеливо слушали, пока Патриарха не сморил сон. Крадучись, вышли из покоев.
Но недолгим был тревожный сон старца. Приснилось ему, что идет он по густому темному лесу. И – откуда ни возьмись – накинулись на него разбойные люди. Окружили, грозят расправой. А за что? За какую провинность? За какое зло? И вдруг видит: от могучего бородатого детины тень упала на землю, отделилась от него, сделалась большим крестом и скрылась за темными стволами деревьев.
Проснулся Патриарх в холодном поту, все тело дрожь пробирает. Позвал монахов. Те вошли, замерли у порога, пряча догадливые взгляды.
Иосиф, словно капризное малое дитя, начал жаловаться на скуку, одиночество и владыку, который забыл про него, навещать не идет.
Переглянулись монахи: как бы впросак не попасть с ответом. Младший подтолкнул в бок старшего. Тот осторожно молвил:
– Наш архипастырь обычно ходит по утрам на пристань беседовать с рыбаками или в посад – с работным людом. Вот управится и придет к Вашей святости…
– И о чем они там беседуют?
Исидор, державший в своих руках до недавнего времени все монастырские богатства, а теперь прогнанный со своего келарского места, был зол на Никона. Тут он понял, что может воспользоваться моментом и отомстить обидчику, поэтому стал рассказывать так:
– Не знаю, святейший, о чем владыка с новгородцами беседует. Но ведаю, что всякий раз заходит к ворожее, которая живет недалеко от пристани. И ходит к ней тайно, огородами.
У Патриарха от удивления глаза выпучились и рот открылся, отчего остренькая бороденка уперлась в грудь. А Исидор, не дав опомниться, продолжал вкрадчивым голосом:
– Недавно гадалка в монастырь приходила. Днем, никого не стесняясь, вся в черном, как ворона… И прямо в келью владыки. А он дверь запер и никого не велел пускать. Потом эта ведьма весенней бабочкой из кельи выпорхнула.
Неизвестно, что бы ещё рассказал монах, ослепленный местью, если бы в эту минуту в покои не зашел сам митрополит. Он остановился у порога, широким взмахом руки перекрестился на образа и густым басом произнес:
– Здравствуй, святейший! Прости, что долго не шел. Дела задержали.
Аффоний услужливо подвинул Никону скамью к постели Патриарха. Иосиф тяжело вздохнул и капризным голосом сказал:
– Мое дело – лежать и болеть. За овцами Всевышнего, как я слышал, другие бдительно смотрят…
Никон кинул взгляд на присмиревших монахов. Ему стало ясно, откуда дует ветер.
– Что здесь наплели эти оловянные головы? – Иосиф сопел и молчал. Никон уже помягче, обращаясь только к Патриарху, продолжил:
– Наши овцы, святейший, – люди простые, но и у них есть душа, они ходят по одной с нами земле. Солнце взойдет – лица у них светлые. Скроется за Волховом – ждут ясного нового утра. Все мы под Богом ходим…
– Ты прав, святой отец, – примирительно сказал Патриарх, – без пастуха стадо оставлять нельзя. Вот уж встану на ноги, тогда… – Он немного помедлил, будто собираясь с мыслями, и добавил: – Тут ко мне верующие заходили, на тебя жаловались, земли их будто бы забрал для монастыря. Правда это, сын мой?
Никон прекрасно знал, что к Патриарху никто не приходил, по его собственному приказу в покои никого не пускали. Значит, сплетни эти монахи принесли. Он сделал вид, что обиделся на незаслуженное обвинение и возмущенно сказал:
– Я воровством и грабежом не занимаюсь, святейший, а Богу служу! А если в том есть сомнение, то с меня надо снять ризу митрополичью. – И Никон, встав со скамьи, сделал вид, что собирается снять одежду. – Верни ее Государю своими же руками…
– Постой, сын мой! – неподдельно испугался Патриарх. – Не горячись и прости неразумного старика, что послушал глупых наветов!
Иосиф на мгновение представил, что произойдет, если он привезет в Москву митрополичье одеяние Никона. Царь не поверит ему и строго накажет за невыполнение своей воли. Все знают, как Алексей Михайлович любит Никона и благоволит ему.
Никон понял, что достиг цели, сел и, ласково глядя на трясущегося старика, сказал:
– Мне самому ничего не надо, святейший! Вот ряса да четки – все мое богатство. Остальное я добываю для Государя и Церкви. И земли эти треклятые, о коих ты говоришь, я к монастырским землям присовокупил. Их забросили бывшие хозяева: не сеяли, не пахали, осот да васильки разводили, а сами гуляли-бражничали. Зато теперь их не узнать: немало конопли, льна и жита родят, кормят, поят и одевают монастырскую братию и ещё в цареву казну копеечку несут.
Иосиф лежал и слушал с закрытыми глазами. Он смертельно устал от этого разговора и не чаял, когда митрополит покинет его покои. Никон словно прочитал его мысли, тихо встал, почтительно приложился губами к сухощавой руке Патриарха, лежащей поверх одеяла, и вышел из кельи, поманив за собой прислужников. Те, испуганно озираясь, последовали за ним.
У себя в келье Никон велел принести ужин и большую корчагу квасу. Потом сел к столу и стал писать царю письмо. Оно должно опередить и самого Иосифа, и его доклады. От Никона из первых уст Алексей Михайлович должен узнать, как живут-молятся новгородские монахи, как тяжело болен Патриарх. Но самое главное, ради чего составлялось это послание, было далеко от Новгорода. В Соловецком монастыре почивали мощи святителя Филиппа, митрополита Московского, убиенного в царствование Иоанна Грозного. Давно пора вернуть эту святыню верующим, возвеличить святителя, воздать ему почести, а заодно искупить грех Рюриковичей перед Богом и Церковью. В письме Никон осторожно, но настойчиво давал понять, что этот шаг возвеличит Алексея Михайловича, добавит ему любви народной. О том, что это укрепит авторитет митрополита Новгородского и принизит царя перед Церковью, Никон, конечно, умалчивал.
Закончив письмо, растопил сургуч на пламени свечи, аккуратно свернул белую тонкую бумагу, которую подарил ему воевода Хилков, а тому продали заморские купцы, запечатал и приложил массивный золотой перстень с указательного пальца правой руки. Сам вышел на заднее крыльцо, где его дожидались два всадника.
Потом вернулся в келью, прилег на твердую, как камень, постель. Но сон не шел. Было Никону что вспомнить и о чем пожалеть. Какие только пути-дороги не прошел он за свою жизнь, каких людей не повидал! Алексей Михайлович святым его считает, к советам его прислушивается. А какая уж тут святость… Сколько греха за свою жизнь принял! Одиночество душит: ни одного близкого человека нет рядом. Была жена любимая, сыновья… А теперь только монахи кругом. И монастырские стены давят. Да тени колоколов пугают по утрам, напоминая крадущихся воров. Однажды Никон признался в своих страхах Никодиму. Тот успокоил:
– Это от усталости, владыка! Молишься, молишься всю ночь…
Долго думал об этом Никон, тяжелыми мыслями все сердце растревожил. Наконец не выдержал, позвал Никодима и, не обращая внимания на его недовольный вид, стал расспрашивать, кто был в монастыре в его отсутствие.
Никодим, шаркая ногами и кряхтя, потушил свечу и ворчливо сказал:
– Воевода Федор Андреевич заходил. О тебе спрашивал. Я сказал, что не знаю, куда ушел.
– Балда! Как это не знаешь? Я же тебе утром сказал, что еду в Валдай отливать колокол.
– Слаб я стал памятью, владыка! – пробурчал старый монах и спросил: – Печку натопить?
– Под утро натопишь, когда у тебя ноги замерзнут. А сейчас укрой меня потеплее и проваливай!
Никон сразу согрелся под одеялом из овечьей шерсти, всё тело объяла приятная истома, незаметно подкрался сон.
* * *
Федор Андреевич Хилков вышел на крыльцо и тут же сквозь легкий кафтан почувствовал утренний холод, зябко поежился. Простуда крепко сидела в нем, не помогали ни баня, ни знахарка. «Вот дурак, – ругал себя воевода, – нашел чем хвастаться – здоровьем богатырским! Вот Бог и наказал за грех такой, чтоб впредь спьяну в прорубь не лазил».
На перилах и ступеньках крыльца сверкал новизной нетронутый иней. Он посеребрил и двор, и понурые ивы у забора, и убегающую к лесу дорогу, и монастырь, освещенный первыми лучами солнца. Золотым огнем горели маковки Софийского собора и строящегося Воздвиженского.
Федор Андреевич, полюбовавшись округой, вдруг вспомнил вчерашнюю встречу с митрополитом, и настроение его испортилось. Владыка принял его сухо, строго отчитал за стрельцов, частенько озорующих в Новгороде. Воевода и сам знал, что кто-то из них крадет мелкий скот в посадах, тащит, что попадётся, из винных лавок, пристает к молодухам и вдовам. Разве уследишь за всеми? Разве укараулишь каждого?.. Воевода чувствовал, почему так недоволен Никон его службой: видно, хочет и город с жителями к своим рукам прибрать, везде хозяином быть. Да что и говорить, если он с самим царем в дружбе, царь его ласкает, волю вон какую дал – митрополитом сделал! Из Москвы Хилкову только приказы-указы везут: то сделай, другое выполни, а главное, Юрьев монастырь надежней охраняй. «Что его охранять, от кого? – в раздражении думал Федор Андреевич. – Ему и так ничего не грозит, все в округе и монахов, и Никона боятся…».