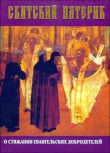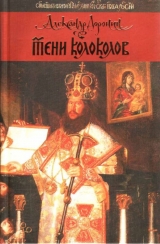
Текст книги "Тени колоколов"
Автор книги: Александр Доронин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 29 страниц)
Об этом донесли царю. Алексей Михайлович, скривив губы, бросил:
– В острог обеих сестёр! В Боровск отвезите, пусть в земляных ямах молятся!
* * *
И вот по столице Федосья Прокопьевна едет на холодных дровнях. «Пусть одумается боярыня, на кого руку подняла, и сама себя проклянет». Так стрельцам наказал Государь. Чтоб больше отомстить ей, Ивана Морозова царь приказал отправить следом в теплой кибитке. Тот ехал как боярин, а сама боярыня – как нищий холоп. Но ошибся самодержец – этот «позор» ещё больше поднял авторитет Федосьи Прокопьевны. Когда вывели ее из Кремля всю в кандалах, она двумя перстами стала креститься, встав лицом к ближайшему храму.
Ещё тешила себя надеждой, что царь не удержится, в окно посмотрит. И не ошиблась. Алексей Михайлович глядел на нее из-за штор и всё думал, откуда берутся такие несгибаемые люди. Не мог знать Государь Всея Руси, что последний путь по Москве гонимой им боярыни Морозовой войдет в историю, и она сама останется в памяти народной как символ истинной веры и русского патриотизма. Но это будет потом, через годы и поколения.
А пока по столице искрящими кострами ходили небылицы. Поговаривали, что из далекого монастыря вновь возвращается Никон и царь только поэтому удалил из Москвы боярыню. Другие, наоборот, Никона видеть не жаждали. Называли его коршуном, склевавшим невинную голубку. Сколько уж не было у власти этого богоборца, а в вину ему всё ставили чужие грехи… Поговорить на Москве любили. На то и столица, ей то, что не бывает, снится.
* * *
У Ферапонтова монастыря во владении было шесть селений, рыбная пристань, лесные угодья и луга. Имел монастырь пасеку, большой сад и небольшую ткацкую мастерскую. Слава Богу, всем он богат. Одно плохо – кельи холодные. Толщину стен не измеришь, сложены они из дикого камня и зимой затягиваются толстым слоем инея. И откуда свежему воздуху там быть, если окна келий с голубиный глаз, а двери с собачий лаз. Что ещё хуже – игумен жадный. От скаредности своей готов монахов кормить одной ухой да жидкими щами. В черном теле держит братию игумен Афанасий. От голода хоть помирай!
– Э-эх, – с досадой прокашлял в рукав своей ризы игумен Афанасий. – Монахам придется и мясца выделить к празднику, не то меня под гору спустят. Здесь ведь их сила. – И жадно облизнул губы. Прямо в келью к нему заносят для причастия вино. В него келарь колгановый корень добавляет, оно само пьется, во рту божья роса оседает.
Афанасий, хотя и был тучным, как боров, от красного его лица костер зажигай, при людях прикидывался больным. На горло жаловался. Чтоб «согреть» его, вином каждый день забавлялся. «Греясь», так прилипал к корчаге – втроем не оттащишь. А когда пил, всегда молитвы распевал в келье, пусть все слышат, что он неустанно молится.
Игумен думал, что монахов обведет вокруг пальца. Ошибся. Те, кто в залатанных рясах ходят, взяли да свои головы подняли. Вывели Афанасия за ворот из кельи – и давай измываться. Михаил, драчун-инок, по лбу его пудовым кулаком стукнул. Не думал, что перед ним настоятель их огромной обители. Ни один монах за него не заступился. Кто-то даже сквозь зубы выкрикнул:
– Станешь нас голодом морить – в озере утопим!
Как Афанасий вырвался – сам не помнит. Вот уже пятый день, как он и на улицу не показывается. Стыдно выходить – на лбу огромный синяк. Разбитые губы тоже посинели. Одно ему осталось – проклинать душегубов, да что возьмешь криком – одни лишь слова… Только Пасское озеро убаюкивало сердце, а то хоть в петлю полезай.
Ить-бить, ить-бить, – шепчутся его синие волны, ласковым котенком играя у берега.
Кувшин вина Афанасий до дна осушил, и величиной с добрый рукав красная рыба была им съедена. От нечего делать вновь вернулся к прошедшим событиям, вспомнил, как Михаил дергал его за бороду, а стоявшие вокруг них монахи от смеха животы надрывали. «Во всем Никон виноват, это он их натравил, – вслух сказал себе Афанасий. – Привык там, в московских дворцах, интриги плести…» – Промолвил это и сразу язык прикусил: как бы не услышали его и не донесли им сказанное. Бывший Патриарх, злой и коварный человек, одни жалобы в Москву посылает.
Афанасий встал и посмотрел в окно. На улице уже вечереет. Дует холодный ветер, отчего молоденькие сосенки, посаженные в прошлую осень, дрожат и испуганно шепчутся, словно боятся будущей зимы. Скоро холода к крыльцу подступят – шли последние дни сентября. Вдоль всего побережья, опоясанного диким лесом, они настелили ковер из желтых листьев. Осень – завершение жизненного пути. Игумену она каждый раз напоминает о близкой смерти.
– Э-эх, грехи наши тяжкие! – вздохнул с тоской Афанасий. – Жизнь под уклон пошла, а что я видел? Зачем только в монахи пошел, молитва из горла не идет, голоса Бог не дал! Не мое это дело – у амвона стоять. Никона бы пригласить! Молитву он так бы пропел – и свечи в келье потухли бы. Диаконом бы его поставить или псалтырщиком. Нет, в Патриархи полез, душегуб, сам царь его боялся. А может, и до сих пор боится… Не дрожал бы – дорогих шуб не присылал. Зачем, спрашивается, шлет? Всё равно он их инокам дарит. Недавно одну шубу приставу Шепелеву подарил. Царевна Татьяна Михайловна, мол, прислала, носи на здоровье…
Игумен вспоминал и те дни, когда жили ещё без Никона. Хороши те денечки! Сам здесь был хозяином. Единственным и всевластным. Теперь Никон, в преисподнюю бы провалился, везде нос сует! Не таких, мол, яств ему таскают, не так красная рыба посолена, и грибы червивые. Привык к царскому столу, думает, и здесь будут кормить его как Государя! Монахи тухлую уху хлебают – и ничего, живут, Господу служат…
Тут Афанасий опять вспомнил о бунте братьев во Христе и о своем унижении. Его как жаром обдал стыд за свое пьянство и чревоугодие. «Мало, мало ещё братия меня наказала. Слава Богу, пожалели! А то ведь и убить могли. Запросто могли…»
* * *
То, что случилось с Афанасием, изменило и судьбу Никона. Из Москвы привезли какую-то бумагу, вместо Шепелева прислали нового пристава, Наумова. За владыкой он стал следить ещё зорче. После того, как пошептался с игуменом, тот к Никону и вовсе перестал заходить, словно его и на свете не было. Теперь бывший Патриарх целыми днями бродил по березовой аллее, что вокруг монастырских стен. Иногда с богомазом Промзой бродил, чаще всего – один-одинешенек, без сопровождающих.
Во время прогулок Никон всё вспоминал о пройденных жизненных дорогах, о том, что правильно сделал, а где ошибся и почему. Мысли, как вода в решете, утекали, в сердце оставались одни лишь страдания. Из монахов теперь ему никогда не подняться, это Никон знал.
Вот и сегодня он до позднего вечера бродил. Шла вечерня, кельи были пустыми, и ему пришла мысль помолиться в своих апартаментах. В храм он не ходит с того дня, когда туда стали выводить с охранником. Об этом раз он пожаловался Наумову. Тот взмахнул руками и сказал: «Я не виновен, владыка, то Москва приказала». Кто приказал – не сообщил. Никон и сам догадывался: Патриарх Иосаф, больше некому. Пользуясь сейчас своей властью, он любыми способами пытался принизить своего предшественника, только бы он духом не окреп, на прежнее место не претендовал. Куда ж тогда сам Иосаф денется?
* * *
Из Пустозерска, где влачили свое существование ссыльные борцы за старую веру, в Москву постоянно шли «вразумительные» письма. Получали их архиереи, и Патриарх Иосаф, и сам Государь. Писали втроем: Лазарь, Епифаний и Аввакум. По Москве ходила сплетня: у Лазаря и Епифания вновь выросли отрезанные языки. Аввакум, видимо, их общение с помощью жестов счел за «божью благодать». Не надо забывать и о том, что у Лазаря была отрублена правая рука, когда отрубали, как сообщил всем Аввакум, пальцы так и остались сложенными двумя перстами.
Чтоб усмирить узников, в Пустозерск царь прислал специального посла, вот только раскольники от старообрядчества не отказались. Держать их стали ещё строже: из ям не выпускали, в день давали по кружке кислого кваса да два кусочка черного хлеба. Правда, Аввакуму разрешили принять царевнины подарки: одежду. Во имя собственного спасения он от них отказался, всю зиму в земляной яме жил почти голым. Временами разум покидал его, и тогда он считал себя Иисусом Христом: «Бог положил на меня землю и небо».
«… Видишь ли, самодержавце? Ты владеешь на свободе единою русской землею, а мне Сын Божий подарил темничное сидение и небо, и землю; ты от здешнего своего царства в вечный свой дом пошедше, только возьмешь гроб и саван, аз же, присуждением вашим, не способлюся савана и гроба, наги кости мои псами и птицами небесными растерзаны будут и по земле влачимы; так добро и любезно мне на земле лежати и светом одеянну и небом покрыту быти; небо мое, земля моя, свет мой и вся тварь – Бог мне дал…»
Письма протопопа достигали и города Мезени, где была его семья, а также и Боровского монастыря, где томилась Федосья Прокопьевна. На лоскутах бумаги, которые склеивали-собирали для него обитатели монастырские, излагал свои думы, пожелания и поучения. Судил всех. Таким образом, Пустозерск стал пылающим костром, искры которого летели по всей России и от них загорались новые пожары. Раскол набирал силу.
Послания Аввакума летели далеким «другам» во все концы страны. Они поднимали гнев, будоражили, ещё больше раскалывали людей. Одна за другой открывались секты. Так, во Владимире их организаторами становятся иеромонахи Ефрем Потемкин и Авраам, в Смоленске – протопоп Серапион, на Соловках – иноки Досифей и Корнилий. Открылись новые обители (пустыни, как их называли раскольники) в Каргополе, Нижнем Новгороде. Казаки пустили раскольников жить под Саратов. Там возникло несколько новых староверческих сел. Иов Тимофеев, литовский боярин, который постригся в монахи и нарек себя Филаретом, на берегу реки Чиры открыл новый старообрядческий скит. Те скиты, на которые давила Москва, решались на невиданное: сжигали себя заживо. Такие «всеобщие костры» полыхали в Костроме, Ярославле, Вязниках, Сибири. Многие покидали родину и семьями бежали в Швецию, Турцию, Бессарабию, Австрию…
Россия вот-вот изнутри развалится.
Ходили слухи о конце света. Они были связаны с появлением книги Стефана Зюзянина о приходе Антихриста. Если верить Зюзянину, пришел тот момент, когда моральное падение «третьего Рима» – России – достигло крайней точки. Многие, дескать, Антихриста в лицо видели: страшнее страшного зверя он – из пасти огонь извергается, вокруг – зловоние распространяется и злобный рык… Понятно, что раскольники Антихристом считали прежде всего Никона. Потом, когда Патриарха лишили сана и заперли в монастыре, подозрение пало на самого царя. Аввакум не разбирался в средствах и ещё более – в аргументах. Он черпал их широко как в апокрифической литературе, так и в своем собственном воображении, обнаруживая при этом оригинальную, но временами довольно грубую фантазию. Его дух, более устойчивый, чем его физическая сила, не мог противостоять целому государству.
Алексей Михайлович был, конечно, Аввакуму не по зубам. Обратясь в 1669 году к царю с жалобой, которую он называл «последнею», хотя за ней последовало несколько других, путаясь в дебрях лиризма, не лишенный своеобразного красноречия, Аввакум, впрочем, соблюдал ещё некоторую меру и пускал в ход дипломатию.
«Теперь, – писал он, – из моей тюрьмы, как из могилы, в слезах я обращаю к тебе это последнее воззвание… сжалься не надо мною, но над твоею душою! Скоро, не сказав нам справедливого суда с такими отступниками, ты предстанешь вместе с нами перед лицом Верховного Судьи. Там твое сердце в свою очередь будет сковано страхом, но мы не будем в состоянии помочь тебе. Ты отказал нам в гробницах у святых церквей, хвала тебе за это! Разве лучше был удел святых мучеников?..»
Ответом на эти послания был приказ царя о казни пустозерских узников. 14 апреля 1682 года их заживо сожгли. Отцы церкви искренне верили, что с расколом покончено.
* * *
Федосья Прокопьевна Морозова прислонилась к узенькому окошечку острога и смотрела на небо, где занимающаяся десница гасила последние звезды. Почудилось ей, будто сверху на нее глядит Иван Глебыч, ее Ванюша, и спрашивает, как ей здесь живется-можется. Что она сообщит сыну? Одна лишь новость за последние месяцы – на днях от Аввакума ей сунули скрытное письмо.
Видно, за грехи великие Господь лишил бывшую боярыню единственного счастья: Иван Глебыч умер в прошлую зиму. Молодой, красивый, двадцать два ему не исполнилось, и поди-ка в раю живет, а не в царском аду. Конечно, из-за их мучений он так рано сгорел: из-за нее, родимой матери, и тетки родной, Евдокии Урусовой.
У Евдокии Государь не только свободу – последнюю надежду отнял – мужа, которого насильно женил на чужой женщине. И двое ее кровинушек-детушек, сынок и доченька, сиротами мыкаются. Вот уже второй год как они, Федосья Прокопьевна и Евдокия Прокопьевна, в земляной Боровской тюрьме последние месяцы и дни свои считают.
Глядя на небо, Морозова о Тикшае Инжеватове вспомнила. Где он теперь, ее грешная любовь?
Из-за угла подняла голову Мария Данилова, спросила:
– Боярыня, прочти-ка ты письмецо, чего от нас его скрываешь?
– Читай, сестрица, читай, – поддержала и Евдокия.
С улицы послышались крик стрельца и рычание собаки. Звезды, словно испугавшись их, спрятались за плывущие облака, на землю и взглянуть боялись.
Федосья Прокопьевна из-за пазухи вытащила вчетверо свернутый лист бумаги и, наклонясь к горящей лучине, начала читать:
«Свет мой, Федосья Прокопьевна! Друг мой сердечный, ещё дышишь ли ты, жива ли – не ведаю. Провещай мне, старцу грешну, един глагол: жива ли?
Увы, Федосья! Увы, Евдокия! Две супруги нераспряженная, две ластовицы сладкоглаголивых, две маслицы и два священника, перед Богом на земле стоящия!
Воистину подобии есте Еноху и Илии. Женскую немощь отложше, мужскую мудрость восприявше, диавола победиша и мучителей посрамиша, вопиюще и глаголюще: «придите телеса наше мечи сеците и огнем сожгите, мы бо, радуяся, идем к Жениху своему Христу».
О, светила великая, солнца и луна Русския земли, Федосья и Евдокия, и чада ваша, яко звезды сияющия пред Господом Богом! О, две зари, освещающий весь мир поднебесный! Вы забрала церковный и стражи дома Господня, возбраняете волком вход во святыя. Вы два пастыря, пасете овчее стадо Христово на пажитях духовных, ограждающе всех молитвами своими от волков губящих…»
Морозова разложила страницы на коленях и вытерла слезы.
– Пока жива, дышу с Божьей помощью, – тихо сказала. И снова начала читать:
«Не чюдно о вашей честности помыслить: род ваш, – Борис Иванович Морозов сему царю был дядька и пестун, и кормилец, болел об нем и скорпел паче души своей, день и нощь покоя не имуще; но супротив того племянника ево роднаго, Ивана Глебовича Морозова, опалою и гневом смерти напрасной предал, – твоего сына и моего света.
Увы, чадо дорогое! Увы, мой свете, утроба наша возлюбленная – твой сын плотский, а мой духовный! Яко трава посечена бысть, яко лоза виноградная с плодом, к земле приклонися…»
Руки боярыни задрожали, дальше она уже не смогла читать. Спрятала письмо за пазуху и вновь встала у окна, через мутные слюдяные стекла которого виднелся залитый розовым светом восток. Боярыня снова думала о сыне и о Москве, где у нее ничего не осталось. Дворцы ее отобрали, близких родных не было. Обоих братьев, Алексея и Федора Соковниковых, выгнали на Украину.
* * *
Под вечер Наталью Кирилловну словно ножом пырнули в живот. Начались схватки. Царь находился в Успенском соборе, за ним туда сбегал сам Кирилл Нарышкин. Услышав новость, Алексей Михайлович побледнел и заспешил во дворец. По коридору, где сидели няньки и мамки, он прошел, нервно сверкая очами.
В покоях царицы пряно пахло какими-то отварами. Все говорили шепотом. Слышалось только прерывистое шумное дыхание роженицы. Государь встал на колени перед ее ложем, погладил ее по голове. Наталья Кирилловна посмотрела на него большими испуганными глазами. Анна Петровна Хитрово, мамка царевича Федора, тронула его за плечо и кивком попросила отойти в сторону.
К царице подошла горбатая старушка, лицо всё в бородавках. Крючковатыми пальцами стала снимать с царицы покрывало. За нею с лоханью горячей воды встала высокая худая женщина с закатанными по локоть рукавами. От воды шел густой пар, а от горбуньи – запах ладана.
Анна Петровна прикрикнула на слуг, те стали покидать покои. Царица громко застонала, выгнулась дугой, напрягаясь, как тетива лука. Алексей Михайлович не мог больше смотреть на ее мучения, отвернулся и отошел к окну. Но крик, утробный и мучительный, достал его и здесь. Нет, он этого не вынесет! Алексей Михайлович повернулся, собираясь выйти, как услышал в это время писк новорожденного. Тяжело передвигая больные ноги, Государь подошел к жене. Анна Петровна во весь рот улыбалась:
– С сыном тебя, Государь!
Высокая худая повитуха уже подавала ему завернутое в пелены дитя. Алексей Михайлович боязливо взял драгоценную ношу на руки, посмотрел на новорожденного. Перед ним был черноволосый мальчик. Наклонился к царице, смоляные волосы которой были разбросаны по постели, поцеловал ее горячую руку и сказал:
– Посмотри-ка, Наташа, каков богатырь! Пусть носит имя митрополита Петра. Вырастет большим – страну в свои руки возьмет.
Кончался май 1672 года.
* * *
Весть о том, что у царя родился сын, в Ферапонтов монастырь привез игумен Афанасий. Он ранним утром вошел в келью Никона и начал рассказывать, как прошел церковный Собор, куда его приглашали.
– Великую ссору там поднимали. Больше всех обвиняли раскольников, которые страну паутиной опутали. Один Аввакум чего стоит – вся Москва взахлеб его крикливые письма читает. Бывший протопоп совсем стыд потерял – проклял даже самого Государя. И в твой адрес, Патриарх (так он всегда звал Никона, хотя и выговаривал это сквозь зубы), там много хулы сказано…
– Кто о прошлом плохо говорит, от того хорошего в будущем не жди, – по лицу владыки пробежала злая тень. Долго молча он смотрел на каменный пол, словно там увидел что-то. Потом спросил: – Как там антихрист Паисий живет? От денег его карманы не лопнули?
– Паисий… Газовский митрополит-то? Тот, который тебя больше всех поносил?
– Он такой же митрополит, как ты Патриарх, – обидевшись, бросил Никон и отошел к раскрытому окну.
– В свою Палестину было собрался, да только доехал до Киева – животом заболел. Умер, говорят.
– Отравили, поди?
– Молчат об этом.
Никон повернулся, тихо спросил:
– Письмо мое передал в Монастырский приказ? То, в котором прошу, чтоб перевели меня в Кириллов монастырь?
– Передал, Патриарх, передал. Прямо в руки Питириму вручил. А он сказал, что вначале его Государю покажет.
После ухода игумена Никон вышел на улицу. Дошел до Бородаевского озера. «Баю-баю, баю-баю», – качались, словно зыбки, его бездомные волны, ударяясь о берега. Старый монах сел на камень, начал вспоминать о прошедшем. Теперь он жил лишь пройденным, о будущем не думал.
Перед его взором встали родное село Вильдеманово, Кожеозерский монастырь и Москва. Увидел жену свою, Авдотью, и тайную усладу одинокой старости царевну Татьяну Михайловну. Слезы наполнили его глаза, тихо потекли по щекам и бороде. Чтобы осушить их, Никон поднял лицо к солнцу. Над его головой высоко в небе летел коршун. Широко распластав мощные крылья, птица зорко смотрела вниз, на опоясанный густым лесом остров, на одиноко сидящего человека. Сочувствовала ли эта вольная божья тварь большому и сильному существу, лишенному свободы, всего, что любил, а также и будущего? Да откуда ей знать, кто он такой и что делает здесь, в краю, забытом Богом и людьми. Проплыв в небе ещё один круг, коршун испарился без следа в бесконечной голубой дали. Не так ли исчезли и его, Никоновы, годы, всё прошлое, которое никогда уже не вернуть?
Да и Бог с ним, с прошлым. Кто он сейчас: изгой, преступник или страдалец? Кем станет в будущем? Ждет ли его великая награда на небесах, как ждала когда-то всех пророков? Или ему уготована судьба, указанная в Евангелии от Матфея: «Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь».
Никон ещё долго смотрел в небо, словно надеялся услышать ответ на мучавшие его вопросы. Но небо было безмолвно. Лишь стрекотали ласточки, мелькая молниями над берегом, да тревожно кричали чайки на холодных волнах.