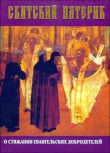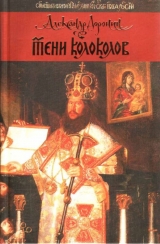
Текст книги "Тени колоколов"
Автор книги: Александр Доронин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 29 страниц)
– Ты, протопоп, лишку хватил! Это уже бунтом пахнет. Хоть бы боярыню пожалел, если уж деток своих малых осиротить не боишься.
Морозова посмотрела осуждающе на Лазаря и вышла вперед, встала перед взволнованной толпой:
– Люди добрые! Идите по домам с миром и забудьте, что вы здесь слышали…
В обратный путь тронулись малой компанией. Федосью Прокопьевну и Аввакума с семейством окружали только самые близкие слуги. Все молчали. И до самого дворца их сопровождали хороводные песни, доносящиеся с берега Москвы-реки:
Пойдем, девки,
В зелену рощу,
Пойдем, девки!
Совьем, девки,
Себе по веночку,
Совьем, девки!..
За веселой песней следовала грустная. Красивый девичий голос выводил на всю округу:
Уж ты радуйся, дубник-кленник,
Не радуйся, белая береза!
Мы идем тебя развивати —
Со куличками со сдобными,
Со яиченкой со жареной…
* * *
Пока гости умывались с дороги в отведенных для них горницах, Федосья Прокопьевна быстренько переоделась, сменила тяжелое платье на легкий сарафан камчатый и белую рубаху с широкими рукавами. Голову украсил расшитый кокошник под цвет синего сарафана. В залу, где слуги накрыли обеденный стол, боярыня не вошла, а словно влетела на крыльях: рукава кофты порхали по воздуху.
– Ты, матушка-боярыня, как райская бабочка, легка и красива, – залюбовался ею Аввакум.
Федосья Прокопьевна заалела от похвалы, но тут же постаралась погасить улыбку: на нее недобро глядела протопопица. И чтобы загладить свою несуществующую вину, принялась усердно ухаживать за гостями.
Посадила за стол Прошку с Ваняткой, помогла с помощью Параши сесть в удобное кресло ослабевшей от усталости Анастасии Марковне, наперебой предлагала кушанья Аввакуму. Правда, особого приглашения никому и не требовалось. Гости сильно проголодались, а стол ломился от невиданной снеди.
Пробормотав скороговоркой хвалу Господу и благословив пищу, Аввакум принялся прямо руками есть упругий, с ядреным хреном холодец, запихивал в лохматый рот жирные куски рыбы. На усах и бороде его повисли черные и красные икринки, в рукава рясы затекала по запястьям сметана, в которую проголодавшийся протопоп макал пшенные блины.
Когда принесли душистые щи из баранины, Аввакум так набросился на миску, словно хотел ее проглотить вместе с содержимым.
Анастасия Марковна не выдержала, цыкнула на мужа:
– Ешь по-человечески, отец, ведь не дома ты за печкой сидишь, а за столом боярским.
Боярыня отвела в сторону смеющиеся веселые глаза.
Ванюша тоже сидел среди взрослых. Сначала его забавляли протопоповичи, он с интересом смотрел, как они набивали свои желудки, бросая под стол кости, пихая друг друга локтями. Затихали на время, когда встречали материн взгляд.
Потом мальчишки Ванюше надоели, и он от нечего делать стал разглядывать на столе золотые, серебряные и фарфоровые перечницы, солонки, розетки, вазочки, подсвечники. На полке у стены стоит целая коллекция кубков, чарок, рюмок и других вещей, названия которых он никак не может запомнить. Матушка очень любит всё это добро. И батюшка всегда из поездок привозит ей чего-нибудь этакое в подарок. Интересно, а что привезет на этот раз?..
Мысли Ванюши перешли на отца, по которому он очень скучал. А тем временем гости насытились. Все перебрались из-за стола на широкие мягкие скамьи. Детей отослали прочь. Завели разговоры.
Анастасия Марковна, благодаря хозяйку за вкусный обед, неосторожно упомянула Патриарха, сказав:
– Ох, как расстаралась ты для нас, голубушка Федосья Прокопьевна! Прямо-таки патриаршая трапеза получилась…
– Не к обеду будь помянут, антихрист! – взорвался Аввакум, словно его шилом в бок ткнули. – Толкнул народ в пасть дьяволу, а сам и в ус не дует! А что ему, язычнику? Господь для него, мордвина некрещеного, лишь лик на доске, а не Творец и Промыслитель мира.
– Как это, некрещеному? – испугалась боярыня. – Я слышала, он был священником в Княгининском уезде, монахом на Соловках, игуменом Кожеозерским…
– Да, это так. Только прежде – мордвин он, эрзянин. А значит, с молоком матери впитал любовь к другим богам, не христианским…
– Как же его, язычника треклятого, в Патриархи-то посадили? – искренне удивилась Анастасия Марковна.
– Царь наш батюшка тебя, курицу, не спросил! – рассердился Аввакум на жену за глупый вопрос. Сколько раз он объяснял ей положение дел, а она всё мимо ушей пропускает.
Федосья Прокопьевна слыхала от мужа, как посадили Никона на патриарший престол, каков он, «великий Государь» – хитрый, умный, решительный. Она не сомневается в этом. Только ещё больше не может простить этому человеку разрушения всего святого и дорогого ей – веры русской.
Аввакум, отвернувшись от жены, с боярыней стал говорить совсем по-иному, почтительно и ласково:
– Мы, пресветлая боярыня, ревнители честной веры, просили Государя поставить на патриарший престол Стефана Вонифатьева. Уж он бы не стал церковные традиции рушить…
– Знаю, батюшка, знаю. Только ведь упрям Алексей Михайлович, как и все Романовы: на чем стоят – не сойдут. Но Никон ещё себя покажет, наплачется Государь… Я этого антихриста насквозь вижу! – От охватившего ее волнения Федосья Прокопьевна даже чашку фарфора китайского из рук выпустила. Она разбилась вдребезги.
– Что будет – один Господь ведает. Только сегодня сила на стороне Патриарха. Он крепко держит в руках власть духовную. Да если б только духовную!.. – Аввакум посмотрел в сторону открытой двери, за которой суетились слуги, и замолчал.
Федосья Прокопьевна будто и не увидела его осторожного взгляда, стала говорить горячо и вспыльчиво:
– Пусть не думает, что всех под себя поломает! Найдутся на Руси люди крепкие, неподкупные!
– Правильные слова сказала, душа ты ангельская, – обрадовался протопоп. – Обязательно будет по-твоему.
* * *
Москва праздновала Троицу: день-деньской звонили колокола, ворота домов, наличники окон красовались ярко-зелеными венками, первыми полевыми цветами.
В патриарших хоромах, тоже украшенных зеленью, всё залито солнечным светом, слышатся громкие разговоры, смех. Пришедших поздравить Патриарха с великим днем встречал иерей Епифаний Славенецкий. Самого Никона побаивались, а с Епифанием можно побеседовать душевно и открыто – он всё поймет.
Вернувшись после литургии из Успенского собора, Святейший уединился в своих покоях, чтоб отдохнуть в тиши. Но Епифаний сообщил о прибытии из Новгорода иеромонаха Аффония.
– Приведи его ко мне сюда! – распорядился Никон. – Нам чужие уши не нужны.
Аффоний, войдя в покои, вначале совершил положенные по чину поклоны, поцеловал руку Патриарху и, получив в качестве одобрения дружескую улыбку, с восхищением сказал:
– Слава Господу, что вижу тебя, святейший! Своими глазами зрю твое величие! Земля слухами полнится, вот и хотелось мне самому восхититься делами твоими, друже!
– Господь милостив ко мне, ты прав: из сельского попа Патриарха сделал. Большая власть у меня, брат, большая, чего греха таить! Рядом с царем на троне российском сижу. – Никон встал перед монахом во весь свой богатырский рост, плечи, обтянутые шелковой черной рясой, расправил. На широкой груди его победоносно засверкал позолоченный крест, поймав пробившийся сквозь тяжелую штору солнечный лучик. Аффоний аж зажмурился.
Тут Никон словно очнулся от ощущения величия, подошел к монаху и, обняв его, троекратно облобызал. Старик прослезился, хотел опуститься на колени. Патриарх не позволил, посадил гостя на мягкую скамью и сам сел рядом.
– Скажи-ка лучше по правде, друже, зачем в Москву прибыл?
– Тебя понаведать! В ноги поклониться! Истинный крест, не вру! – горячо воскликнул Аффоний.
– И всё-таки на уме у тебя что-то есть, не хитри со мной, старче! – в голосе Никона послышались стальные нотки. Аффоний задрожал и прошептал:
– Прости, Святейший, за лукавство… не по своей воле я здесь. Меня купцы новгородские сюда спровадили. Боятся они Москвы. Боятся войны с Польшей и Ливонией. Воевода наш, Хилков Федор Андреевич, просит твоего совета: как быть?
– Спрашивает, кому служить? Так, что ли? Боится, что купеческие деньги из его рук выскользнут? Ну, что молчишь, старый ворон?! Почему сам воевода не приехал? За шкуру свою дрожит? А твою подставляет под розги!
Руки Аффония так тряслись от страху, что он не мог даже креста сотворить. Опустил голову, не в силах больше смотреть в гневные очи Патриарха.
Вошел Епифаний.
– Святейший, угощение подавать?
– Угощение? Для кого? – грозно рыкнул в сторону Аффония.
Епифаний молча вышел. А Никон властным движением руки указал гостю на порог…
Глава шестая
Коршун в небе летел не спеша, внимательно всматриваясь в окрестности. Пришла весна, а куда ни взгляни – одни деревья и густые облака…
Девственный лес гудел от непогоды. Над ним всю раннюю весну кружились и кружились дожди, с головы до ног обливая холодной водой. Сейчас вот снова зависли темные облака, сквозь них ничего не видно.
Коршун взмыл вверх и вновь полетел плавно, почти не взмахивая крыльями. Глаза острые, небесные пути ему знакомы. Сильный, звери и птицы его боятся, а сам он боится лишь голода. Второй день даже червяка в рот не брал.
Огромные капли дождя падали вниз. Лес целовал воздух взбухшими листьями, шептал грустные песни, которые коршун не понимал. Он давно живет в его глуши, много разных весен пришлось ему пережить, а вот таких сырых и холодных не видал.
Плавно разрезая воздух крыльями, коршун высматривал добычу. Тяжелая у него доля! С рассвета до заката машешь крыльями, облетая округу, чтобы добыть что-нибудь на обед, а желудок по-прежнему пуст. Хорошо, птенцов нет, всё забот меньше. Лес зайцами кишит, да разве в эту чащобу, почти до небес, пролезешь?
Конечно, многие птицы завидуют коршуну: силен он, свободен, как ветер – летает, где хочет. Это верно: не хотел бы он лишиться вот этого бездонного неба и упругого ветра, бьющего в грудь…
Коршун сделал ещё один круг и глянул вниз. Вдоль леса тяжело тянулся обоз – в телегах везли что-то укрытое рогожами. Только что?
Коршун повис над деревьями, подобрал крылья-лопасти, приготовился к броску. Последняя лошадь завязла в жидкой грязи, дергая туда-сюда телегу под ударами кнута возницы. Но колеса ещё больше утопали в жиже. Собрались мужики, под телегу набросали хвороста и давай толкать. Лошадь рванула, и телега выскочила на сухое место, но с воза что-то упало в самую грязь.
– А-а, растяпы! – истошным голосом завопил толстобрюхий мужчина, который один ехал в кибитке. Он подошел посмотреть, как мужики вытаскивали застрявшую телегу.
– Не обедняет наш барин!.. – ответил ему бородатый огромный мужик и подмигнул товарищам. Они вытерли вспотевшие лбы и, не оглядываясь, поехали дальше.
Когда обоз удалился на безопасное расстояние, коршун опустился, подцепил на лету мощными когтями грязный узелок. В ближайшем овраге разодрал холстину и… забыл о недавних огорчениях. Перед ним были куски мяса, сало и куриные яйца – настоящее лакомство.
* * *
Порывистый ветер неустанно гонял тучи по небу, вытрясая из них дождь: холодный, хлесткий. Телеги до самых осей вязли в грязи, сползали по склонам оврагов, увлекая за собой выбившихся из сил лошадей. Возницы клали под колеса солому, ветки, подпирали возы плечами и, тяжело дыша, били сырыми кнутами лошадей.
Последнее село, где вначале хотели остановиться и передохнуть, осталось позади. Сейчас перед ними гудел густой лес, и не видно было конца дождю. На передней повозке ехал Чукал, больной и измотанный. Временами его трясло – ноги и руки становились ватными, в висках стучали колокольчики. Тогда Чукал вытаскивал стоящий в ногах кувшин с пуре, делал два-три глотка – на время становилось лучше, но болезнь всё равно не отступала.
– Зря, зря не остались ночевать в деревушке, – вслух ругал он не столько себя, сколько Моисея Марковича Шарона, управляющего князя Куракина. – Залез бы к кому-нибудь на печь, до утра бы перестала болеть спина. В такую погоду до Москвы без отдыха не доедешь. Хитер управляющий, да, видать, маловато ума. Торопит, торопит нас, потом сам кается… Гречневая крупа не камни. Хорошо прикрыли, да ведь дождь найдет щели…
Больше четырех лет прошло с тех пор, как Чукал со своими односельчанами по этой вот дороге ездил в Новгород с дарами митрополиту Никону. Тогда был самый конец лета. Дни стояли теплые и сухие да и лошадям полегче было – дорога накатана. Сейчас сам толкай телегу…
Чукал снова хлебнул пуре, засунул в рогожу остроносый кувшин и неожиданно в кустах увидел осевший к земле дом.
– Тпру!
Лошадь сразу остановилась. Едущие за ним тоже попрыгали в грязь, начали спрашивать мужика, что случилось.
– Знать, к селу подъехали! – обрадовался всегда веселый Киуш Чавкин, отчего ещё больше заулыбался.
К собравшимся подошел и Моисей Маркович. В шубе, шея обмотана куньим мехом. На нем ни капли дождя. Разве промокнет он, всю дорогу сидя в кибитке? Послушал мужиков, сказал:
– Видать, не ошиблись – поблизости село находится. Видите, к нему тропка протянулась. Тогда давайте погреться заедем, – смягчился он.
Через березняк десять подвод заехали на загороженную жердями поляну. Здесь они увидели пять домов: два стояли близко друг к другу, другие рассыпаны по пригорку.
Чукал стукнул в перекошенный косяк крайнего дома. В ответ раздался хриплый голос:
– Кто та-ам?
– Открой, добрый человек, издалека мы, – стал просить Чукал. – Вон и повозки наши около изгороди. Не пустите нас погреться-посушиться?
На крыльцо выпорхнул летящим пухом старичок. В нижнем белом белье, с такой же белой бородой.
– Смотрю, боитесь меня, – улыбаясь, сказал ему Чукал.
– Если будут все проезжие без конца заворачивать к нам, по миру сами пойдем, – стал жаловаться хозяин. – Недавно были шесть стрельцов, так они последнюю овцу зарезали. Мы, говорят, царские телохранители, голодными нам нельзя ездить…
Но всё-таки старик, внимательно разглядев приехавших, указал, куда привязать лошадей, кому где разместиться. Чукала пригласил в свою избу.
Пока Чукал снимал у порога мокрый зипун и грязные сапоги, хозяин что-то тихо говорил старухе, лежащей у окна на лавке. Чукал по говору узнал: они люди одного племени. И сразу же – с вопросом к старику:
– Вы откуда родом, эрзяне?
– Ва-ай! – удивленно воскликнул тот. – И ты эрзянин? Мы здесь, сынок, всегда жили, и деды наши тоже. Даже в Москве эрзянские семьи есть. Кто мыло делает, кто работает в бане…
Встала хозяйка. Привыкнув к темноте, Чукал увидел, каким белым было ее лицо, будто его мелом посыпали.
– У вас какое-то горе? – осторожно спросил Чукал.
– Сына в том месяце похоронили, – грустно промолвил старик и опустил голову.
После того, как распрягли лошадей, в дом зашли Кечас c Киушем. Сняли верхнюю одежду, развесили по краю полатей, прошли вперед. Старик занес дрова, запихал в печь. Огонь сразу же схватил бересту. По избе поплыл режущий глаза дым. Сначала он наполнил внутренность дома, потом стал подниматься по дощатой черной трубе.
Дом стал понемногу теплеть. Вытягивая онемевшие ноги, Чукал в сладостной дремоте чуял, как отступала дрожь, по телу прошла ноющая усталость.
Бабка, прижав ухват к худенькому телу, смотрела в устье печки, где в чугуне варилась репа. Старик сидел на лавке. Взгляд выцветших глаз его был спокойным, но в то же время он будто боялся кого-то. В нем жил страх, который землепашца как червь всю жизнь ест. Плечи повисли, положенные на колени мозолистые руки тряслись. Или старость сделала его таким?
Старик прислушивался к каждому звуку, будто ожидал чего-то. На улице тревожно заржали лошади, кто-то выругался. Бабка вышла из чулана, испуганно взглянула на дверь. На пороге появился парень в промокшей рубахе, с волосами соломенного цвета. Тяжело дыша, он что-то прошептал старику. Бабка испуганной курицей закружилась по избе, старик цапнул с вешалки шапку, торопясь стал собирать в мешок одежду. Наконец обессилено сел на лавку, и тут при свете лучины Чукал увидел его лицо, искаженное страхом. Встревожился и Чукал. Быстро одел мокрый чапан и вслед за своими друзьями выскочил на улицу.
Из соседних домов с другими эрзянами прибежал Моисей Маркович Шарон. С руганью налетел на Чукала:
– Сам не знаешь, зачем сюда нас завел!..
Лесные жители показывали в сторону горы, из-за которой поднимались в небо семь густых дымовых полос.
– Соседнее село подожгли! Там мокшане живут! Из темноты вышел тот же белобрысый парень, взял за плечо Моисея Марковича, стал жаловаться ему:
– Что, если молимся другим богам, тогда нам на земле не жить? Недавно Репештю нашу сожгли, сейчас и за села взялись. Сволочи, не люди!
Моисею Марковичу не надо было объяснять страх этих лесных жителей. Он знал, почему повсюду молебные места превращали в пепел – по всей Руси крепкие корни пустило христианство. Боярам и служителям церквей нужны были не вольные люди, а покорные рабы. Пусть все веруют в Христа, так их легче будет держать в кулаке…
Чукал запряг лошадь и первым вывел ее на дорогу. За ним заспешили и его спутники.
– Так царские гончие все села спалят! – кипел Кечай, возмущаясь.
– Помолчи лучше, пока сам цел. У ночи много ушей, – предупредил его Чукал, чутко прислушиваясь к звукам из темноты. Где-то поблизости раздалось ржание лошади. Мужики вытащили топоры и ножи, стали ждать. Вздохнули только тогда, когда верховые проскакали мимо и скрылись в лесу.
Моисею Марковичу захотелось вновь вернуться в оставленное село. В темноте много не проехали, вернуться недолго. Усталые и мокрые, мужики согласились. Всем грезились теплая печь, душистая репа в чугуне.
Вскоре почуяли запах дыма. Когда повозка свернула на поляну, вместо пяти домов путники увидели одни головешки. Только некоторые бревна ещё шипели. На старой корявой сосне колыхалось что-то наподобие чучела. Чукал сразу понял: это повешен старик, у которого они собрались переночевать… Около сваленной изгороди копошилась сгорбленная старуха. Она выкапывала что-то из-под земли и клала в лукошко. Чукал окликнул ее – и отшатнулся, увидев безумное лицо: старуха сошла с ума.
Подул ветер, и с пепелищ поднялась черная туча. Кружась, она понеслась к лесу стаей птиц. Бабка встала, подняла лукошко на сгорбленную спину и направилась в сторону горы. Ноги, видать, вели куда глаза глядят.
Чукал снял шапку, долго смотрел ей вслед. Потом подошел к лошадям и сказал управляющему:
– Моисей Маркович, давайте уносить ноги. Того и гляди, поджигатели вернутся.
За лошадьми шли пешком. Чукал знал: скоро будет селение, там можно остановиться и передохнуть. Наконец услышали петушиное пение. У самой дороги приютилась бедная деревенька. В ней жили мокшане. Встретили путников приветливо. Покормили, спать уложили. Ночь прошла быстро, будто миг один. Уставшие от тяжелой дороги люди будто в омуте утонули: уснули глубоким, без сновидений сном.
Через три дня обоз уже был в Москве. Шарон остановил подводы около крайней улицы, сам пошел к князю Куракину. Оттуда возвратился нескоро, но в хорошем расположении духа.
– Самого Лексея Кирилловича нет дома, встретила меня Капитолина Ивановна. Вот прислала со мной человека, он куда надо всех отправит.
Пришедший с Шароном парень был высок и худощав. На нем – белые портки и синяя рубашка. Многие его слова эрзяне не понимали – с управляющим он говорил по-русски. Смотрел на приезжих брезгливо, но с любопытством: словно на невиданных лесных зверей.
Приехавшие из Вильдеманова, действительно, с ног до головы были грязными. Но их самих это не смущало. Они с удивлением рассматривали улицы, дома, каких у них в селе нет. Большинство – двухэтажные, каменные. А уж людей-то, людей сколько, столько в лесу и муравьев не увидишь! Спешат и спешат по улицам, куда – не спросишь. Улицы широкие, покрыты серым булыжником. Оп-коп, оп-коп! – плясали по ним колеса телег, подковы лошадей. Одни люди ехали верхом, другие на тарантасах с высокими колесами. Бояре, видать. Моисей Маркович Шарон тоже так ездит.
– Эй, не зевай! – крикнул на возниц провожатый. – Это вам не Вильдеманово: разинешь рот – сразу изомнут. Москва ведь! – А потом по-эрзянски уже без насмешки добавил: – Сначала телеги разгрузим, потом отведу вас на ночлег.
У приехавших даже язык отнялся: смотри-ка, и здесь их язык знают!
– Ты чей будешь? – удивленно обратился к нему Чукал.
– Промзой меня зовут, рядом с Арзамасом родился. Иконы малюю, валенки подшиваю, – от души улыбнулся парень.
– Тогда давай отведи мужиков! – приказал Моисей Маркович, а сам ушел пешком. Видать, князь Куракин поблизости живет.
Повозки свернули на улицу, что начиналась с левой стороны. Она была вся в садах. Дома каменные и деревянные, покрыты тесом.
– Крыши-то зачем землей засыпали? Так ведь они быстрее сгниют, – обратился к Промзе Киуш Чавкин.
– Это от пожара. В жаркие лета здесь полгорода выгорает.
Чукал вел свою лошадь под уздцы, слушал Промзу и думал о той эрзянской деревушке, от которой осталась одна зола. В чем люди виноваты? Молились своим богам – что в этом плохого? Это ведь боги их предков… У каждого живущего на этом свете человека есть своя вера. И за нее нужно постоять…
* * *
Москва приезжего ошеломляет, даже не верится, что она человеческими умом и руками воздвигнута. Москва всегда Москва – таких столиц нигде не найдешь, хоть землю-матушку пешком обойди, сверху вниз посмотри.
Взгляни-ка, взгляни-ка, какая она красивая – радует глаз многоцветием! Белые, красные, зеленые – тысячи домов прижались к пышному подолу земли, под ласковым солнцем нежась в густых садах. В центре города, будто боярин, Кремль-опора. Он приказы отдает, дела живущих взвешивает. А уж Китай-город, Китай-город!.. Не зря встал к Кремлю, знает, к кому прижаться, чьим теплом греться.
– Бам-бом, бам-бом! – били церковные колокола, звенели неустанно, всё нутро свое встряхивая. О чем поют они, о чем рассказывают людям? О душевных страданиях? Да какие сейчас страдания, когда весна цветами землю осыпала. Цветут черемуха и верба, шепчутся ветви тополей тонкими губами новорожденной листвы. А уж какой сладкий запах идет от деревьев и трав – такого и в раю не бывает!
– Бам-бом, бам-бом! – били колокола. Пасхальными яйцами кажутся маковки церквей. Синее небо наклонилось над ними, целует их.
* * *
Весна в полном разгаре. Четвертого апреля, когда шляющиеся, как бездомные собаки, ветры подули теплом, холодные дожди смыли рыхлый снег в Москву и Яузу. А уж солнышко как грело – щеки обжигало!
Тикшай Инжеватов с управляющим Кочкарем верхом ехали из имения боярина Львова. Осмотрели его – и вновь домой. В пути они останавливались в трех слободах – Лужниках, Непрудном и в Красном селе. Везде видели винные лавки и множество пьющих. Пьяницы, эти двуногие поросята, ругались матом, валялись в грязи, не в силах встать на ноги. Даже видели совсем голого мужика. Видать, на вино обменял свою одежду и давай свой стыд показывать. Срамота!
Тикшай не удержался, захохотал.
В это время пьяный приподнял лохматую голову из грязи. Стоящие вокруг него заржали:
– Вымылся к празднику!
– А ты землю, землю поцелуй!
Пьяный будто приказы выполнял: снова плюхнулся в жидкую грязь.
Тут и Кочкарь не удержался, зло крикнул:
– Вот кто своей пьянкой чертей заставляет плясать!..
Тикшай сразу перестал смеяться.
– Это от духовного блуда, по-другому никак сказать нельзя. Русский человек до тех пор пьет, пока нос свой в землю не засунет. И делают это, как видишь, даже в страстной понедельник, когда из храмов святые свечи выносят!
– А ведь сегодня, действительно, начало страстной недели, – вспомнил Тикшай.
– Давай гони лошадей, боярыня ждет тебя, – сквозь зубы усмехнулся Кочкарь.
По слободским улицам проехали галопом. За ними вдогонку бросались собаки. В конце одной улицы управляющий остановил рысака и сказал:
– На минутку к одному человеку заскочим. Когда-то мы с ним царскую почту возили. Хороший человек!
Неожиданным гостям открыла дверь стройная молодая женщина. Кочкарь чувствовал себя хозяином – в этом тереме, видно, не впервые. Пройдя вперед, обнял красавицу за плечи. Та заулыбалась.
Тикшаю показалось, что эту женщину он где-то встречал. Только где? Да разве к боярыне Львовой мало приходит гостей! Всех не удержишь в голове. Женщин в Москве – пруд пруди, столько в лесу деревьев нет.
– Манюша, Лексей Кириллович чем занимается? – играючи обратился Кочкарь к красотке. Та смотрела на него весело:
– По делам куда-то уехал. И сегодня, видать, не скоро вернется.
«Не к Куракину ли попал, убийце отца?» – мелькнуло в голове у Тикшая. Сердце его так стало биться, словно хотело вырваться из груди. К нему, к кому же ещё… И эту женщину он видел, когда ездил с дядей Кечасом за избитым отцом. В том же платье, только сейчас, как в позапрошлое горькое лето, не было в ее руках букетика цветов, и находится она не у крыльца, а в большом боярском тереме. От злости челюсти у Тикшая сжались, парень не знал, что дальше делать.
– Я на улице подожду! – бросил он Кочкарю, хлопнув дверью так, что окна задрожали.
Только вышел на крыльцо, совсем опешил: перед ним стояли односельчане. Видимо, из конюшни вышли со своими лошадьми. И дядя Чукал оторопел, слова не может вымолвить. Наконец Тикшай спросил своего соседа:
– Когда приехали?
– Позавчера. Боярину крупу привезли. – Помолчал малость, добавил: – Вай, какая земля узкая – по одним тропкам ходим!
Чукал так обрадовался встрече, аж прослезился. Долго беседовали о своем Вильдеманове. Киуш Чавкин слушал их в сторонке. Выходит, хозяин он в отчем доме, муж мачехи… Дядя Прошка у Пуреся Суняйкина живет. О том, как Тикшай попал к боярину Львову, он тоже рассказал Чукалу. А вышло это так. После Вильдеманова вернулся в Москву к Матвею Ивановичу Стрешневу. Того дома не было. Жена сказала: уехал, мол, охранять нашего посла за границу. Месяц прошел, второй – тот всё не возвращается. И ему пришлось наняться рубить дрова Львовым. Кормили его хорошо. Обули-одели, зачем другие места искать? Боярыне Марии Кузьминичне Тикшай понравился. Та с утра до вечера всё глядела бы на него. Так и остался Инжеватов в работниках у Львовых. Правда, потом Стрешнев не раз приглашал его стрельцом в Кремль. Не пошел. Он хорошо понял, какова доля стрельца: иди, куда прикажут, делай, что скажут. Своей воли нет.
Перед уходом Инжеватов обещал Чукалу завтра же с ними встретиться на Варваровском базаре. Рассказал мужикам, как добраться туда, на каком месте будет их ждать.
Тикшай уже сидел верхом на лошади, когда пришел Промза. Познакомились. Эрзяне разве не найдут общего языка? Долго они беседовали о том, о сем. Промза о себе рассказал. Сначала он Куракину церковь расписывал, потом смотрит – некуда больше идти – так и остался. Сделали его кем-то вроде управляющего. Тут Промза подмигнул Тикшаю:
– Я невесту уже здесь нашел, так что по ночам не скучно…
Тикшай не стал ждать Кочкаря, один уехал. Тот, темная душа, остался в боярском доме. По пути Тикшай переживал о дяде Проше. Мачеха, видишь, из дома его прогнала. Дядя Пуресь, конечно, неплохой человек, но всё равно жизнь коротать у чужих несладко. Ничего не поделаешь – у каждого своя судьба.
* * *
Куракин вернулся домой поздно ночью. Только зашел в терем, как жена, Капитолина Ивановна, навстречу:
– Иди в баню, мы с Манюшей уже попарились. Лексей Кириллович хотел что-то вымолвить, жена опередила:
– Что, молодуху нашел, до сих пор шляешься?
– Нашел! – сквозь зубы вымолвил князь, но спорить не стал, отправился в баню.
Баня поставлена за огородом, где были житницы (сегодня туда высыпали и крупу, привезенную из далекого эрзянского села). Рядом протекала речка Яуза. Широкая гладь воды не плескалась волнами – день был жаркий, и сейчас ещё тепло на улице. Где-то куковала кукушка, в саду пели соловьи.
Лексей Кириллович пошел тропинкой через сад и услышал неожиданно шепот. Растерялся князь, остановился, прислушался. Шептались под яблонями. Женский голос он сразу узнал. Манюша, его тайная любовница, с кем-то хихикала. Кто же мужчина?
Лексей Кириллович осторожно вернулся назад, спустил привязанную около двора собаку, шепотом приказал: «Ату, Мурзай!». Тот сразу же полетел в сторону яблонь. Когда Куракин подбежал к «любовному» месту, опешил – Кочкарь, бывший ямщик, вытирал укушенное до крови бедро. Одежда его была разорвана в клочья. Манюша сидела, съежившись, около стола, из расстегнутой кофточки виднелись открытые груди.
– У-у, стерва! – только и смог вымолвить Куракин. От злости он даже забыл, зачем вошел в сад.
Сидя на пороге бани, Промза ликовал. Это он попросил княгиню послать своего мужа в баню. Он и пса оттащил от несчастных, когда тот вволю натешился. Вильдемановские крестьяне не слышали ночного переполоха, спали крепко, с храпом.
* * *
В тереме Марии Кузьминичны Львовой – успокаивающая полутьма. С мягкой постели боярыня спустила ноги, слушает, что ей сплетничает служанка.
– Вчера Алексей Иванович, Ваш супруг, снова взбесился.
– Из-за чего? – протирая глаза, улыбнулась боярыня.
– На его любимого петуха собака набросилась. Хорошо, Тикшай успел его прямо из пасти выхватить.
– Сейчас он где?
– Петух? В супе сварили.
– Я про парня спрашиваю, лягушачий твой рот, – разозлилась на девушку Мария Кузьминична.
– В сарае дрова колет… Здоровый он парень, да и красивый. Недавно я к колодцу ходила – до крыльца смотрел мне вслед, даже спиной это чувствовала.
– Закрой свой вороний клюв. Будешь такое говорить – того же пса натравлю на тебя!
– Да я ничего, я только… – начала оправдываться девушка.
– Хватит, оставь меня!
Мария Кузьминична толкнула девушку и, когда та испуганно выскочила из горницы, встала с места, подошла к зеркалу, висящему на стене. В нем увидела здоровую, с пылающими щеками женщину. Глаза горели спелой черемухой, на широком лбу ни морщинки. Расстегнула ворот ночной рубашки, с удовольствием стала рассматривать свои налитые груди. В такое время любила вспоминать боярыня о том, что заставляло плясать ее сердце.
Стройных красивых парней, как Тикшай, во сне она видела и раньше. С того самого дня, когда ее муж, Алексей Иванович Львов, встал перед ней на колени и зашептал с закрытыми глазами: «Наконец-то…». Лицо его было бледно, а голос наполнен бесконечной надеждой. И тогда Мария Кузьминична поняла: умер ее свекор, Иван Семенович. Он был ненасытным мужчиной. От него страдали не только девушки-служанки, которых он держал в своем тереме более сотни, но даже и сноха. Приглашал ее в баню натирать редькой поясницу, париться, ночью бесстыдно заходил к ней в опочивальню. Алексей Иванович знал об этом, но молчал, не протестовал – боялся отца. Делал вид, что не замечает ничего. Даже слуги удивлялись: «Ума у молодого боярина, похоже, совсем нет!».
Потом Мария Кузьминична поняла: муж не был глупым, просто слаб характером. Она его не уважала тоже.