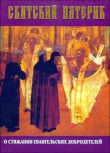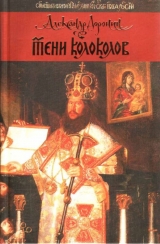
Текст книги "Тени колоколов"
Автор книги: Александр Доронин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 29 страниц)
Тикшай остановил жеребца, бросился лицом в мягкую душистую траву и безутешно зарыдал. Он оплакивал свою глупую никчемную жизнь, сиротство, одиночество и обиду, нанесенную боярыней.
Когда слезы кончились, перевернулся на спину и стал смотреть в небо. Высоко-высоко, в бездонной синеве, звенел жаворонок. Солнце ласкало своими горячими нежными руками. Ветерок успокаивал Тикшая, доносил до него влажный запах леса, сладких ягод и меда.
* * *
На Троицу московские колокола устроили такой перезвон, что, казалось, звенело даже небо, опрокинутое над городом прозрачным голубым блюдом.
От всех слобод к центру Москвы, к храмам, тянулись вереницы празднично одетых людей. Ближе к обеду, когда колокола утихли, народ заполнил улицы и площади. До хрипоты накричались зазывалы различных лавок, разносчики мелкого товара – калачники, пирожники, коробейники…
В патриарших хоромах, прислушиваясь к шуму, доносящемуся с улицы в открытые окна, Епифаний Славенецкий докладывал Никону:
– С благой помощью Всевышнего, пресветлый владыка, поймал я Аввакума в Казанском соборе. А с ним шестьдесят его сподвижников. Молились все по-старому да тебя проклинали.
– Где он сейчас?
– Здесь, в Чудовом монастыре, в подвале заперли. Сидит, зубами клацает. Одному стрельцу руку до кости прогрыз, пока его туда тащили.
– Отвезите в Андронников монастырь, там подвалы темнее. Пусть посидит на цепи с крысами. Может, поумнеет…
Епифаний поклонился и продолжил доклад:
– Костромского протопопа Данилу над костром поднимали. Одно только кричал: «Изыдите, дьяволы!». Пришлось ему язык отрезать.
– Так и надо, раз язык ему только для проклятий нужен!
– Дьякона Федора, что при Неронове состоит, прямо в монастыре постригли в монахи. И пока он тоже в подвале.
– Хорошо, – устало закрыл глаза Никон, – довольно с меня новостей. – Епифаний продолжал стоять перед ним. Никон открыл глаза, строго посмотрел на него и с раздражением сказал: – Ступай, без тебя тошно!
Иерей поклонился молча и вышел.
Никон остался один. В его душе боролись два чувства: наслаждение победой (он получил-таки право распоряжаться жизнью своих врагов!) и тревога – чем отзовутся его действия, как Москва отреагирует на аресты Аввакума и его сподвижников. На днях он сам при всех на Неронове ризу порвал. Теперь он в Симоновом монастыре клопов кормит. Потом, к зиме, надо его подальше отправить, ну хоть в Вологду… А там как Господь повелит…
И поп Силантий, который из Коломны дважды приезжал шептаться со Стефаном Вонифатьевым, знает теперь, что такое гвоздь в ноздре. До полусмерти «научен» сыромятным кнутом муромский архидиакон Сильвестр, нагим брошен в темницу Богоявленского монастыря. Пусть знает, как оскорблять веру Христову и учинять непотребство в Божьем храме. Настоятель Чудова монастыря архимандрит Ферапонт до сих пор не может в себя прийти от выходки Сильвестра, бросившего дискос* в лицо распятого Христа.
Вспоминая об этом, Никон вдруг подумал: «А что, если и Морозову проучить, чтоб московских женок не баламутила?..» Эта боярыня давно стояла ему поперек горла, как рыбья кость. Но не тут-то было! Ее голыми руками не возьмешь, всё-таки Морозова! «Ничего, – утешил себя Патриарх, – придет время, Государь сам ее собакам скормит…»
В дверь постучали. Вошел Арсений Грек. Поклонившись, сказал:
– Прости, святейший, что нарушаю твой покой. Приехал Милославский, к тебе просится.
– Что ему надобно? – недовольно проворчал Никон.
– Говорит, Алексей Михайлович за тобой послал.
– Ну так прибуду скоро, пусть государю передаст. И меня не ждет, сам дорогу знаю… Проводи Илью Даниловича. Да вели нести мне облачение – во дворец поеду.
Когда архидиаконы одели Патриарха в богато разукрашенный золотой вышивкой парчовый стихарь и причесали пышную бороду, Никон, разведя в сторону руки, как бы любуясь собой, спросил Грека, всё ли в порядке, не забыли ли что?
– Всё приличествует твоему сану, Святейший! – кланяясь, ответил Арсений. При этом он как можно ниже склонил голову, чтобы спрятать глаза. Они могли выдать: Грек на самом деле считал излишеством и стихарь, одетый не на богослужение, и множество перстней, нанизанных на толстые волосатые пальцы Никона.
– Нынче я царский гость. Сядем за один стол, как два равных государя, – подытожил Патриарх. Словно в подтверждение этих слов на стене стали торжественно бить часы в резном корпусе с большими оловянными гирями – подарок греческого Патриарха.
Бом-бом-бом! Истинный Государь! – говорили они Никону. Так, по крайней мере, он слышал.
* * *
Федосья Прокопьевна Морозова проснулась на рассвете и долго лежала, прислушиваясь к тревожному биению своего сердца. Сны давно перестали ее радовать. Но сегодняшний внушал особый страх. Будто выпал у нее коренной зуб. В десне – дыра, на губах – черная кровь. Она выплюнула зуб на ладонь. Смотрит, а на белой, как мрамор, ладони – ни зуба, ни крови.
Уснуть Федосья Прокопьевна больше не могла. Встала, оделась и разбудила Парашу, спавшую в коридоре. Старая дева, любившая поспать, спросонья никак не могла понять, что от нее хочет хозяйка.
– Зуб, какой зуб?
– Коренной, дура! Коренной, говорю, выпал… во сне. Поняла?
– Теперь поняла, матушка-барыня! Сон твой к дождю… Истинно, к дождю.
– К дождю лягушки квакают. Да ты ещё! Чует мое сердце, случится что-нибудь. Умрет кто-то родной, раз кровь видела… Ох, Господе Исусе!
– Да ведь потом – ни зуба, ни крови…
– Вот это непонятно… Господи милостивый, только б с Ванюшей беды не было!
Федосья Прокопьевна всполошилась, стала бесцельно бегать по горнице. Ванюша, сыночек единственный, третий день гостит у сестры Евдокии. Хорошо ещё, Урусовы недалеко живут, сейчас она оденется и отправится к ним. Но потом подумала: случись что, сестра известит. Если будет в ее силах – беду не допустит. А уж чему быть, того не миновать. Остается только ждать, откуда горе придет, за что Бог покарает…
Боярыня решила выйти в сад, подышать, успокоиться, подумать на просторе.
В кронах деревьев беспокойно кричали галки. Где-то рядом с дорожкой, по которой шла Морозова, стрекотала сорока. Над головой стрелами мелькали белобокие ласточки. Они слепили свои глиняные гнезда над карнизом терема, вывели там птенцов и теперь без устали добывали для них корм. Разрезая острыми крыльями воздух, они стремительно взмывали вверх, а потом также падали вниз, пролетая над самой землей, издавая при этом пронзительные писклявые крики. В сердце Федосьи Прокопьевны опять шевельнулась тревога. Успокаивая себя, она вслух сказала:
– Ласточки так к дождю летают. Параша права, значит. Обязательно будет дождь.
Но небо было чистым, без единого облачка. Боярыня вернулась в терем, чтоб взять шаль. Она вдруг надумала съездить в лес, на любимую поляну. Может, там найдет покой.
Навстречу выбежала Параша:
– Ой, барыня-матушка, забыла тебе сказать: гости к нам скоро будут. Ещё вчера вечером Борис Иванович своего управляющего присылал. Велел закуски богатые готовить…
– Почему ты мне, дура, ничего не сказала! – рассердилась Федосья Прокопьевна на девку и хотела стукнуть ее по мягкому месту. Но Параша резво отскочила на безопасное расстояние и плаксиво оправдывалась:
– Ты уже спал-а, как ангел… Боялась тебя разбудить…
– Ладно, иди приготовь мне платье получше, а я на кухню схожу, посмотрю.
– Там уже дым коромыслом. Теленочка зарезали, диких гусей-лебедей поварята щиплют. Утром охотники настреляли.
– Что за гости? Не говорил управляющий?
– Я не знаю, боярыня…
Федосья Прокопьевна заспешила в пристрой, где находилась кухня. Там на самом деле как к свадьбе готовились. Сидор, старший повар, давал указания громким голосом, а вокруг кто мясо рубил, кто тесто месил, кто печь топил…
Федосья Прокопьевна поманила Сидора пальцем и вышла на крыльцо.
– Чего изволишь, хозяйка? – Сидор – молодой, широкоскулый и широкоплечий мужик – умел командовать слугами, знал свое ремесло и не очень-то боялся хозяев.
– Кому столько готовите? – строго спросила боярыня, глядя прямо в его нагловатые глаза.
– Мне сие не ведомо, барыня! Приказано ужин готовить, я и исполняю. А кто его будет есть, у Бориса Ивановича спрашивай.
Деверь имел привычку приезжать в Приречье, когда ему заблагорассудится. В общем, был здесь полным хозяином, особенно в отсутствие Глеба Ивановича. Хотя, надо сказать, что любил Борис Иванович Приречье из-за племянника, скучал по нему, поэтому и приезжал.
Федосья Прокопьевна в мужские дела никогда не лезла, поэтому и не переживала из-за самоуправства деверя. Если мужа это устраивает, то ее и тем более. У нее своих проблем хватает.
Она зашла на конюшню и приказала запрячь в бричку старую кобылицу Агашку. Кучер, дед Леонтий, забегал молодцевато по двору, исполняя волю хозяйки.
И вот боярыня едет по тихому лесу. Каждое дерево, принаряженное, как на свадьбу, нежилось в ещё нежарких ласковых лучах солнца. Где-то пел запоздалый соловей, считала чужие года кукушка. Пахло травами и цветами. По бокам лесной дороги цвели цикорий, белая кашка, длинноногие ромашки; за колеса брички цеплялся девичьими кудрями папоротник.
– Но-о! – дед Леонтий хлестнул ленивую клячу кнутом. Голос его был добрым, он изо всех сил старался показаться молодым.
Боярыня рассмеялась:
– Дед, а сколько тебе годиков-то?
– Да я и сам теперь не знаю. Давно со счета сбился.
– Выходит, в нашем селе ты самый старый…
– Что правда, то правда, барыня. Люди говорят, урусовский садовник только раньше меня родился.
Урусово – вотчина Петра Семеновича Урусова, за которым замужем младшая сестра Федосьи Прокопьевны – Евдокия. Князю Урусову – шестьдесят, сестре – двадцать восемь. Евдокии, как и Федосье Прокопьевне, мужа сосватала сама царица. Богатством Урусовых мало кто на Москве превосходит.
– Не боишься старости, дед? – отвлеклась от своих мыслей Морозова. Разговаривать с жизнерадостным стариком было куда интересней.
Дед Леонтий был рад поговорить. А с красавицей-хозяйкой– вдвойне. Жилистой рукой резанул воздух:
– Всё, нечего мне теперь бояться! Жизнь прожита. Самое страшное – неизвестность – уже позади. А впереди только смерть… Вот так-то, матушка-боярыня!
Федосья Прокопьевна покачала головой, дивясь мудрым словам старика. «Как хорошо и просто сказал, – подумала она. – Пугает нас только то, чего мы ещё не знаем…»
Где-то впереди раздался выстрел. Заржали лошади. Агашка запрядала беспокойно ушами и опять замедлила ход.
– Что это, дед? – с тревогой спросила боярыня.
– Может, ищут кого? – заерзал на облучке дед Леонтий.
– Ты думаешь, все того парня ищут?.. – Федосья Прокопьевна хитро посмотрела на кучера. Он сделал вид, что не понял. Она улыбнулась: – Ну того, который нам бричку из промоины на днях вытащил… Ты ведь его хорошо спрятал, дедушка?
– Бог не выдаст…
– Не выдаст, не выдаст, – успокоила его боярыня. – Иль ты мне не веришь? Он ведь на ближнем кордоне живет?
– Там, матушка-боярыня! Где ж ему ещё быть? Пойти ему некуда, он сирота круглый…
– А кто ж его ищет? Чего он натворил?
– Да люди боярина Львова… Не люди, а злые собаки. Боярину он не угодил… Разве может холоп когда угодить хозяину?.. У каждого богача свои причуды и капризы.
– Как он там, один, на кордоне-то?
– Ничего, сидит… Всё о тебе, матушка-боярыня, спрашивает…
Федосья Прокопьевна задумчиво глядела в гущу леса. Старик всё больше и больше удивлял ее. Говорит умно, смело, как с равной.
– Смотри, смотри, Федосья Прокопьевна! А вон и наша красавица нас встречать вышла, – воскликнул кучер.
На краю открывшейся взору поляны стояла лосиха и явно ждала их, не делая попыток убежать и спрятаться в гуще леса.
– Это точно наша? – волнуясь, спросила боярыня.
– Точно. Вишь, ждет угощения.
Федосья Прокопьевна давно приезжала сюда и подкармливала лосей. Зимой, в стужу, Леонтий даже сена сюда привозил… Лоси давно привыкли к людям, подходили близко, брали хлеб из рук.
– Хмелинка, Хмелинка! – позвала лосиху боярыня. Та сделала два шага и остановилась. Лошадь испуганно заржала и отпрянула назад.
– Но-о! Не боись, Агашка! Не балуй! – ласково заворковал кучер.
– Эта, видать, не наша, другая. Лучше не будем ее пугать, пусть гуляет. Поедем обратно, дед, – приказала боярыня.
Лосиха медленно повернулась и пошла в лес. Отойдя в сторону, долго смотрела вслед людям. Они не заметили, что в густых кустах прятались два несмышленыша-лосенка. Мать готова была защищать их. Эту скрытую угрозу и почувствовала Агаша, отказавшись подойти к лосихе.
По дороге домой Федосья Прокопьевна думала о плечистом молодом красавце, живущем на кордоне. Как он там один? Что ест, что пьет? И о чем кукушка кукует? Что сказать хочет?..
В сердце женщины поселилась непонятная тоска, куда-то зовущая и одновременно пугающая.
Колеса брички спотыкались о корни деревьев. Жгло солнце, поднявшись почти над головой. Даже ветви деревьев не спасали от жары.
– Сейчас лес кончится, дорога ровней пойдет. Потерпи, боярыня! – повернулся к Морозовой Леонтий.
«Боярыня! Какая я боярыня? – вдруг встрепенулась Федосья Прокопьевна. – Потерявший дорогу путник. Или слабая беспомощная женщина. Люди считают меня сильной и всемогущей. А что я могу? Нищих и убогих накормить? Милостыню в церковь отнести?»
Она мужняя жена. Распоряжаться деньгами права не имеет. Раньше это ее и не волновало. Отец с матерью так их, четверых детей, воспитывали: «Не гоняйтесь за богатством, не завидуйте другим, чужого не берите!». И все они выросли достойными, добрыми и честными людьми. Братья – Федор и Алексей – воеводы, заветы отца Прокопия Федоровича чтут и исполняют. Сестра Евдокия – хорошая жена, мать двоих детей, Бога чтит, как и сама Федосья Прокопьевна. Ей, правда, Господь семейного счастья мало отмерил… Но где его на всех возьмешь?
От таких мыслей на сердце стало ещё тяжелее. И пожаловаться некому. Не деду же Леонтию? Хотя он слушать и размышлять способен. И к ней так внимателен, словно в душу гладит.
– Дед, а скажи-ка, – обратилась она к старику, не желая больше оставаться наедине со своими мыслями, – это правда, что ты своему Богу молишься, не Исусу?..
– Было так, но давно, матушка-боярыня. Твой свекор покойный солеными розгами заставил Христу поклоняться. Тогда он был думным дьяком. Приехал однажды со стрельцами из Нижнего в наше село, согнали всех жителей к речке, крестили в ледяной воде. Я сильный был, долго сопротивлялся. Взяли за волосы, и – в тарантас. Два месяца держали в остроге. Потом свекор твой взял к себе слугой… Сейчас, матушка-боярыня, я никому не верю: ни Богу, ни черту.
Федосья Прокопьевна, пораженная откровенным разговором старика, молчала. Она сейчас чувствовала себя соучастницей того злодеяния, которое когда-то совершил ее свекор, сделав свободного человека рабом и кнутом навязав ему чужую веру. Была бы у старика семья, дети и внуки – не ждал бы он смерти, как избавления от невыносимой жизни.
– А каким он был, покойный свекор? – спросила боярыня, чувствуя, что ему ещё хочется выговориться.
– Кхе-кхе, о покойниках плохо не говорят… Но старый боярин не заслужил хорошей памяти. Злой он был. Чужих женок и невест насиловал, крестьян на щенят менял…
Федосья Прокопьевна испуганно перекрестилась. Кучер ласково понукал лошадь и больше не оборачивался.
В лесу стало прохладнее. На солнце то и дело набегали легкие тучки. Они плыли с закатной стороны. Подул свежий ветерок. Появились комары, и с каждой минутой их становилось всё больше. Леонтий остановил лошадь и, кряхтя, слез с козлов. Доковылял до тонкой березки, сломал ветку, принес ее боярыне, чтоб она отгоняла лесных кровопийц.
– Хорошо, что мы не в лесу остаемся. От комаров и мошки здесь спасения нету…
Федосья Прокопьевна вдруг вспомнила о парне, живущем на кордоне. Наверное, и старик о нем сейчас подумал. «Интересно, какой он: добрый или злой? умный или глупый? смелый или трусливый? Конечно, он хороший! Плохим быть не может человек с такими глазами». А уж глаза-то она запомнила: пронзительные, глубокие. Как колодец в жару – найдешь, станешь пить и никак не напьешься. Ей нестерпимо захотелось увидеть их вновь.
* * *
Июль не зря зовут макушкой лета. С этого месяца, как с высокой горки, катится лето под уклон. Начинается жатва. Вылетают подросшие птенцы из гнезд. В ржавых болотах по ночам тревожно кричат цапли. И хотя в полях по-прежнему буйно цветут травы, солнце подолгу стоит в зените и обжигает своими жаркими лучами всё живое – всюду таится грусть: скоро лето закончится и придут серые ненастные дни, длинные холодные ночи…
Федосья Прокопьевна любит на закате сидеть у открытого окна и думать о прошедшем дне. Сегодня у нее в мыслях дела не домашние, а церковные. Всё запуталось в такой клубок забот, что не размотать и не понять, где их начало и где конец, кто прав, а кто нет. Зачем надо было менять обряды? Чем новые лучше старых? Этого Федосья Прокопьевна понять не могла. Она помнила, как однажды юродивый Чудова монастыря карлик Митька Килькин сказал ей: «Молиться, боярыня, молись, да не каждому батюшке верь! Некоторые из них как маслята червивые: снаружи – свежи и крепки, изнутри – гнилые». Правильно говорил божий человек! Сколько духовенства разного ранга за Никоном пошло, сразу забыв старинные порядки. С рождения верили, чтили дедовы обычаи, а тут сразу взяли и забыли. В душе Федосьи Прокопьевны всё кипело от этих мыслей. «Кому же верить, – думала она, – царю? Но его сам Никон и за рукавицу не считает…»
Она встала со своей скамеечки и в волнении прошлась по комнате. И вдруг ее осенило: «Но ведь если я сомневаюсь, значит, и другие тоже. Бояре и их дети не должны так просто похоронить старую веру. Вот на них и надо опереться, с ними надо сойтись!».
Принять решение – это уже половину дела сделать. Она немного успокоилась. Опять села и стала думать, с кем ей поговорить в первую очередь. Ее уединение прервал Сидор. Постучался и вошел, сутулясь, робко.
– Что тебе? – Федосья Прокопьевна была не расположена сейчас заниматься домашними делами.
– Борис Иванович послал… Велел прийти. Сам Государь приедет скоро. Говорит, по дороге с охоты…
– Хорошо! – сжала губы недовольная боярыня. – Скажи, приду.
Ей не по душе было, что деверь так ею командует. Царя пригласил как к себе домой! Но что ей остается? Оделась-принарядилась и пошла к гостям.
Все уже вышли под окна терема встречать царя. Алексей Михайлович верхом въезжал в распахнутые настежь ворота. За ним следовала свита – два десятка стрельцов, сокольничие, слуги. На нем синий, расшитый золотом кафтан. На ногах – высокие сапоги из тонкой телячьей кожи. Спешился, поздоровался с Морозовым, кивнул весело боярыне и стал рассказывать, как сокольничий Матюшкин чуть было не утонул в болоте, когда вытаскивал убитых уток.
Потревоженные шумом, смехом и громкими голосами людей, в клетке, притороченной к седлу сокольничего, всполошились два сокола – забили крыльями, заклекотали. Рядом, успокаивая птиц, стоял и виновник разговора Матюшкин. Был он весь в грязи, мокрый. Федосья Прокопьевна позвала человека и велела ему отвести сокольничего в баню и дать ему чистую одежду. Матюшкин благодарно поклонился и ушел за слугой.
Борис Иванович увел гостей в залу, где давно накрыли столы. Алексей Михайлович, и без того веселый и довольный, увидев угощение, пришел в восторг. Потирая руки, сел во главе стола.
Подняли кубки за величие Русского государства. Царь только пригубил, но за другими зорко проследил, чтоб осушили до дна, потом сказал, обращаясь к Морозову:
– Россия-матушка – колыбель всей земли. Своих жителей она как детей в зыбке качает: жалеет, лелеет. Я тоже люблю своих подданных. Никому зла стараюсь не делать. Хоть раз я кого обидел? А? Скажи-ка!
– Твоя правда, Государь! – воскликнул Морозов. – Не помню такого случая. Ты справедливый правитель. Недавно и Паисий, Дамасский митрополит, хвалил тебя за твою душевность. Детей, говорит, ваш царь очень любит.
– В детях мое счастье! – Алексей Михайлович был доволен похвалой. И впервые смело посмотрел на Федосью Прокопьевну. Его смущали ее строгость и красота, но он также знал от Бориса Ивановича, что она прекрасная любящая мать. Значит, поймет его…
Но у Морозовой не было симпатии к царю. «Кот мартовский! – неприязненно подумала она, поймав его взгляд. – Жену каждый год брюхатит. И о Фиме Волжской много наслышана. Прямо в монастыре свидания устраивают…»
Об этом Федосье Прокопьевне открылась сама Мария Ильинична, тяжело переживавшая измену мужа. Ее бабья судьба такая: хотя и знаешь, терпи – пусть ты и царица! Даже сейчас в ушах стоят ее горестные слова: «Муж мой охоч до любовных утех. Ему меня мало. Да и какая из меня утешительница: то на сносях, то больная после родов…».
Другому бы мужчине Федосья Прокопьевна любой грех простила («Все они кобели, такими их Бог сделал!»), но царь в ее понимании должен быть оплотом нравственности. А это далеко не святой, да ещё и хвастается: «Никого не обидел!». Ишь оборотень! «Тишайшим» зовется только потому, что все пакости исподтишка делает. Вон с Никоном связался, всю жизнь русскую с ног на голову перевернули, веру у людей украли…».
Федосья Прокопьевна так разволновалась от своих мыслей, что побледнела, и руки, держащие кубок, задрожали.
– Что с тобой, Федосья? – испугался Борис Иванович. И было в его голосе столько тревоги, даже царь посмотрел в их сторону. Посмотрел и встретился с ненавидящим взглядом боярыни. Огромные темные глаза ее метали молнии. Алексей Михайлович даже поежился и с трудом отвел взгляд. Посидел, собираясь с мыслями и вертя в руках расписную ложку, бросил ее с грохотом на стол и встал.
– Федор! – крикнул он Ртищеву, сидящему в другом конце стола. – Поднимай всех. Пора домой, засиделись в гостях! – А потом повернулся к Морозову и добавил с ядовитой усмешкой: – Спасибо вам, хозяева дорогие, накормили-напоили – век не забуду! – И, не обращая внимания на Бориса Ивановича, пытавшегося что-то сказать, быстро пошел к выходу.
Федосья Прокопьевна до смерти испугалась. Встала еле живая из-за стола и, не оборачиваясь, заспешила в летний домик, где последние два месяца жила с отцом и Парашей.
До вечера ждала деверя, тот так и не пришел. Потом от слуг услышала: старший Морозов уехал в столицу вместе с царем. В одной карете. И ещё Параша рассказала вот о чем. Старшему сокольничему, который грязным к ним пришел, царь приказал до города пешим идти. На своих двоих. Даже стрельцов оставил, чтобы следили, как он выполнит его наказ. Чтоб, говорит, знал ротозей, как без его разрешения в чужую одежду облачаться.
– Каждая собака по-своему лает! – вслух бросила Федосья Прокопьевна. Что этим она хотела сказать – Параша всё равно не поняла.
Теперь боярыню не волновала безмолвная ссора с Романовым – она живет своим умом, да и Богу они молятся по-разному. Они с Тишайшим – духовные враги.
* * *
В тот день, когда Тикшай тайно приехал к деду Леонтию, у Морозовых были гости – трое мужчин. Они с дедом спрятали короткохвостого рысака под навес, сами зашли в конюшню и стали наблюдать в оконное отверстие, что творится на улице. Вот мужики вынесли из подвала свиную тушу, свалили в телегу. Девушка-служанка вынесла что-то в большом кувшине, начала их поить-угощать.
Подошла к крыльцу Федосья Прокопьевна и сказала отъезжающим:
– Пусть Евдокия Прокопьевна в гости приедет. С Петром Семеновичем.
– Твои слова передадим сестре, боярыня, – сказал самый старший и взял вожжи. Подвода тронулась.
Морозова снова зашла в терем, а девушка с кувшином до тех пор смотрела на пыльную дорогу, пока подвода не скрылась с глаз.
– От Урусовых четыре овечьих туши привезли, а отсюда, видишь, уехали со свиной. Бояре всегда так угощают друг друга. Когда, конечно, близкие родственники, – сказал старик и сел латать хомут.
Тикшай не стал расспрашивать его об Урусовых. Сел за стол и торопливо принялся за холодную уху. Поев, спросил:
– К вам, дед, часто приезжает боярин Львов?
– Приезжает, сынок, как не приезжает. Он и недавно заезжал. Сам видел, как с Глебом Ивановичем романею пил.
Сердце парня тревожно забилось. Если Львов пошлет сюда сыщиков, сразу его поймают. Да и Мария Кузьминична может продать его – она знает, что его дед весь свой век трудится у Морозовых. Об этом Тикшай ей сам рассказал. Куда теперь двинуться, пока Стрешнев не найдет ему пристанище?
Тикшаю пришлось открыть деду, что с ним стряслось.
Тот недовольно пробурчал:
– Так тебе и надо! Не лезь к боярыням под юбку! Знай свое место!
Когда стемнело, Тикшай вернулся в свою лесную избушку. Здесь жил когда-то монах-отшельник, одновременно и сторож морозовского леса. В прошлом году он умер, и в лесную глушь больше не ступала нога человечья, если не считать деда Леонтия и Тикшая.
Тикшай живет здесь второй месяц. Дед привез ему кое-какую одежонку, ржаной муки, соли и пищаль, которую достал неизвестно где. Возле избушки ходили кабаны, рыли землю, не боясь никого, резвились лоси. Мясо только добывай, не ленись. Недалеко протекала Москва-река. А в ней рыбы – хоть руками бери! Так что с голоду не помрет. И бояться, кроме медведей, некого. Тикшай целыми днями бродил по лесу. Собирал грибы и ягоды, ловил петлей зайцев, любовался цветущими полянами, купался в реке. Но рай вскоре превратился в тюрьму. Парень стал тосковать по людям. Одиночество и зверь не всякий вынесет. А тут молодой, полный сил мужчина. Некому слова сказать. Некому душу открыть. Вокруг только деревья шепчутся да птицы поют. С ними не наговоришься!
А тут ещё дожди зарядили, как назло. Крыша у домика худая, протекает. Сегодня ночью, пока спал, Тикшай промок до нитки. Утром решил наведаться в Приречье, Давно голоса человечьего не слыхал, людей не видал. Не знал он, что деда нет в поместье: поехал в Москву отвозить гостя Морозовых. Поэтому и пришлось Тикшаю ждать ночи, бродить по саду боярскому, скрываясь от посторонних глаз. А дождь, утихший было с утра, пошел вновь. Поднялся ветер. И опять Тикшай промок до дрожи.
* * *
Федосья Прокопьевна с утра успела искупаться в речке. И, наверное, уж в последний раз в этом году. Скоро Ильин день.
Боярыня, торопясь, одевалась на берегу, когда поднялся сильный ветер, по небу побежали темные тучи. Всё обещало бурю. И она не заставила себя долго ждать. Ветер усилился. Трещали стволы больших сосен, согнулись к самой воде прибрежные ивы. Федосья Прокопьевна с трудом завязала платок на голове – легкая ткань так и рвалась из рук, норовя улететь по ветру. Свирепым быком заревел гром, засверкали молнии.
Федосья Прокопьевна, борясь с напором ветра, еле добралась до сада, остановилась, чтобы перевести дыхание. Сад шумел как штормовое море.
На пороге летнего домика стоял Прокопий Федорович и тревожно вглядывался в глубь сада: не спешит ли домой дочь. Беспокойство его с каждой минутой усиливалось. Буря разыгралась не на шутку. Где-то в саду раздался треск – видимо, поломалась старая яблоня. Послышался крик, и сквозь пелену дождя показалась несущаяся галопом испуганная лошадь, сорвавшаяся с привязи. Оборванная уздечка моталась из стороны в сторону.
Наконец он увидел дочь. Мокрая, в прилипшем к ногам сарафане, мешавшем ей бежать, она изо всех сил боролась с ветром, который пытался ее свалить, сломать, как яблоню. Но стройное тело гнулось к земле, ноги неутомимо несли ее к дому.
– Ох, батюшка, еле жива осталась! – воскликнула Федосья Прокопьевна, увидев отца.
Он молча закрыл за ней дверь и прошел к окну, продолжая наблюдать за буйством природы. В эту минуту ослепительно сверкнула молния и раздался оглушительный удар грома, словно небо над их домиком раскололось на мелкие осколки. Федосья Прокопьевна вскрикнула и кинулась к отцу. За окном, как гигантская свеча, вспыхнул старый тополь. Отец был невредим, даже спокоен.
– Батюшка, что молчишь? – принялась тормошить его боярыня. – Скажи что-нибудь! Мне страшно…
– Всё в руках Божиих, дочка! Нечего бояться. Лучше молись!
Федосья Прокопьевна без сил опустилась на колени перед божницей, подняла глаза на грустный лик Спасителя.
Параша, осеняющая крестным знамением окна и двери, тоже присоединилась к хозяйке. Женщины молились долго и горячо. Прокопий Федорович стоял у них за спиной и поклоны клал поясные, степенные. Молился, как обычно, двумя перстами.
Гроза стала стихать, ушла в сторону Москвы, но дождь ещё лил, и сверкали запоздалые молнии. Гром из разъяренного быка превратился в добродушного ворчливого деда.
Федосья Прокопьевна, перебравшись в свою горницу, сняла с себя мокрую одежду, надела сухую рубашку и распустила косы, замотанные вокруг головы: пусть волосы высохнут побыстрее. И вдруг заметила мелькнувшую за окном тень. Подошла к окну поближе. За слюдой – лицо мужчины. Потом – рука и тихий стук. Сердце боярыни вздрогнуло:
– Кто там?
– Отвори, боярыня! Промок я насквозь.
– Кто ты?
– Открой, узнаешь!
Словно околдованная низким бархатным голосом, Федосья Прокопьевна ответила:
– Зайди за угол, там дверь. Сейчас отопру.
Спрашивая себя, зачем она это делает, прошла, крадучись, в коридорчик, открыла дверцу, ведущую в сад. Перед ней стоял высокий крепкий парень. Мокрая рубаха облепила могучие плечи, по светло-русым волосам стекали струйки дождя. Он в упор смотрел на нее. И тут только Федосья Прокопьевна вспомнила, что она почти нагая, в одной рубашке, с распущенными волосами.
– Что глаза пялишь? Бабу никогда не видел?
– Такую – впервые…
– Ишь ты, оценщик какой!.. Молодой, а ранний.
– Будешь ругать, боярыня, аль погреться пустишь? – Пока он стоял в дверях, на полу с него натекла лужа. Да и самой Федосье Прокопьевне стало холодно.
– Идем! Только тихо, услышат– греха не оберусь.
– Куда идти-то? Темно, ничего не вижу…
Федосья Прокопьевна взяла парня за руку, молча повела по коридорчику в горницу. Завела, усадила на скамью.
Ужасаясь своим словам и действиям, помогла незваному гостю снять мокрую рубаху, принесла с постели покрывало, закутала его.
– Так теплее?
– Спасибо, Федосья Прокопьевна, теперь не умру…
– Ты знаешь, кто я? А сам как сюда попал?
– Шел, шел и пришел… – горячим шепотом отозвался Тикшай.
Боярыня смущенно опустила взор, кровь в ней кипела, руки не слушались разума, они так и тянулись к парню – дотронуться до его мускулистых плеч, упругой гладкой кожи, мокрых густых волос.
– Ох, да ты босой?
– Сапоги на крыльце бросил. Грязные они…
– Надо же их немедленно просушить. Пойду принесу, сиди тихо. – И она выпорхнула из горницы от греха подальше.
В коридорчике наткнулась на Парашу. Обе от неожиданности испуганно вскрикнули.
– Ты чего здесь? – смутилась Федосья Прокопьевна.
– Я к тебе, боярыня. Боюсь одна спать. В окно кто-то заглядывал.
– Это тебе почудилось! Никого на улице нет. Иди ложись и меня не пугай, – строго приказала Морозова.