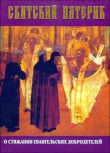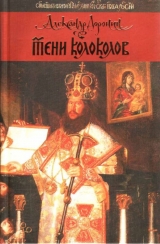
Текст книги "Тени колоколов"
Автор книги: Александр Доронин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 29 страниц)
Долго Аввакума убеждали: что-де ты упрям, протопоп? Вся-де наша Палестина – сербы, албанцы, римляне, поляки – тремя перстами крестятся; один-де ты стоишь на своем упорстве.
Аввакум отвечал умно и убедительно:
– Вселенские учителя! – говорил он пламенно. – Рим давно упал и лежит навзничь, ляхи с ним же погибли, предав христианство. А ваше православие опоганил турецкий султан Магомет. Что на вас удивляться: немощны вы стали. И впредь приезжайте к нам учиться. У нас Божию благодатью самодержство.
Говоря, он внимательно слушал, как Дионисий переводит, и про себя думал: смотри-ка, бывший монах, что ходил в прислугах у Никона, теперь уже архимандрит, рукавом ризы помахивая, других учит. Это он обоим Патриархам писал, что русские обряды, мол, в старых церквах от незнания введены. Поди не верь ему – шепнет об этом Государю, тот не меха и деньги им покажет, а коровий хвост. Патриархи, склоня головы, слушали предателя Дионисия. Словно Пилат он…
Русь, слава Богу, всегда сама себя кормила и своим умом жила. Ещё при Иване Грозном святой Собор указал, сколькими перстами креститься. На том Соборе были казанские чудотворцы, соловецкий святой игумен Филипп. Об этом Аввакум и сказал.
Патриархи задумались. О чем-то стали шептаться друг с другом. Тут вскочил со своего места архиерей Илларион, которого Никон деньгами подкупил:
– Наши святые ни черта не знали, зачем им верить!
Здесь уж Аввакум не сдержался. Не разбирая слов, закричал:
– Еретики вы! Собачьи хвосты! Похабники! Вражьи души! Всякое случалось в Крестовой палате, но таких обвинений здесь никто не слышал.
– Возьмите его, грязного раскольника, за шиворот! Десять псов-епископов кинулись на Аввакума. Рыжий дьякон схватил его за бороду, потянул к двери. Не-е-т, сразу не свалишь протопопа! Силен, как медведь. Всё равно сбили с ног, стали пинать куда попало. С рычанием раненого зверя Аввакум поднялся и, утирая кровь с лица, встал на колени, громовым голосом изрек:
– Как вы, убийцы, станете в церквах служить?!
Все остолбенели на своих местах, против таких слов не знают, что сказать. Аввакум лег у порога – стоять он, видимо, не мог, так ему досталось! Бросил сквозь зубы:
– Вы думайте, а я отдохну, вы судите, а я посплю.
– Дурак ты, протопоп, – бросил кто-то в сердцах. – Против ветра не плюют.
– Мы дураки, да праведны, вы умны, да бессовестны…
Спорили ещё долго, а потом Аввакуму сказали:
– С тобой нам больше не о чем говорить, хватит, мы устали от тебя.
Лишили Аввакума сана, сбрили бороду, на челе ни одной волосинки не оставили. Вывели из зала, чтоб посадить на цепь.
На третий день отвезли в земляную тюрьму на Воробьевых горах. Там он встретился с теми, кто, как и он, не отступил. Это были соловецкий старец Епифаний, оставивший монастырь и приехавший в Москву защищать царя от Никона, тобольский дьякон Лазарь. В последнее время Лазарь жил в Пустозерске, оттуда его привезли на Собор. Своим соратникам он рассказал о суде над ним. «Всех архиереев я обозвал ворами. Хотели было закрыть мне рот силой, да здесь я встал перед ликом Божьей Матери, сказал: «Прошу я вас лишь об одном: в костер меня бросьте. Если сгорю – тогда в новых книгах правда, не сгорю – правда на стороне старых книг».
Высокие гости руками замахали: таких прав, мол, они не имеют. С этим вопросом обратились к царю, и тот на «божий суд» не решился.
В тюрьме на Воробьевых горах их держали месяц. К Аввакуму привозили монаха Григория (Иван Неронов), дьяка Дементия Башмакова, архимандрита Иоакима и других. Только зря: тот их выгнал. Возили его из монастыря в монастырь. Царь всё ещё верил, что с ним поладит. Даже своей жене и детям просил у него благословения.
Аввакум остался тверд, в ответном письме вновь напомнив, что не ему, а Государю самому надо отказаться от заблуждений.
Как сам Романов «благословлял» Аввакума и его соратников, об этом старец Епифаний своей семье так пишет: «На Урешу привезли нас в часу осьмом. Каки только привезши, тотчас стрельцы взяли Аввакума за руки, голову прикрыли рогожею и повели через задние ворота. Увидев всё это, удивился боле и забоялся. Уже стал проститься со семьею своею и близкими да родными. Пришел стрелецкий голова и тако же рогожею меня прикрыл. Завели в темную келью, той двери и окна глиною замазаны, без одной расщелины…»
Услышали в Москве, куда осужденных отвезли, многие их навещали. Об этом через знакомого человека Аввакум сообщает в Мезень. Через некоторое время оттуда приехали два его старших сына – Прокопий и Иван. К отцу их не пустили. Так сделали и с Федосьей Прокопьевной Морозовой, которая обещала стрельцам кучу денег.
Сыновей его три дня допрашивали. Взяли с них обещание, что они не пойдут по отцовскому пути, иначе посадят в тюрьму.
Однажды в монастырь приезжал и Государь. Ему уже и тропинку свежим речным песком посыпали. Алексей Михайлович, говорят, остановился под башней, в которой держали бывшего протопопа, пальцем поманил стражника и спросил, как живет-поживает осужденный. Удовлетворился ответом и обратно в Москву укатил. «Видимо, жалеет меня», – сказал Аввакум, узнав об этом.
Навестил его князь Хитрово. Вошел в его «душегубку» – от вонючего воздуха чуть не захлебнулся. Кричал, кричал на стражника, чтоб тот свежего воздуха пустил Аввакуму. На этом все его благодеяния и закончились.
Раз в Урешу приехал Артамон Сергеевич Матвеев. И он хотел было уговорить Аввакума покориться. Аввакум не стал его и слушать. Тогда Матвеев смертью пригрозил.
– Смертью меня не пугай, я ее не боюсь… Для страдающего она – избавление от мук.
Только в конце августа Государь повелел выслать узников в Пустозерск. Аввакума отвезли в село Братовщина, которое находилось между Москвой и Троице-Сергиевой лаврой. Лазаря и Епифания подвергли наказанию: при стечении народа на берегу Москвы-реки им отрезали языки. Аввакума защитила от такой доли царица.
С Братовщины начался их длинный путь в «безлесную тундру, в Пустозерск». Вез их на простой телеге под охраной девяти стрельцов сотский Федор Акишев. К людям бывших попов не допускали. В городке Усть-Илим, что на берегу Печоры, Аввакум, сказывают, воспользовался случайной встречей с мужиками, встал на колени, поднял два пальца, крикнул им:
– Православные! Вот истинная вера, только это крещение ваши души очистит!
Стрельцы силой повалили Аввакума на дно телеги, надавали тумаков и заткнули рот ветошью. Да слово не воробей, вылетело – не поймаешь. По всему пути за ссыльными быстрой птицей неслась народная молва как о героях, принявших страдание за правду.
* * *
В последнее время Федосья Морозова впала в немилость у кремлевских жителей. Царица невзлюбила ее за то, что после смерти Бориса Ивановича ее сестре Анне Ильиничне мало богатств досталось. Те, кто стоял за Никона, осуждали за защиту Аввакума. Пол-Москвы восстало – как это, боярыня, и против церкви?! Алексей Михайлович даже по этому поводу в Тайный приказ наведывался: поставьте, мол, ее к позорному столбу. Постоит-постоит, одумается, не будет в дела государственные лезть…
Нашел и другие средства устрашения – отобрал у нее три села в пользу казны: Морозовку, Сосновку и Гуляево. Да бог с ним, пусть насытится! Федосья Прокопьевна не столько из-за имений горевала, сколько из-за сына. Чем и как охранять его от земных грехов?
Иван Глебыч, Ванюша ее, теперь кремлевский сотский. Высок, статен, глаза как жемчужины. Вертихвостки-невесты сами за ним ухлестывают. Вот недавно Федосья Прокопьевна сама слышала, как Наталья Нарышкина приглашала Ивана на Москву-реку гулять. Там каждую среду, в ярмарочный день, проводятся медвежьи схватки. Зрители вопят от восторга, когда начинают лететь клочья шерсти.
«Да, человек сам словно дикий зверь», – вздыхает горестно Федосья Прокопьевна и проклинает новые порядки. Только и находит утешение у икон, когда молится.
Сегодня Параша прервала ее беседу с Господом, крикнула с порога:
– Боярыня, баня давно уже готова!
Федосья Прокопьевна пошла в чулан, снимая с пояса большую связку ключей. Открыла замок большого кипарисового сундука, подняла тяжелую крышку. А там чего только нет! Рулоны заморских тканей рядом с кусками беленого холста, сирийские шали вперемежку с домоткаными рушниками. Взяла вышитый рушник и холщовую рубашку. Постояла, размышляя о чем-то, открыла другой сундук, обитый медными полосками. На нее пахнуло ладаном и амброю. Порылась в ворохе платьев, сарафанов, расшитых бисером головных уборов и поясов. Открыла третий сундук. Здесь хранилось приданое, приготовленное когда-то матушкиными руками и ею самой. От нахлынувших воспоминаний юности защемило сердце, навернулись на глаза слезы.
Из сундука пахло девичеством, утехами, праздником. Федосья Прокопьевна со вздохом прикрыла его и осенила себя двуперстным крестом, вспоминая покойных батюшку с матушкой.
Только в четвертом сундуке среди свеч, завернутых в куски полотна, запасов ладана, елея лежала ее «смертная» одежда и саван. Тут она нашла и то, что искала: черную власяницу – рубаху из конского волоса. Вынула ее, развернула и примерила к себе. Потом со дна сундука извлекла ещё одну реликвию – икону Божьей Матери. Икона была в тяжелом серебряном чеканном окладе со множеством драгоценных камней, даренная царицею Марией Ильиничной в день крещения младенца Ивана Глебыча, коему государыня стала крестной матушкой.
Боярыня расстелила власяницу на коленях, сверху положила икону. Она уже позабыла лик Богородицы, так долго пролежала святыня в схороне, чтобы не пал на «душу чистую» чей-то лукавый взгляд, что невольно бы отразилось на сыне. Может, потому и вырос Иван Глебыч чистым, прозрачным, как родниковая криница. Вот и пришел час достать государынин подарок, объявить сыну драгоценный посул, чтобы отныне отрок не отводил своего взора со святого образа и ведал, какой путь ему уготован.
Она же сама, уставшая от житейских забот и мирского греха, свар и пререканий с дворнею, может, наконец, облачиться в иноческий покров невест Христовых?
С этой думою Федосья Прокопьевна вернулась в свою опочивальню, убрала икону в ящик стола на гнутых ножках, привезенного мужем из польского похода. Подошла к настенному зеркалу и, приложив власяницу к пышной груди, с каким-то отчужденным пристрастием поглядела на себя. Но увы! В зеркале отразились лишь блажь сверкающих глаз и чары зовущих губ.
Выколоть бы себе глазища, как святая Мистридия, чтобы не видеть этот игривый взгляд, зазывно яркие на похудевшем от долгого поста лице губы, манящие ямочки на щеках. Словно защищаясь от соблазна, боярыня подняла власяницу к самому подбородку.
От черных лоснящихся нитей взгляд Федосьи потемнел, в глубине зрачков зажглись искры, а бледность скуластого лица стала мраморной и неживой. В зеркале отражался и столик на кривых ножках, где было выставлено всё ее женское богатство: коробочки и баночки с румянами-белилами, шкатулки с драгоценными украшениями, ручные зеркальца и различные гребни.
От всего этого повеяло на боярыню любострастием. Каждый предмет нашептывал соблазн и искушение. Федосья Прокопьевна сгребла в подол всё свое сатанинское хозяйство и бросила в ящик стола, заперев его на ключ. Снова прикинула на себя власяницу. И впервые чин иноческий, о котором прежде думалось с благоговением, вдруг стал близким делом. Завтра бы и постричься! – таким нетерпением зажгло душу. Федосья Прокопьевна подхватила рубаху и пошла в баню.
Параша уже ждала. На широкой полке во всей своей красе лежала, как беломраморная статуя. Ее вид показался боярыне вызывающе бесстыдным.
Боярыня мокрой мочалкою так огрела девицу, та аж в предбанник вылетела.
Федосья Прокопьевна выплеснула на горячие камни ковш свежего медового кваса. Баня тут же наполнилась душистым жаром. Схватила духмяный, на часок опущенный в лохань с горячей водою веник, легла на самую верхнюю полку и давай им хлестать по белому телу. От удовольствия даже прикрикивала.
Вошла Параша, второй веник взяла. Хлестала, хлестала им по спине хозяйки, словно хотела так свою досаду выместить. Когда одевались, от Параши, конечно, власяницу боярыня скрыть не смогла. Пришлось свою душу ей открыть: таскает, мол, эту рубаху от злых чар да всяких земных соблазнов. Надетая на чистое тело, власяница особо полезна, от сатаны защищает.
Федосья Прокопьевна не спеша пила чай, когда в ее опочивальню болтливой сорокой влетела Анна Ильинична, царицына сестра, ныне тоже вдова.
– Я тебя, невестка, сыскать не могла. Обежала весь дом. И девки сенные не знают, где хозяйка.
Гостья подслеповато щурила сурьмою наведенные глаза, привыкая к мягким сумеркам, едва разбавленным светом лампадки. Шумная, зычная, она сразу заполнила собой всё пространство. И тут взгляд ее упал на власяницу. Анна Ильинична ущипнула себя за руку, не веря глазам своим.
– Что дурачишься?
– Про что это ты? – притворилась Федосья Прокопьевна.
– А всё про то… Полвотчины отрезали и остальное отберут.
– Тебе-то что за дело? – обрезала ее Федосья Прокопьевна. Ей стало неуютно в грубой рубахе под чужим взглядом. Показалось, что святая броня, которую она ковала с вечера, вдруг улетучилась. Она торопливо содрала сорочку. И вдруг от неожиданной мысли успокоилась. – На, прикинь. Ты шибко толста, а я тонка, как спица. Поди, в самую пору, – протянула власяницу с насмешкою. Любит гостья сладко поесть и с того раздалась во все стороны, как пасхальный кулич.
– Дура ты, дура! – возмутилась Анна Ильинична, отталкивая Федосью. – Все вы, Соковниковы, дурковаты. И княгинюшка, сестра твоя Евдокия, такая же…
– Ты сестру мою не трогай! Тебе, охальнице, до ее святости далеко.
– Сынка-то хоть пожалей, святая! Ты ему пути режешь. Он Морозов! Ты-то кто? Потаскушка худородная. Глеб Иванович подобрал тебя, и царь до поры терпит…
– А ты, ты… Корова яловая! Пустая квашня. Иди, иди отсюда, пока не наддала, – взбесилась Федосья Прокопьевна. – Ещё учит, сплетница. – Не выдержав, пихнула невестку в спину, выставила за дверь, у гостьи соболья шапочка чуть с головы не слетела. – Насылай, насылай, злыдня, по мою душу врагов. Вьетесь вокруг, как вороны над трупом. Не получите! Я лишь суда Божьего боюсь.
«Господи, прости меня, грешную, – шептала Федосья Прокопьевна, заталкивая власяницу в печь. На загнетке ещё багровели живые угольки, и скоро в опочивальне запахло паленым. – Вон бесов-то как корчит, коль их за пятки поджарить. И запах-то смрадный. Поделом вам, поделом. Не суйтесь в благочестивый дом».
Ещё поплакала Федосья, но уже облегченно, помолилась и легла на пуховую перину почивать.
* * *
Пустозерскому воеводе в царской грамоте было указано: «Построить тюрьму, окружить ее высоким забором из толстых бревен, внутри выстроить четыре избы, их разделить перегородками, дабы заключенные не выходили оттуда, а также построить большой дом для охраны…»
Да где в тундре найдешь бревна? Воевода освободил четыре избушки – пусть все вместе живут, пока по Печоре не подгонят строевой лес. Весной 1668 года первым привезли в Пустозерск дьякона Федора, потом и Лазаря с Аввакумом. Вскоре ссыльные, лишенные языков, научились «говорить». Аввакум назвал это чудом: языки, мол, по воле Божьей выросли опять. Вначале Аввакум с друзьями по духу ходили вольно по городу, потом их поместили под стражу в только что отстроенные домишки. Даже друг с другом общаться не разрешали. Пришлось писать челобитную Государю. Только даром. Из Москвы приходили недобрые вести. Многое там изменилось, очень многое.
Церковный Собор утвердил никоновские нововведения. Службы во всех храмах разрешалось вести только по обновленным книгам, используя исправленные тексты молитв. Противников по-прежнему оставалось множество. Так, например, монахи Соловецкого монастыря наотрез отказались от троеперстия.
На острове зрела смута. Бывший архимандрит Никанор, высланный туда простым монахом, стал во главе бунтовщиков. Монахи прогнали игумена Илью, перестали в молитвах произносить царское имя. Стрельцов, присланных из Москвы для усмирения, они встретили стрельбой из пушек. Монастырские стены толсты, из дикого камня, стрельцам не одолеть. Кроме того, монастырь был богатым, его осадой не возьмешь, голодом не уморишь. Только пороха там держали более четырех тысяч пудов, меда – двести пудов, зерна заготовлено на десятки лет. Попробуй возьми такую обитель!
Слухи о соловецком восстании быстро разлетелись по городам и весям. Будоражили народ и вести из Пустозерска. Аввакума пол-Москвы лелеяло. Боярыня Морозова ему даже зимой присылала свежей малины. Его письма ходили по Москве из дома в дом, доходили, конечно, и до Государя, ведь Сыскной приказ почти за каждым следил. У Алексея Михайловича и без Аввакума было немало горя. Сильно болела жена, с которой живет вот уже двадцать первый год и которая ему родила одиннадцать детей, девять из них живы. На кого их оставишь, где им найдешь родную мать? С кем разделишь государственные заботы? Веретеном крутился царь, забыл даже любимую соколиную охоту.
Сам коршуном летает по Москве, клюет раскольников и их защитников. А тут ещё другая печаль-забота – разбойник Стенька Разин объявился. Этот казак, сказывают, писать и читать не умеет, сам же весь Дон поднял. Собрал войско из ста семидесяти тысяч человек – двинулся на Москву. Себя царем называет, ходит в расшитой золотом одежде, руки в золотых перстнях. Кто не поклонится ему в ноги – того на тот свет отправляет.
Так это на самом деле или по-другому – об этом точно в Москве не знают. Да и Государь Стеньку в глаза не видывал. Поговаривают о его атаманах – Харитонове, Федьке Сидорове, Алене Арзамасской. О последней Юрий Алексеевич Долгорукий царю так сказал:
– Алена – бывшая жена Никона. Монахиня. По захваченным селам от имени бывшего Патриарха попов ставит.
– Вот что, князь: против этой воровской стаи крепкие силы собирай и, не теряя времени, двигайся. Уберешь ее – пятью селами одарю…
Бояре облегченно вздохнули. А как же! Богатство, брат, веками наживается, а отобрать его – плевое дело. Такие холопы, как Стенька Разин, войдут в твой терем и порушат всё. Беглецов, уже потерявших всё, даже жен и детей, с Поволжья прибежало в Москву немало. Хорошо, у московских бояр именья под боком. Да долго ль до беды!
Златоверхо-Михайловский монастырь стоит на крутом берегу Москвы-реки. Обосновали его и построили на собственные средства, в честь святого отца Михаила, два купца: братья Златоверховы. Сперва поставили церквушку возле сильно бьющего родника, воду которого считали святой. Скоро к этому источнику потянулись отовсюду люди. Они верили, что сам архангел Михаил спустился с сияющих небес, чтобы помочь им, несчастным, и спасает их от бесконечных злых болезней, которые косили людей постоянно и нещадно.
Через некоторое время вокруг церквушки купцы построили дома-кельи, дворы, надворные постройки, бани, амбары, приспособления для копчения рыбы, причал и пирс для ремонта судов. И попросили единственную свою сестру Варвару отправиться туда жить. Так она и сделала. В течение двадцати лет скит превратился в женский монастырь.
Первой игуменьей была сама Варвара, хранительница монастырского имущества – строгая монахиня. При непосредственном содействии братьев она открыла ткацкую и вышивальную мастерские. Много дохода давала огромная пасека. В монастырском саду зрели яблоки, черная смородина, слива.
Как-то раз после заутрени в келью к игуменье ворвалась послушница и, тяжело дыша и отдуваясь, сообщила новость:
– Матушка Варвара, тута боярыню, слышь, привезли. На четырех лошадях. Красоты неписаной, вся в драгоценных перстнях. Дед Афанасий с ней пока в сторожке сидит, велел тебя звать.
– Кто такая, почему не спросили? – припухшие веки игуменьи нервно задергались.
– Морозовой назвалась.
– Ох, чучело огородное, с этого бы и начала! – всплеснула руками игуменья, словно от вороха пшеничного птиц отгоняла. – Сейчас же мне ключницу позови, где ещё она ходит, прости нас, Господи! – Постояла, подумала немного, затем добавила: – Ты сама ступай, истопи баньку. Да сухими дровами, смотри. Никакого угару чтобы не было. Слышь?
Игуменья торопливо бросилась переодеваться.
Незваную гостью торжественно ввели в дом ключницы матушки Феклы. Та с нею потом и в баню ходила. Парились до истомы, до изнеможения. На каменку лили молодой квас, им же и волосы споласкивали. После матушка Фекла шепнула игуменье на ухо: тело барыни белое, без шрамов и синяков. Все на месте. И не беременная. Жить бы ей в любви и достатке полном, жизнью наслаждаться да с милым сутками целоваться. А она, чокнутая, свое бубнит: думаю, грит, постричься в монахини…
– Ай-ай-ай, матушка родимая! – вскрикнула Варвара. Даже на миг про болезнь свою забыла, по келье молоденькой девчонкой забегала. – Да если она придет в наш монастырь-то, он ещё больше вырастет и укрепится! Самая богатая боярыня к нам пожаловала – подумать только! Без муженька она, вдовушка. Самое время у Бога защиты искать.
Не прошло и двух часов, как все обитатели монастыря собрались в храме. Федосью Прокопьевну поставили на колени перед аналоем, напротив лика Богородицы. Возле нее, держа черное монашеское одеяние, стояла худая, дрожащая старушка. Распустили черные, как смоль, длинные волосы барыни – те доходили ей до пояса.
Федосья Прокопьевна, притихшая, долго и печально смотрела на Богородицу с младенцем, дрожащими побледневшими губами шептала жалобные молитвы: «Господи милостивый, сохрани во мне Твою светлую любовь и веру! Помоги мне, пресвятая Богородица, завершить задуманные дела, изгони из меня боль мою и слабость!..»
Позади нее, тяжело опираясь на посох, стояла самолюбивая игуменья. Острый взгляд ее был направлен в сторону престарелого монаха Досифея, который что-то шептал на ухо Морозовой. Та его слушала и не слушала, с ее губ то и дело слетали непонятные слова. Игуменья подмигнула одной из монахинь. Та протянула Досифею ковшик вина для причастия. Иеромонах приставил ковшик ко рту боярыни и сказал:
– Испей, дитя мое, укрепи дух и тело кровью Христовой.
На клиросе монашеский хор запел душераздирающий псалом. В нем рассказывалось о ненужности и глупости земного существования, о пустых, никому не нужных человеческих страданиях, о нецелесообразности жизни вообще…С улицы торопливо вошла монашка, мышкой юркнула к игуменье, прошептала ей на ухо:
– Приехали человек двадцать. Верхом. Ворота закрытые ломают. Двое из них к двери кладбищенской нашей подалися. Боюсь, свалят-опрокинут. Дед Афанасий пристыдил было их, да куда там – не слушают, проклятые!
– Скажи деду, пущай держит бесстыжих. С Божьей помощью пущай держит! – Игуменья шагнула вперед: – Торопитесь, сестры! Где свечи-то?..
Будто ураганный ветер прошелся по рядам монахинь. Монашка, принесшая весть, вновь бросилась на улицу. Две чернавки принялись раздавать восковые свечи, зажгли их. Церковь ярко осветилась. Хор ещё печальнее и заунывнее затянул свои псалмы. Досифей снова склонился над боярыней, учил ее:
– Повторяй, дитя мое, что я буду тебе говорить: «Я, раб вечный Господа нашего, Иисуса Христа, увядший и погрязший в бесконечных грехах своих, хочу войти в царствие архангелов и быти всегда среди них – безгрешных…»
В руки Морозовой сунули зажженную толстую свечу. При дрожащем свете ясно виднелось бледное лицо боярыни, слезы, катившиеся ручьем из глаз ее. Досифей всё что-то нашептывал да нашептывал.
Игуменья вновь заторопила:
– Приступайте к постригу! Где ножницы?
– У меня, мать-игуменья! – откликнулась иеромонахиня. – Вот оне! – пощелкала ими по воздуху, будто их никто никогда и не видывал.
– Не спи, приступай к делу!
Игуменья строго поджала губы. Вдруг рот ее приоткрылся, глаза наполнились бесконечным ужасом. Позади себя она услышала мужской тяжелый голос:
– Как ты оказалась здесь, Федосья Прокопьевна?
Морозова словно очнулась от долгого, мучительного сна. Вскочила на ноги, даже горящую свечу из рук уронила. Перед нею стоял Богдан Хитрово, разглядывая ее в упор.
Боярыня вдруг вспомнила, что стоит перед ним простоволосая, ахнула, провела рукой по голове: половины волос как не бывало. Глянула назад – монахини распростерлись на полу, не дышат. Такое зло ее взяло, аж всем телом своим задрожала.
– Что тебе здесь надо, окольничий? Кто тебя послал сюда?
– Лично сам Алексей Михайлович. Приказал тебе передать: если будешь впредь о церквах нехорошо говорить – не простит, – зашипел Хитрово.
– Скажи Государю, пусть не пугает. Меня уже Господь простил. Он единый меня осудит.
– Ну-ну, гляди, кума, сама… Это твое дело… Мне что было велено передать, я передал…Хитрово ухмыльнулся в усы и двинулся к двери. Онемевшие от ужаса монахини даже и не шелохнулись, продолжая лежать ниц.
– Кроты вы слепые, а не люди! – рассмеялась, глядя на них, Федосья Прокопьевна. И от этих слов, как ей показалось, на душе стало легче, на свою будущую жизнь она смотрела теперь с легкой иронией и усмешкой. Улыбалась и отливающая серебром со стены Божья Матерь…
– С нынешнего часа ты, матушка, теперь монахиня Феодора. Свое прежнее имя забудь! – тихо, но властно промолвила игуменья, возвращая всех к действительности. Федосья Прокопьевна поклонилась в ответ и спокойно оглядела притихшие черные фигуры:
– Хорошо, Феодора так Феодора. Как Богу угодно. Денег и ещё кое-чего я монастырю дам, но среди вас жить не буду. Мне есть где молиться…
Игуменья только молча покачала головою.
* * *
Мария Ильинична крепко держала в своих руках всё кремлевское хозяйство. Заботилась о своем муже и детях. Народила ему пять сыновей: Дмитрия, Алексея, Федора, Семена, Ивана и шестерых дочерей: Евдокию, Марфу, Софьюшку, Екатерину, Марию и Федосью. Каждые роды, считай, полжизни ее собственной уносили. А тут ещё переживания: после смерти матери отец ее, Илья Данилович Милославский, женился во второй раз. Новая его жена была моложе самой Марии Ильиничны, за нею кудрявые стрельцы бегали, как угорелые, и, по всей видимости, не зря. Срамота, а что поделаешь! Отец, как дитя малое, все капризы юной жены прощал, лишь бы согласна была жить с ним.
Царицу утешали лишь дети. Им она отдавала всё свое материнское тепло и заботу, терпеливо учила их читать-писать, быть царевыми детьми, а значит, лучшими. Здоровье Марии Ильиничны шло изо дня в день на убыль. Душил беспощадно не отступающий ни перед какими лекарствами кашель, высасывая из груди последние силы. Через шесть месяцев она так высохла, что стыдилась появляться на люди. Хорошо, барсучий жир выручал, снимал приступы удушья. Его царица выпивала по четыре плошки в день. Противно, конечно, но что поделаешь? В нем было всё спасение.
И откуда ей было знать, что лето 1667 года станет для нее роковым. Вышло это так. По церковным обычаям, шестого августа проходило водосвятие. «Иордань» устраивалась для царя на Москве-реке, под Симоновым монастырем, для царицы же – в большом пруду под Коломной. Попробуй не искупайся – проклянут!
Мария Ильинична, хотя и чувствовала, что больна, лелеяла слабую надежду, что святое купание исцелит ее. Помолилась у ранней обедни, попросила у Бога себе облегчения, потом с огромным поездом, со всеми сестрами мужа, с дочерьми и придворными боярынями и остальным женским персоналом двора отправилась из Коломенского дворца на пруд.
Стояние в воде, пока шла служба, было довольно продолжительное, а тут, на беду, день выдался холодный, со стороны Новгорода дул резкий ветер. Находясь в воде, царица промерзла до костей. А после троекратного погружения ее вынули из воды посиневшую, полубесчувственную. Ни мед, ни отвары не помогли, озноб не прекращался, она не вышла и к праздничной трапезе. Болезнь снова взяла ее в плен. Так продолжалось до весны. В постели лежала без сил, обложенная подушками.
Во вторник на Страстной неделе Мария Ильинична призвала к себе духовника: готовилась в последний путь. Вся семья собралась перед ее спальнею. Первым вошел к ней царь. Она слабой рукой указала ему место у своего изголовья и сказала еле слышно:
– Прости, коль я тебе не угодила чем-нибудь… аль сделала что-нибудь плохое. – Из глаз ее текли слезы, сама тяжело дышала. Алексей Михайлович вдруг вспомнил, как когда-то бояре хотели разлучить их из-за того, что она долго не рожала сына. И поэтому он всегда после рождения очередной дочери входил к ней, измученной родами, виновато пряча глаза, как и сегодня. Только сейчас их разлучить хочет сам Господь. – Обо мне не тоскуй, береги свое здоровье, – продолжала говорить она, с трудом переводя дыхание. – Коль пожелаешь, так женись, только в обиду моих детей не давай. – Долго молчала, о чем-то думая.
Затем добавила: – Вторая моя просьба, Государь: проклял нас Никон, так ты упроси святейшего простить нас, и пущай молится обо мне и моих детях. Я всегда его любила, как сестра по вере. Прогнал ты его с патриаршего престола – от того его имя ещё больше прославилось, и теперь он больше свят, чем когда-либо. Видишь, великие хулы на нас свалились, без его благословения от них не очиститься…
Алексей Михайлович, склоня голову, слушал ее. Наконец сказал:
– Облегчу его судьбу. Архиерея пошлю, пусть за ним, простым монахом, днем и ночью ходит…
– Не монах Никон, а Патриарх. Как был он святейшим, таким и останется.
– Поклонюсь ему, – слезно обещал Государь.
Потом к умирающей вошли золовки и ее дети. Каждому она сказала добрые слова, с каждым поговорила. Прислонившись к высоким подушкам, тихо помолилась и, обведя всех туманным взглядом, вытянулась, даже «ох» не успела сказать – умерла.
Рыдания и вопли огласили терем. Царь без чувств упал, лекари закружились вокруг него.
Царицу обмыли, одели парадно, набелили и нарумянили исхудавшее лицо, положили в гроб и снесли в Золотую палату. На смертном одре, обставленная свечами и покрытая парчою, она была похожа на сказочную спящую царевну. У ее изголовья читал псалтырь архиерей, люд в черном одеянии входил и выходил, плача. Шло последнее прощание.
В Новодевичий монастырь, усыпальницу цариц, гроб несли на плечах одни лишь бояре. Царь и царевич Алексей громко, во весь голос, рыдали. А уж простых людей сколько было – не сосчитать! За гробом с воплями шли нищие и калеки. Им казалось, что после смерти царицы все с голоду помрут, или свет перевернется. Они очень любили Марию Ильиничну, она в Москве славилась своим милосердием, открыла десятки столовых, где простой люд кормили бесплатно…
* * *
Узнав о смерти царицы, Никон себе места не находил. Днем и ночью молился, плача, одно твердил:
– К беде это, к беде…
Через два месяца с мешком денег в Ферапонтов монастырь прибыл Родион Сабуров. У Никона он попросил от имени царя благословения Марии Ильиничне.
Деньги Никон не взял, сказал с обидою: