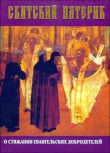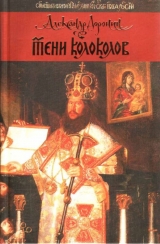
Текст книги "Тени колоколов"
Автор книги: Александр Доронин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 29 страниц)
К Лещинскому сон не шел, он сидел, скрипя зубами, за столом. Ломило спину. Из крепости Забарок вторую неделю не было вестей, и это его очень тревожило. Взял ли Хмельницкий крепость? Как идут дела под Смоленском? От русских и хохлов что угодно жди…
Из Москвы посол Пражмовский прислал письмо. Русский царь, мол, не стал пугать стрельцами восставших казаков, сам с войском отправился в Смоленск, сегодня-завтра вступит в бой с ними. Таким образом, Москва разорвала Поляновский договор, у Радзивилла дела также плохи. Правда, он взял в плен одного украинского атамана.
Канцлер развернул донесение Радзивилла, лежащее на столе. Снова начал читать витиеватые строки: «С помощью Иезуса и Марии разгромили большое войско полковника Кривчевского у города Лоева, а самого его, тяжелораненого, взяли в плен. Лучшие лекари ухаживают за ним, наказал им за любые деньги поднять его на ноги. Хотел подослать ему хитрого батюшку, может, раскроет душу, ведь он кум Хмеля. Когда привели попа, полковник недовольно сказал: «Хоть сорок попов продажных приведите – не нужны они мне, требую от вас только одного: ведро холодной воды!».
Донесение заканчивалось так: «В Киев никак не прорвусь – со всех сторон зажимают восставшие смерды. Здесь ходят слухи, что большое русское войско направилось к Смоленску…».
Канцлер положил письмо, задумался. Сейчас на крымского хана, Ислан-Гирея, надо поднажать. Возможно, и сам король поднимет воинов…
Лещинский потер уставшие глаза. Хватит сомневаться! Разгромят Хмельницкого, тогда он покажет сенаторам, где земляные черви живут!
Воспоминания о сейме испортило его настроение. Канцлер давно хочет его разогнать, да сил никак не хватает. Король – ярый защитник сейма.
Лещинскому захотелось подышать чистым воздухом. Вышел в парк, на широкой лавке вытянул опухшие ноги. Легкий ветерок дул ему в лицо. Недолгий приятный отдых! Полночь. Даже птицы уже спят. Неожиданно невдалеке послышались голоса. Канцлер прислушался.
– Стась, а Стась? – спросил кто-то. – На что нам эта война? У меня нет даже сломанного талера, дом как у крота – без окон и дверей, жена с утра до вечера на пана спину ломает, дочь от удушья умерла… За что под пули-то идти?
– Тихо говори, пустоголовый. Услышат – не сдобровать! – учил другой голос.
– О-о-ох, дружок, с Украины панов метлами гонят, а мы на их выручку идем. Что нам до этой Украины? Пусть живут, как хотят…
– Пусть черти воюют на этой войне, она и мне не нужна, – согласился второй голос. – Своих панов проучить тоже надо.
От злости канцлер затрясся. Жди от таких побед!.. И не удержался, закричал:
– Эй, кто там языками чешет? Охрана где, дармоеды?
Голоса пропали. К Лещинскому с зажженным фонарем подбежал рейтар, другой ринулся в кусты – там никого не было. И шороха не слышно. Убежали, черти, или спрятались. Разве в темноте найдешь?
«Всех рабов на виселицу! Пусть знают, кто здесь хозяин!..» – В бессильной злобе канцлер бегал по дорожке сада, пока охрана прочесывала кусты. Потом до утра крутился на постели, никак не мог успокоиться. Какая уж здесь победа, когда в королевском парке подданные болтают о том, что не хотят воевать?
* * *
Сегодня в Грановитой палате Никон собрал бояр на совет. Прочитали письмо оскольского воеводы о наступлении противника и сейчас думали-решали, как быть. Направить или нет на границу новые полки? Отрывать ли мужиков от полевых и других работ? Бояре, понятно, переживали только о себе: на кого оставят поспевающие хлеба?
На пороге палаты, словно каменные изваяния, стояли, не шевелясь, стрельцы. У каждого на плече – острая сабля, у пояса – кинжал. Бояре дремали на широких лавках. Да и как не задремлешь? Несмотря на лето, все в шубах, на головах – меховые высокие шапки. Лица бородатые, отекшие от непомерной еды и безудержного пития.
В глазах Никона сверкают злые искры, морщины на лбу резко обозначились. По всему было видно: он недоволен. Конечно, государственные дела вести – не на базаре торговать. Одним взглядом Россию не окинешь. А тут ещё за спиной старые бояре синими губами пустословят. В церкви легче: потянешь за веревку – колокола во весь голос зазвонят, начнут оповещать людей. Боярам к чему беспокоиться об Отечестве – и в голодные годы их семьи белые калачи едят. Только оскольский воевода за Россию радеет, даже о себе забыл. Но таких, как он, мало. Вон Илья Данилович Милославский, царский тесть. Какой уж богатый – зять каждый месяц ему земли дарит – сейчас и он за столом упорно молчит. Разве пошлет на войну своих холопов? Толстыми пальцами схватился за скамью, и ее положил бы за пазуху. Нет, добровольно защищать землю-матушку никто из бояр не пойдет!
Никон поймал хитрый взгляд Милославского, заскрипел зубами. Понял: боярина не согнешь. Хоть царь, его зять, самолично пошел против ляхов, не бросится на помощь, больше всего о своем богатстве печется.
Первым поддержал Никона князь Юрий Алексеевич Долгорукий. Человек он молодой, поэтому, возможно, и переживал:
– Смотрю на вас, все одного боимся: вдруг амбары опустеют. Сейчас нам не о них надо думать – о Родине. Шляхта нас сначала на куски разрубит, потом по частям сожрет. Стонем, жалуемся, – продолжил он, повышая голос, – а полки вражеские совсем близко.
Сказал он эти слова, и жар души его сразу же потух. Кто-кто, а уж Юрий Алексеевич хорошо знал, как поступят бояре при первой же опасности: нагрузят подводы добром – и в свои вотчины удерут, подальше от Москвы и врагов. Сам Юрий Алексеевич только сегодня утром обсуждал это со своим отцом. Князь Долгорукий так и сказал сыну: «Не проворонь час, когда из Москвы выезжать!». Тридцать сел у них по всей России – поди найди их!
Перед Никоном сгорбившиеся, одышливые старики подметали бородами каменный пол. Только князь Алексей Иванович Львов молча смотрел в окно. У него более двадцати тысяч десятин пашни, засеянной житом. Отпустит работников – останется без урожая. Повернувшись к Никону, он неожиданно сказал:
– Ладно… Мы в казну свое зерно отдадим. Вот наша помощь. А как монастырскую пшеницу вытащить? В каждом монастырском амбаре, слыхал, больше зерна, чем в пяти моих селах…
Никон только хотел что-то сказать, да боярин Бутурлин опередил его:
– Надо же, я не верил, что из Алексея Михайловича полководец выйдет! Может, мы зря тревожимся? Государь сам со всем справится. С ним такая сила! Враги увидят и разбегутся…
– Тогда письмо воеводы куда девать? Там прямо сказано: «Поляки каждую ночь нарушают тишину…». Не разбежались!
Бояре сидели, сжав губы. Никон снова задумался: «Не выручат они – к народу обращусь, всю Москву подниму. Смерды любят срывать с бояр шапки…»
Встал с кресла. Пришло время, когда нужно подвести итог и высказать свою волю. От стариков помощи не жди, свое они задарма не выложат.
– Тогда вот что, бояре, – жестко бросил Никон. – Завтра же к Стрелецкому приказу по десять лошадей приведете и по два воза муки. Поняли? – Когда увидел, что все молчат, зло добавил: – Не исполните – в соборе прокляну!
Темные его глаза расширились, борода дыбом встала.
Бояре не впервые слышат его приказы, но то при царе было. Сейчас Никон сам ведет себя, как Государь.
По палате сотни вздохов вспорхнули, лавки задвигались. Боярин Салтыков первым опустил голову, скрывая свой гнев. Не очень-то человек он умный, да понял: слабые так не скажут. «Душегуб приблудный, – недобро подумал он о Патриархе. – Вчера из дерьма вышел, нынче жить бояр учит! Ну погоди! Ты ещё, лапоть, узнаешь боярскую силу!» – Салтыков исподтишка наблюдал за Патриархом.
Высказав самое важное и нужное, Никон замолчал, строго оглядывая собрание. Тут к нему с поклоном обратился дьяк Акишев, патриарший писарь:
– По сказанному, Святейший, нужно грамоту издать. Пусть это для всех законом будет…
Сказал это боязливо и снова наклонил голову, держа в правой руке гусиное перо, которым только что писал.
Никон одобрительно посмотрел на дьяка и взмахнул рукой:
– Так и сделаем. Пиши грамоту. А в ней каждому государственному мужу задание будет, сколько и чего он войску должен поставить.
Выходя из палаты, князь Иван Никитич Хованский, который в позапрошлом году ездил с Патриархом в Соловки за мощами Филиппа, повернулся к боярину Львову:
– И самих нас в повозку запрягут!
Львов выпучил глаза и прохрипел:
– Моол-чи, сосед!..
Что больше скажешь, когда Никон уже под грамотой свою подпись поставил и вышел через заднюю дверь, где ходили только он и царь.
* * *
В Смоленск русские войска шли нескончаемой колонной. Впереди, непроторенной дорогой, двигались два полка Матвея Ивановича Стрешнева. Пешие рубили лес, по рекам, где не было мостов, искали места для переходов; конницу вел сам воевода. Третий полк, во главе которого был сам царь, шел за Стрешневым. За ним спешили два полка Юрия Александровича Ромодановского. День и ночь были в пути, иногда на короткое время делали привалы – и снова шли.
Матвей Иванович, как всегда, был на самых трудных участках, сам брал в руки пилу и топор, когда делали через реки переправы.
Вот снова зашли в густой лес. Он как подпол: сырой и темный. Через его игольчатую крышу солнечные струи казались зелеными. Бесконечная пропасть! В тишине слышно, как звенят медные уздечки. Лошадь споткнется о пенек, скрытый мхом, дятел начнет бить клювом о ствол – и снова тишина. Жарко, словно в бане. Тяжело лошадям. Верховые то и дело вытирали пот со лба. Воевода не разрешал снимать шлемы и латы – вдруг за ближайшим кустом неприятель.
– Не лес – медвежья берлога! – сказал Матвей Иванович. – Вряд ли сюда придет кто по своей охоте… Давайте-ка отдохнем! – вдруг решил он, увидев впереди прогал между деревьями. – Вот там и полянка подходящая.
Когда передовой отряд выехал на залитую солнцем полянку, все были удивлены. Откуда здесь взялся этот дуб среди сосен? Что за ленты привязаны к его веткам? Стрельцы посмотрели в огромное дупло. Там – наплывы застывшего воска и потухшая свеча…
– Сюда язычники приходили молиться своим богам, – сказал Юрий Александрович Ромодановский. – А дуб этот священный.
Под вечер подул сильный ветер. Зашептали между собой, словно почуяли большую беду, густые ели. Ветер набирал силу. Лес уже гудел, как море в шторм.
– Теперь с дороги как бы не сбиться! – растерянно вымолвил Ромодановский, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть в темнеющей лесной чаще.
Матвей Иванович уверил:
– Выйдем, князь. Лошади сами дорогу найдут. – Поводил своим носом вокруг, добавил: – Печным дымом пахнет. Видать, село где-то поблизости.
– Тогда сделаем привал и подождем Государя. Кто знает, какие люди нас могут встретить…
Алексей Михайлович догнал их только через три часа. По его лицу было видно, что устал он до предела. Вперед двигаться не разрешил, пришлось остановиться на ночлег в лесу. Из веток сделали шалаши, вниз постелили еловый лапник – и улеглись, выставив охрану.
Матвей Иванович сел спиной к дереву и задремал. Не до сладкого сна – западный ветер словно не дым нес – что-то другое, тревожащее. В таком положении и утро встретил. Да какое утро было в густом лесу – сплошной туман. Деревья словно молоком облиты. Перекусили всухомятку – и снова в путь. Вскоре вышли к узкой речушке, на том берегу которой виднелись прижатые к земле домишки.
Послали в разведку четырех стрельцов. Те вернулись с неважной вестью: по деревне уже успели пройтись ляхи, всё добро отняли.
Матвей Иванович взял с собой воинов и вскачь – туда, в разрушенную деревушку. Около полусотни жителей начали жаловаться, как это вышло и когда. Правда, по-русски они не могли говорить, только жестами всё показывали. Хорошо, воеводе Тикшай переводил. Мокшанский язык (жители оказались мокшане) ему был очень близким, всё понял. Узнали, что два отрада ляхов находятся где-то поблизости, за полдня далеко не могли уйти.
Что больше всего удивило стрельцов – всех своих раненых они оставили умирать в огороде крайней избы.
Стрешнев наклонился над одним из них – мужчиной, одетым в латы, потрогал его:
– Дышит пока что, поднимите его, осмотрите раны. Может, выживет? – сказал он окружившим его мокшанам.
Когда Тикшай перевел это жителям, те попятились, стали махать руками.
– Да всё равно придется вам лечить и кормить его. Это же живой человек! Да, возможно, и неплохой, если ляхи кинули его здесь…
– Он ничего не взял с моего двора, из-за этого один воин пырнул его пикой, – начал рассказывать старик с трясущимися руками.
– Как раз я об этом говорю, дед, – произнес Тикшай. И сразу к нему с вопросом: – А вы откуда приехали сюда жить?
– Не знаю, сынок. Я здесь всегда жил. Кругом и другие мокшанские и эрзянские села есть. Плохо только – каждый издевается над нами. В позапрошлом году татары подмели у нас всё, сегодня вот вражьи ляхи. Вирява хоть бы их наказала за наши страдания.
Тикшай хотел спросить старика и о священном дубе, о Репеште в лесу, но увидел, что Стрешнев был уже на лошади и ждал его. Тикшай сказал на прощанье жителям:
– Не бойтесь, ляхи назад не воротятся. Конец мы им найдем!..
* * *
Врагов догнали они на второй день. Это был полк, как потом узнали, который литовский гетман Радзивилл сначала хотел было послать навстречу полку Трубецкого, потом неожиданно повернул в сторону Смоленска, защищать крепость. Солдатами были не поляки, а шведы и немцы. Все они до единого одеты в тяжелые кольчуги, верхом на лошадях, шея и грудь которых тоже закованы в латы. В мокшанское село, видимо, заходили только около ста воинов. Нападения русских они не ждали, отдыхали на поляне, лошади паслись на воле. Бой был недолгим. Враги полегли почти все. Только некоторые спаслись бегством. И русских много погибло, их сразу же похоронили в лесу. На могилы поставили наскоро срубленные кресты. Помолились, и – снова вперед.
Уставшие лошади еле-еле передвигали ноги. Тикшай качался в седле чуть живой от усталости и контузии. Во время боя его сильно стукнули по голове. Сначала ему показалось, что вылетели глаза и треснул череп. Но глаза остались на месте, голова тоже цела – шлем спас, только очень уж болела, словно пчелы жужжали в ушах.
Конницу прикрывала ночная мгла. Тикшай никого не видел, только сердцем чувствовал: Матвей Иванович Стрешнев где-то поблизости. И, действительно, через некоторое время тот окликнул его:
– Жив?
– Жив, – хрипло, раздирая высохшее горло, ответил Инжеватов.
Ему не хотелось говорить, тяжело было думать. Животом он прижался к седлу, охватил руками шею лошади, лицо засунул в пахнущую потом гриву, старался так заснуть. Тук-тук – стучали копыта. Бам-бум – отдавалось в голове у Тикшая.
Забытье, словно сырой туман, плыло над ним, покрывало его тело липкой сыростью. Теперь и топота копыт не слышал, словно уши заложило. Разбудил его Стрешнев. Тикшай выпрямил спину. Стояли в редковатом лесу. Макушки деревьев от солнца как будто в дыму темнели, словно пламя по ним прошло. Внизу, в тени берез, журчал ручеек. Лошади паслись на цветущем лугу, уздечки звенели тонкими колокольчиками.
– Где Промза? – спросил Тикшай Матвея Ивановича.
– Не знаю… Видать, с другим полком идет. Среди убитых его не было…
Тикшай загрустил. Он и сам от шведской пики чуть не свалился. Стрешнев здесь не виноват, таких, как он, ведет тысячи, за каждого в отдельности не будешь переживать – того и гляди, враги самого без головы оставят.
Родник, бьющий из-под дуплистого дерева, душу успокаивал. Тикшай скатился со спины лошади, лег в траву. Земля забирала его усталость и боль. В траву улеглись и другие воины. Но никто не мог уснуть. Стонали, ворочались, беседовали между собой. То и дело раздавалось:
– Слабы наши воеводы. Ромодановский, родственник царя, какой из него воин – на лошадь его поднимают.
– Князь Трубецкой тоже постарел. Тому лишь на печи отдыхать…
– Царь-то целыми днями бы не вставал от икон. Молитвы в нашем деле – польза небольшая, во время боя нужна сноровка и ум…
Матвей Иванович слушал и молчал. Он воевода, зачем пустые слова пускать на ветер. Сражался со всеми наравне, не жалея себя.
Отдохнули, снова сели на лошадей. Из леса вышли уже глубокой ночью. В широком поле увидели пылающие костры. Царь остановил здесь своих бойцов, вон даже шатры видны. Они, словно стога сена, поставлены у речки. Вокруг гарцевали на лошадях полсотни воинов – дозорные.
Матвей Иванович расположил своих в березняке. Тикшай снова слез с лошади, лег на землю. И сразу потемнело в его глазах, голова снова закружилась.
Проснулся – лежит в шалаше, укрыт чапаном. Посмотрел на улицу. Перед шалашом, около костра, сидели Матвей Иванович и князь Ромодановский. Тикшай подошел к ним.
– Проснулся? – Стрешнев протянул ему горбушку хлеба и кусок мяса. Мясо пахло дымом, немного было опалено. – Ты, чувствуется, сильно ушибся. Второй день в рот ничего не берешь, придется тебя хоть силой кормить, – воевода смотрел на него уставшими глазами.
– Государь надумал нас навестить, – показал князь в сторону едущих к ним верховых.
Тикшай снова зашел в шалаш (среди «больших» людей ему нечего делать), стал смотреть в сторону костра из-под прикрытия. Алексея Михайловича он видел три года тому назад, когда они привезли мощи Филиппа с Соловков. Со всеми и царь тогда нес гроб. Потом в Успенском соборе, стоя на коленях, молился около Никона. В тот раз его никто не охранял, сейчас с ним целый полк едет. Это понятно: враги кругом. Выкрадут или убьют – всей России позор.
Когда слуги помогли Алексею Михайловичу сойти с пляшущего рысака, перед глазами Тикшая оказался молодой мужчина среднего роста. На голове его – шлем, камзол вышит позолотой. Голос хриплый, словно болело горло. Царь протянул руку Ромодановскому, со Стрешневым поздоровался взмахом руки и присел рядом. Вскоре к ним поднесли девочку лет четырех.
– Эту ласточку, Государь, ты где поймал? – улыбнулся князь.
Тот ответил тихо:
– Это Наташа, дочь Нарышкина. В прошлом году жена Кирилла умерла, дочка тоскует, плачет, с чужими не остается. Вот и приходится ему с собой ее возить. Мои там, в Москве, так соскучился по ним. Вот девочку от скуки и привечаю. Любовь к детям, князь, сильнее всякой битвы.
Черноглазая девочка села у костра, свою куклу положила на коленки, стала ее качать-убаюкивать.
Алексею Михайловичу протянули кружку взвара. Прихлебывая, он начал рассказывать о своих тревогах. Переживал не столько за русскую землю, как о своих родственниках. Сказал, что сейчас в Москве чума, людей валит сотнями.
– Твою семью-то Никон не оставит, – не сдержался Ромодановский, – а вот мою кто спасет?..
– Патриарх наш, конечно, умный человек, да ведь болезнь и Святейшего может не пощадить. И даже цари умирают, от этого никуда не денешься, – сказал Алексей Михайлович.
Эти слова сильно удивили Тикшая: царь горюет и боится, как простой смертный…
Почему только Стрешнев о своей жене и детях ни разу не вспомнил? Душа у него черствая? Нет, он воевода, и то, что держал в груди острой занозой, не выказывал перед другими. У многих стрельцов дома остались дети, если и Матвей Иванович начнет ныть, тогда какую победу ждать?
Вдруг перед глазами Тикшая встала Москва. Вспомнились ему Федосья Прокопьевна Морозова и Мария Кузьминична Львова. Как они там, в столице-граде?
Что Никон делает? Прячется от чумы или окунулся в государственные хлопоты?..
Полыхающий костер бросал ввысь яркие языки пламени. Пока горит, он освещает всё вокруг, а когда потухнет – останется золой. Так же и человек: живет, кому-то радость приносит, а умрет – в прах превратится… Даже царь…
Долго ещё Тикшай сидел в темноте со своими мыслями. Происходящее у костра уже не волновало его. Оказывается, все гораздо проще. Что чины, звания и богатства! Только сама жизнь и имеет цену.
* * *
В Москве чума вышла на свою страшную жатву. Люди, словно зеленая трава под острой косой, валились. Вечером ложились спать, на утро уже половина не могла подняться.
Какие только ворожеи не колдовали в боярских хоромах! Да чума и их не боялась. Всех без разбора прибирала к своим черным рукам.
Сначала молитвы и причитания по всей Москве слышались, в церкви мертвых отпевали. Потом всё утихло. Город замер. Отвезут тихо гробы на кладбище, оттуда провожатые сами идут еле-еле. Через день стукнешь в их ворота – один собачий лай услышишь. Посмотришь в окно, а там оставшиеся домочадцы уже окоченели.
В последние дни трупы и не хоронят. Разгородили кладбища, заключенные из тюрем вырыли с краю длинные ямы – и так, без гробов, с телег трупы в них сгружают: возьмут покойника за руки, за ноги – и в яму.
Потом, когда ямы доверху наполнились, трупы стали отвозить в поле, складывали в кучи, сжигали. Дым округу словно сажей вымазал.
Люди боялись выходить на улицу. Вот и сейчас кто-то стрельнул из пищали, выстрел разрезал воздух, с шумом вспорхнула стая птиц и «бам-бом! бам-бом!» – тревожно запели колокола монастыря Дмитрия Солунского.
Во дворе Бориса Морозова сторож стукнул палкой по чугунной плите. В будке, поставленной около ворот, зашевелился стрелец, высунул голову в дверь посмотреть, что делается вокруг, – снова тишина.
Не скрипели двери и Патриаршего дома. Как будто вымерли его жители. Где же Святейший? И он боится выйти, со страху трясется? Не верится. В его руках – страна, как он может пустить всё на самотек? Это был бы не Никон!
Вон он у домашнего иконостаса с Псалтырем в руках горячо молит Бога о спасении и прощении. Лампада мигает, свечи шипят и гаснут, словно Всевышний сердится и не хочет исполнять просьбу Патриарха о помиловании московитян.
Но Никон упорствует, снова и снова возносит хвалу Создателю и убеждает Его отвести беду от народа.
* * *
Когда о чуме шепнули в ухо царице Марии Ильиничне, та чуть грудного ребенка не уронила. Приказала позвать отца, Илью Даниловича Милославского, змеей зашипела:
– У-ми-рать в Москве оста-а-вили?!
От гнева любимой дочери Илья Данилович даже к порогу попятился. Хорошо, что Анна Вельяминова, кравчая царицы, выручила:
– К светлейшей душе, к Патриарху надо обратиться, он найдет место, где можно скрыться…
Милославский не любил Никона, да ничего не поделаешь, пришлось ему поклониться. Тот как будто ждал его прихода, не удивился просьбе, даже не встал с кресла, в котором сидел. Перед ним, на низеньком столике, стояло блюдо красной рыбы и бутылка рома. Выпьет рюмочку – закусит, выпьет – закусит… Милославский стоит, ждет.
– Боишься, говоришь, заразной болезни? – улыбнулся он тестю царя.
Только сейчас Илья Данилович понял, к кому попал. В государстве царь не его зять, а Никон… «А я, бестолковый, против него на боярском соборе хотел выступить… Постарел, глаза плохо стали видеть. Сейчас как скажет, так и будет…», – ругал себя старик.
Никон откинулся в кресле, сжал пальцами подлокотники. Словно силу пробовал или к нападению готовился. Перстень на его пальце, который Алексей Михайлович подарил в день возведения его в Патриархи, сверкнул кошачьим глазом.
– Так, просишь куда-нибудь вас спрятать? – Никон заговорил торопливо, в голове всё было давно обдумано.
Илья Данилович много обид претерпел за свою жизнь. Однажды даже зять оттрепал его за бороду. А вышло это так. Как-то он сказал царю: «Назначь меня воеводою – поляков за шесть дней уничтожу». А зять как заорет на него: «Да куда ты, старый, суешься? Какой ты воевода – в руки саблю не брал?!» Дернул его за бороду, потом дал пинка. Сейчас Никон мучает его… Сделали его Патриархом – в горла бояр зубы свои вонзает. Разорвет, как дикий медведь разорвет. «У-у, чертова душа!..» – Съежился Илья Данилович, не шелохнется. Смотрит в пол, ждет. Голос Никона заставил его вздрогнуть:
– Собирай в дорогу царицу и детей. Царевен тоже возьму. Всех троих.
Вышел боярин на улицу, на дороге ворона в лошадином помете копошится. И такое вдруг зло Милославского взяло на весь свет, что он не удержался, схватил камень, что есть силы в птицу швырнул. Ворона с криком метнулась в сторону, волоча крыло.
В чем ворона была виновата, он и сам не знал.
* * *
После ухода Милославского Никон позвал Арсения Грека.
– Когда ещё этот мор у нас был, не ведаешь? И как думаешь, кто его сейчас привез?
– По летописям, Святейший, в 1354 году в Новгороде от этой болезни люди кровью плевались. Больше трех дней не выдерживали, умирали. Нынешний мор совсем другой: заболеет человек – весь почернеет, по телу болячки пойдут, как чирьи. И, говорят, что болит всегда под мышками. А кто привез болезнь, об этом один Бог знает… Слышал, от грузинов пристало…
Арсений напомнил этим о недавнем приезде Теймураза в Москву. Никон сам его пригласил. Просил от него помощи лошадьми, воинами. Теймураз обещал помочь, и в тот же день снова на Кавказ уехал. А теперь, смотри, сплетни про грузин пустили…
– Пустые это сплетни, не слушай их, и не верь им! Ты же умный человек и лучше других знаешь: в Грузии нет чумы.
Арсений Грек ушел. Никону легче от того разговора не стало. Сомнения по-прежнему мучили его. Неизлечимый мор шляется по Москве, и самому нужно бежать отсюда. С собой и Грека надо взять. У него гладкий язык, царицу словами будет убаюкивать. Если один с ними поедет – сплетни дойдут и до ушей Алексея Михайловича. Он и так о сестре, Татьяне Михайловне, наслышан…
Сначала царю под Смоленск написал. Тот одобрил его сборы в Калязинский монастырь и наказал, чтобы ни одного больного человека не посылали по смоленской дороге. И ещё написал: у кого есть желание покинуть Москву, пусть уходит, за то он ругать не будет. О разрешении царя Никон оповестил всю Москву. Сказал об этом и боярам.
Целую неделю готовили повозки. В дорогу собрались не только царица с детьми и золовками – поехали все слуги. Никон не оставил и дьяков – он остался вместо Государя, что без них в монастыре будет делать? Не с кем даже посоветоваться. Подвод собралось более ста, в них везли не только людей – одежду, домашнюю утварь. И Митька Килькин, любимый царский юродивый, ехал. Без него с тоски помрешь.
С проезжей части дороги сняли верхний слой земли. Боялись, как бы и почва не была заражена. Жители окрестных деревень днем и ночью рыли лопатами землю, на подводах свозили ее в глубокие лесные овраги.
За день проходили по десять верст, не больше. Мария Ильинична в каждом селе останавливалась. Хорошо, что Татьяна Михайловна ее вразумляла, больше она никого не слушала. Изредка, во время стоянки, царевна скрытно улыбалась Никону. Ей было спокойно и надежно, что он рядом.
Доехали до Истры – снова остановились, чтобы отдохнуть. Река неширокая и спокойная, глаз радовала. День был солнечным и тихим.
– Может, здесь шатры установим? Уж место больно красивое, – предложила Мария Ильинична.
Ещё солнышко не скрылось, ехать бы да ехать, но Никон возражать не стал. Остановились. Пока слуги сломя голову готовили ночлег и ужин, царица гуляла по берегу, любовалась окрестностями.
– Здесь, думаю, монастырь нужно поднять. И я для его строительства деньги дала бы, – вдруг решила она.
«Хорошая мысль, как это я не догадался?» – пронеслось в голове у Никона. И после ужина он взял с собой Арсения Грека осматривать округу.
Монах острыми глазами окинул расстилавшиеся перед ними возвышенности, заросшие густым лесом, плавный изгиб Истры и сказал:
– Ох, царица небесная, да здесь словно в Палестине! Перед нами сама гора Сион, да и речка словно Иордан. Во-он! – взмахнул он в правую сторону, – Вифлеем и Назарет стоят. А поляна похожа на сад Гефсимана. Не хватает только одного – храма Воскресения. Второй Иерусалим бы открыли.
В Палестине Никон не был, о нем только от паломников слышал. Выходит, и в России такое место есть, тогда почему бы не показать его всем? И сразу в сердце загорелось желание: поднять здесь новый Иерусалим!
Вернулись к шатрам, здесь их ждали двое всадников из Москвы.
– Мы приехали к тебе, святейший, новость сообщить, – сказал тот, кто помоложе, сын боярина Бориса Репнина, Василий. Противники троеперстия говорят, что мор этот привезли книги, выпущенные в Греции… Типографию вашу сожгли, ни бревнышка не осталось.
«Хорошо, вовремя вырвались!» – обрадовался Никон и вслух строго спросил:
– Кто был во главе бунтовщиков?
– Марфа Бурова и Кирилл Мефодьев.
– Эти безмозглые на всё способны. Почему только болезнь их не берет!
– Марфу уже вчера похоронили. И князя Пронского.
– К-как, и Михаил Петрович в земле?..
– На рабочем месте умер, за столом.
Панихиду в честь московского градоначальника князя Михаила Пронского Никон отслужил прямо около шатра. Все плакали. В раю будет жить князь Пронский…
Когда Никон и Грек зашли в шатер, Арсений откровенно, будто читая мысли Патриарха, сказал:
– Типография сгорела – беда небольшая – новую, кирпичную построим. Если бы в Москве остались, самих бунтовщики истоптали бы…
Никон молчал. Наконец зло бросил:
– Раскольников проучу. Вот вернемся – у всех до единого языки вырежу!..
Целый месяц ехали до Калязина. Целый месяц думал Никон о том, как тяжело идет церковная реформа. И вспоминал об Аввакуме…
* * *
Как было намечено раньше, около Смоленска Ромодановский со своими войсками должен был соединиться с полковником Хмельницкого Василием Золотаренко. До его штаба, как сообщила разведка, осталось около пятидесяти верст. Двигаться туда со всем войском опасно. В густом лесу засада может быть под каждым кустом. А среди деревьев верхом на лошади не развернешься, из пушек стрелять не будешь. Долго думали, как выйти из этого положения.
Поэтому Стрешневу было приказано найти человека, который бы доставил Золотаренко письмо. Матвей Иванович пригласил Инжеватова. Сейчас голова у Тикшая так не болела, и, по правде сказать, Стрешнев искренне ему верил. Оба пришли к такой мысли: Тикшай поедет не верхом, а на телеге. В нее положат мешок муки, и, если попадет в руки ляхов, скажет им, что едет к тестю за женой и сыном.
В полночь, когда в деревушке на берегу Днепра Стрешнев остановил своих стрельцов, Тикшай отправился в путь. К Золотаренко он приехал через день. Отдал ему письмо и тронулся назад. Сейчас он гнал свою лошадь вскачь. Не заметил даже, как наступила ночь. Стало прохладнее, но всё равно от прогретой за день земли шло тепло. Уставший рысак тяжело переставлял ноги. К тому же Тикшай потерял ориентир – вместо берега речки попал на широкий луг. Ни дороги дальше, ни лошадиных следов. До смерти хотелось пить. Попался бы ему родник или какая-нибудь лужица – сразу бы засунул голову. Сейчас он до устали в глазах смотрел вперед, где небо смешалось с горизонтом.
Старался увидеть хотя бы кустик, стебелек камыша или осоки – предвестники речки. Нет, перед ним был только бескрайний луг, больше ничего. Вскоре Тикшай услышал какой-то шорох. Остановил лошадь. Вокруг стояла такая тишина – писк комара услышишь. Кто-то, тяжело дыша, бежал, раздирая траву. Тикшай торопливо распряг лошадь, прыгнул на нее. Бояться он, конечно, не боялся – есть лошадь и пищаль, в голенище засунут острый нож. Вдруг жеребец встал на дыбы, яростно заржал.