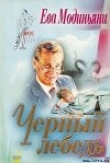Текст книги "Прошлое"
Автор книги: Алан Паулс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 37 страниц)
Фарс? Результат озлобленности? Или Рильтсе, психическое здоровье которого было к тому времени серьезно подорвано жизнью на родине плохой погоды, действительно не узнал Пьера-Жиля? Оба биографа ставят этот вопрос, но оба не дают на него толкового ответа; более того, непохоже, чтобы кто-то из них всерьез озаботился поисками информации, которая могла бы пролить свет на этот эпизод. В обеих биографиях после сцены на вокзале – хронологический провал: повествование переносится почти на год вперед – к ярким и всем известным событиям, происходившим в Лондоне в 1992 году: имеется в виду пожар (не поджог ли?) коттеджа Рильтсе, его туберкулез, попытки лечить болезнь гомеопатией, приобретение щенка по кличке Гомбрич, совместный с Брайаном Ино проект электронной оперы, так и не реализованный… Затем в обеих книгах следует одна и та же фраза (из-за которой авторы по сей день продолжают судиться, обвиняя друг друга в плагиате), в которой в последний раз упоминается исчезнувшая серия картин: «Быть может, именно для того, чтобы перечеркнуть болезненный опыт, связанный с „Клинической историей“, Рильтсе и совершает поворот на сто восемьдесят градусов, отключает отопление во всем доме в Ноттинг-Хилле и решается на…».
Однако – стоит ли следовать этой эффектной, но конъюнктурной версии, учитывая тот факт, что встреча Рильтсе и Пьера-Жиля на вокзале, о которой с таким упоением повествуют нам два биографа, ни словом не упомянута в остальных исследованиях, посвященных художнику? И вообще – зачем идти по психологическому пути, ведь есть гораздо более естественный, то есть «органический»? Если серия «Клиническая история» так и не была написана, то, вполне вероятно, – в результате развития той самой идеи, которая когда-то вдохновила художника на ее создание. Речь идет о познании и художественном отображении болезни. «Гнойный прыщ», «Герпес», «Засохшая корочка» – наброски, сохранившиеся наряду с «Ложным отверстием», доказывают, что серия, задуманная Рильтсе в девяносто первом году, должна была продемонстрировать, что искусство и физиологические нарушения единосущны друг другу. Рильтсе еще в середине сороковых годов изобрел неологизм – термин «больное искусство». Это произошло то ли сразу после, то ли незадолго до усекновения Пьером-Жилем собственного члена; таким образом, Рильтсе то ли вдохновил бывшего возлюбленного на этот поступок, то ли цинично использовал его в своем творчестве. Глядя на засохшую корочку «Засохшей корочки», которую Рильтсе лично срезал со своего тела скальпелем, продезинфицированным на пламени газовой горелки, невозможно – и в равной степени неразумно – не вспомнить и «Головку члена» – другой шедевр-легенду Рильтсе, картину, которую так никто никогда и не видел и которая по сей день служит источником всякого рода домыслов и спекуляций. Безусловно, между этими двумя картинами – если, конечно, придерживаться той точки зрения, согласно которой второй холст действительно существует, – имеется принципиальное различие; «Корочка» представляет собой образец мертвой ткани, но болезнь, воздействовавшая на нее, была описана и диагностирована еще задолго до того, как художник решился включить ее в творческий процесс и переложить, в буквальном смысле этого слова, на холст. В то же время, несмотря на обидные слова Рильтсе, неизменно называвшего ампутацию Пьером-Жилем собственного члена «болезненными гнойными выделениями психологического триппера» (в ответ Пьер-Жиль однажды выдал ставшую широко известной формулу «Рильтсе и есть тот триппер»), ничто в этом объекте не указывало на какую бы то ни было болезнь, аномалию или патологию, за исключением разве что размеров – о которых Рильтсе неоднократно упоминал в письмах еще до того, как между ним и Пьером-Жилем произошел конфликт, и на которые, впрочем, никогда не жаловался. В общем, когда этот артефакт оказался в руках художника, его можно было бы считать совершенно здоровым образцом, отсеченным, по всей видимости, от совершенно здорового организма. Разумеется, с оговорками: следовало принимать во внимание, что на нем сказалось долгое путешествие бандеролью, и не в лучших условиях – не все части человеческого тела предназначены для того, чтобы пересылать их по почте. Тем не менее, существовала эта картина или нет, сгорела она во время пожара в коттедже художника или же Пьер-Жиль купил этот холст за огромные деньги на каком-нибудь аукционе «Подпольной сети порнографического искусства» – о чем ходят упорные слухи – и теперь хранит в одном из сейфов «Дойчебанка», – главным остается то, что «Головка члена» представляет собой первое произведение, в котором сконцентрировалась и выкристаллизовалась в конкретный художественный образ концепция больного искусства. Если у кого-то до сих пор имеются сомнения в существовании этого холста, то «Гнойный прыщ», «Герпес» и «Засохшая корочка», а также небольшой по формату, но не менее эффектный и значительный набросок, названный художником «Ложное отверстие», – безусловно существуют, в этом у мировой искусствоведческой и художественной общественности нет никаких сомнений.
Последовательность их создания кажется очевидной: Рильтсе путешествует, а точнее, бродит по Европе, «коллекционируя несчастья, опасности, болезни – все то, что может стать источником и сырьем для моего вдохновения», как пишет он в одном из писем. Всякий раз, когда его внутренний резервуар, в котором скапливались эти впечатления, наполнялся до некоей критической черты, его желание работать становилось непреодолимым. Он запирался в каком-нибудь подвале, в заброшенном доме, в очередном благотворительном свинарнике, где худо-бедно «скирдовали» всякого рода бродяг и незаконных иммигрантов, и принимался за создание очередного эскиза. На сегодняшний день нам известно о существовании четырех таких эскизов (возможно, был и пятый, с точки зрения хронологии – первый, под названием «Грибковый ноготь»; впоследствии Рильтсе лично уничтожил этот эскиз); это позволяет мастеру окончательно сформулировать для себя концепцию серии, и отдельные названия задуманных им картин («Простата», «Мочевой пузырь», «Прямая кишка») дают нам возможность угадать направление, в котором двигалось его воображение. Больное искусство, «в противоположность гомеопатии», действует «снаружи внутрь»; было бы логично предположить, что посредством всех болезненных ощущений, на которые Рильтсе обрекал свое тело, он стремился проникнуть именно внутрь, в невидимый мир человеческой органики; главными же воротами, открывавшими путь в этот мир, и должно было стать для него «Ложное отверстие».
Рискуя свести с ума искусствоведов, которым так свойственно желание принести в жертву упорядоченности любое неожиданное проявление творческой активности художника, Рильтсе остановил работу над последней в своей жизни серией картин, толком и не приступив к ее созданию. Если даже «Корочка», «Герпес» или «Прыщ» – работы, требовавшие крови, но все же представлявшие собой исследование поверхностного кожного покрова человека, – уже несли собой опасность для физического здоровья их создателя, то легко предположить, к чему бы привели дальнейшие шаги на пути реализации задуманного. Пригвоздить к холсту степлером псориазную корочку, срезанную с собственного языка, или лилово-сизую болячку, содранную с губы, – это требует недюжинного мужества и отчаянной смелости; что уж говорить о кусочке предстательной железы, мочевого пузыря или прямой кишки. Тем не менее, сколь бы безумным на первый взгляд это ни казалось, чисто физический риск, связанный с организацией такого проекта, прямо пропорционален его эстетической амбициозности. В отличие от Фонружа, Пипинга и скандально известного клоунского дуэта Джилли и Оберштерн, так называемых художников, которые сумели извлечь все возможное из своих немногочисленных встреч с Рильтсе, ставших для них настоящим благословением, и представили публике «собственную» версию больного искусства – отмытую и вполне уже выздоровевшую (все они малодушно возвращаются к избитой концепции исцеляющей функции искусства, которое выражает болезнь, чтобы исцелить художника), – Рильтсе создавал и развивал концепцию больного искусства, воспринимая его как постоянное взаимодействие, метаболизм болезни и здоровья. Когда он сдирает чуть подсохшую корочку гноя с языка и помещает ее на холст, он делает это не для того, чтобы исцелиться, – его болезнь должна измениться, преобразиться, перейти в иное состояние. («Что есть излечение органа, пораженного болезнью, по сравнению с самим недугом?» – спрашивал себя художник, перефразируя Брехта, которого никогда не читал, но чьим пролетарским курткам всегда тайно завидовал.) Триумфом больного искусства не может быть выздоровление художника – что бы ни утверждало все это стадо жалких проповедников-евангелистов. Триумф больного искусства – вечное обновление болезни и самого художника, терзаемого ею. Больное искусство – это как перекрестное заражение: привить болезнь искусству без того, чтобы сама болезнь не стала искусством, невозможно. Справедливо и обратное утверждение: сделать болезнь искусством невозможно, не заразив искусство этой болезнью. Эти постулаты дают представление о концепции больного искусства, но ими она не исчерпывается. Выдвигая свою программу, Рильтсе ставит перед обществом и иную, куда более серьезную проблему. Так, после выписки из инфекционной больницы Гамбурга и до того, как попасть в реанимацию женевской клиники Хассельхоффа, между «Прыщом» и «Герпесом» (май? июнь?), – Рильтсе пишет мажордому своего агента следующие строки: «Тот факт, что художественная жизнь и самый художественный процесс целиком попали под власть художников, критиков, историков искусства и своры прочих наглецов, гордо именующих себя „специалистами“, не является ли самым убедительным доказательством того, что искусство пребывает в упадке? Остается ответить лишь на последний вопрос: не является ли этот упадок окончательным и бесповоротным?» Можно, конечно, улыбнуться тому, как непосредственно выражает Рильтсе свои чувства, – вот только возразить ему, пожалуй, будет нечего. Ибо мы, анемичные клоуны, не сможем ни превзойти тот пыл, с которым он отстаивает свою точку зрения, ни добиться того же успеха, которого в былые годы добился он со своей дерзкой концепцией. Набросок, эскиз – это не готовое произведение. «Герпес» – кусок холста пятнадцать на семнадцать, натянутый на шаткую рамку и выполненный, как это принято называть, в смешанной технике, висит сегодня над письменным столом в кабинете лидера какой-то рок-группы, исповедующего сатанизм; так вот, «Герпес» – это не произведение искусства, это всего лишь точка на пути к созданию шедевра. И этот путь, помимо эскиза, включает еще целое множество самых разных фактов, предметов и событий. Бутылка из-под вина, которую маэстро опорожнил за полчаса до того, как взяться за работу; скальпель Стэдлера, которым он воспользовался, чтобы срезать кусочек ткани собственного пораженного болезнью тела; рукав свитера, которым он пытался остановить кровотечение; визитка единственного венского такси, водитель которого согласился отвезти Рильтсе в больницу, – художник вышел на улицу в одном лишь френче из верблюжьей шерсти, наброшенном на голое тело, в сандалиях на босу ногу, а из раны на его губе не переставая сочилась кровь. Есть на этом пути и счет из приемного отделения, подписанный дрожащей рукой художника, с сохранившимися на обороте кровавыми отпечатками пальцев; бинты, оставшиеся от первых перевязок; обслюнявленные окурки двух сигарет – тех самых, что он успел выкурить в туалете до того, как его обнаружили и пригрозили выставить из клиники; бланк рецепта с фамилией и номером телефона молодого местного врача – он узнал художника и встал на колени, чтобы попросить у него автограф, который на коленях и вымолил в обмен на долгий и бестолковый минет, – «самые умиротворяющие капли спермы, пролитые мною за все время пребывания в Вене»; флакончик с нашатырем, которым приводили в чувство потерявшего сознание Рильтсе; направление на госпитализацию, направление на биопсию, подписанное все тем же доктором, результаты первых анализов крови… (Все это и есть «Герпес» – а возможно, что еще и не все, ибо кто может поручиться, что неутомимые ищейки, которые так любят копаться в грязном белье знаменитости, не извлекут на свет божий еще какие-нибудь драгоценные мелочи – бланки, квитанции, мазки, – ждущие, чтобы и их признали материалом картины.)
Пирровой победой назовет успех последних замыслов Рильтсе один из биографов – предвзято и высокомерно, как и полагается пишущим в этом жанре. В чем-то, возможно, он и прав, но по большому счету привычное соотношение затрат и потерь, с одной стороны, и успехов и приобретений – с другой, оказывается неприменимо к художественной программе Рильтсе и к оценке результатов ее реализации. Было бы смешно подходить к нему с общими мерками в отношении успешности и востребованности, как было бы неразумно и непрофессионально обвинять Матисса в том, что фигуры на его огромных ярких холстах недостаточно четко проработаны с точки зрения объема. Баланс между творческими затратами и реальными – материальными – приобретениями может быть целью более уравновешенного художника, такого, например, как Де Вейн или же Броуитт: вот воплощенная эффективность конвертации творчества в денежные знаки. Но Рильтсе не Де Вейн (его он всегда презирал) и уж конечно не Броуитт (его он называл «незаурядной посредственностью». И это при том, что его личная встреча с Броуиттом закончилась весьма экстравагантно: в каком-то тренажерном зале, со всеми полагающимися случаю атрибутами – масками, кожаными ремнями и некоей здоровенной резиновой «игрушкой» с двумя головками). Рильтсе, со своим больным искусством, преследует совершенно иную цель: неуравновешенностью он пытается достичь баланса всех балансов. Символ этого стремления – картина «Успех»: свойственная творчеству Рильтсе диспропорциональность воплотилась в этом произведении как ни в каком другом – и осталась неразгаданной тайной для всех его биографов и исследователей, которые написали тома бессмысленных рассуждений о соотношении категорий «должно быть – имеется в наличии» в творчестве великого мастера. Задача разгадать «Успех» выглядит совершенно неблагодарной; скорее всего, величие Рильтсе выражается не в какой-то конкретной его картине, а именно в том ощущении, которое он привнес в современное искусство, – в ощущении диспропорции, которая расшатывает соотношение между причиной и следствием и ставит под вопрос всю систему связей между людьми, как ставит под вопрос физическое существование тела поселившаяся в нем болезнь. В конце концов, что такое два с половиной миллиона, выложенные рокером-сатанистом за «Герпес», в сравнении с четвертью миллиона, уплаченными на «Сотбис» за скальпель, с помощью которого художник навеки изуродовал себе верхнюю губу? И что они такое в сравнении с суммой в восемьдесят пять фунтов – так оценил хозяин пансиона, где жил Рильтсе, «Портрет призрака», который тот предложил ему в качестве платы за четыре месяца проживания? (В этом смысле «Успех», поздний шедевр художника, вышедший из стен лаборатории больного искусства, не является чем-то новым. Это всего лишь переработанная, быть может извращенная, версия «Провала», с концепцией которого маэстро экспериментировал первые тридцать лет своей творческой деятельности.) И все же – есть идиоты, утверждающие, что деньги – это такая штука, которая приходит и уходит. И идиоты правы: Рильтсе действительно обретает успех, когда выставляет на аукцион не что иное, как свой «Успех»; есть в этом что-то от Энди Уорхола, современника Рильтсе, – при том что сухой, «сублимированный», «типичный для капиталистического протестантизма» концептуализм Рильтсе всю жизнь критиковал и опровергал, и не словесно, а всем своим существованием, всем своим стремлением к самопожертвованию (казалось, он, европеец до мозга костей, каким-то неведомым образом проникся самурайским духом и был готов стать камикадзе современного ему искусства); но не в деньгах, полученных за продажу картин, измерял он свой успех. Эти суммы Рильтсе делил между партнерами (ничего из его состояния не досталось только Пьеру-Жилю), с которыми опять-таки делил постель, ложе без постели или, на худой конец, заднее сиденье машины на протяжении хотя бы одной недели кряду, и высчитывались они всегда по одной формуле – длина члена любовника умножалась на число совокуплений, а к этому числу приписывалось произвольное количество нулей. Примечательно – и это в истории искусства XX века случай уникальный, – что в книгах, посвященных последним десяти годам его жизни, точка зрения собственно искусствоведов почти не представлена – их голоса звучат где-то на седьмом плане, и все внимание читателя сосредоточивается на свидетельствах врачей и медсестер, больничных выписках, результатах анализов, полицейских протоколах, судебных приказах. В итоге, как полагал художник – и оказался прав! – его, в отличие от других, в особенности таких, как Фонруж и Пипинг (биографии которых представляли собой «хор профсоюзных чиновников, которые, вызубрив раз и навсегда одну речь, способны произносить ее лишь перед аудиторией, состоящей из самых преданных слушателей – членов того самого профсоюза»), в конце концов будут воспринимать так, как он того и хотел: не как основоположника направления больного искусства, не как самого яркого его последователя – но как его главного и самого преданного пациента. Как его жертву.
Но для того чтобы быть жертвой, нужен палач. И не всякий – только способный наслаждаться раной жертвы в той же мере, как жертва – страдать от этой раны. Рильтсе попробовал себя и в той, и в другой роли: «Герпес», «Гнойный прыщ» и «Засохшая корочка» – это произведения, созданные жертвой и палачом в равной мере. Художник одновременно является разумом, создающим концепцию, рукой, при помощи которой приводится в исполнение приговор, и телом, материей, которой суждено страдать во исполнение этого замысла. Долгие месяцы после создания «Гнойного прыща» Рильтсе пребывал в этом двойственном состоянии. С воспалившимся языком и генерализованным сепсисом он был доставлен в одну из венских больниц, где его промучили несколько недель; там Рильтсе принимает предложение Люмьера (а что ему еще остается?) – страшного на вид, но совершенно безобидного медведя, – которого встретил и мгновенно совратил в отделении дезинтоксикации, куда проник, воспользовавшись беспечностью медсестер, чтобы разжиться допамином. Живет Люмьер в подсобке диско-бара «Зонг-Парнас», где работает швейцаром-вышибалой. Ситуация сложная: Люмьер предлагает Рильтсе стол и кров; он делит с ним ложе, готовит ему еду, берет на себя обязанности фельдшера – смазывая разными снадобьями все еще гниющий и кровоточащий язык художника, – но каждый вечер, ровно в семь часов покидает своего возлюбленного на всю ночь. Сакс, владелец клуба, суетливый, ни секунды не сидящий на месте швейцарец, главной гордостью которого, помимо самого клуба, является якобы имеющее место родство с Гюнтером Саксом (он будто бы его сводный брат), некогда женихом Брижит Бардо, – так вот, это ничтожество требует от всех своих сотрудников точности и пунктуальности, и Люмьер ежедневно ровно в семь часов вечера заступает на дежурство у двери клуба. Возвращается он лишь спустя полсуток – в семь утра. Эти двенадцать часов становятся подлинным кошмаром для Рильтсе, причем дело даже не в одиночестве, которое его ничуть не пугает; напротив, он страдает от присутствия своего возлюбленного, который требует к себе внимания и «душит меня своей тяжелой, слюнявой, грубой медвежьей нежностью». Гораздо больше утомляет Рильтсе дикий шум, доносящийся из клуба, – в первую очередь хлещущая, как кнутом, монотонная музыка, которую время от времени перекрывают пьяные крики, грохот бьющейся посуды, смех, удары, а порой – полицейские сирены и даже выстрелы. Иногда полиция применяет для усмирения особо разбушевавшихся посетителей слезоточивый газ. От всего этого тонкая стенка, разделяющая подсобку и бар, защитить не в силах; Рильтсе в отчаянии. Работать в таких условиях, само собой, невозможно, но думать ни о чем ином, кроме работы, он не может. «Герпес», «Прыщ» и «Корочка» – уже созданные и уже утраченные – горят в его мозгу, как демоны, охваченные пламенем страсти. Они словно говорят с ним, словно требуют от него чего-то – вот только знать бы, что им нужно. Рильтсе просыпается в холодном поту и не может понять, день сейчас или ночь; он даже не уверен в том, что действительно спал и что все это ему приснилось; где он? Что с ним происходит? Жив ли он еще? Как единственное доказательство его существования в этом мире – или же, наоборот, как свидетельство того, что мир уже исчез, – он ощущает настойчивое давление и жадное проникновение между ягодицами. Он медленно поворачивается на другой бок и обнаруживает, что Люмьер спит, прижавшись к его спине, – пьяный, накачанный наркотиками, и даже во сне его член, напряженный, увеличившийся раза в четыре, тянется к заднему проходу возлюбленного. В любое другое время Рильтсе умилился бы и открылся желанию Люмьера, как бутон цветка, но в ту ночь оно не вызывает у него ничего, кроме отторжения. Начинается выяснение отношений – ругается, впрочем, в основном Рильтсе, который, издеваясь не столько над Люмьером, сколько над самим собой, читает тому лекцию о непропорциональности – имея в виду в первую очередь непропорциональность своей весьма скромной комплекции и размеров мужского достоинства друга; чистая математика, впрочем неубедительно, подкрепляется в его речи моральными соображениями. Люмьер, как пожилой израненный раб, с поникшей головой удаляется в туалет. Спустя несколько дней раб все же приходит к повелителю, чтобы потребовать от того земных наслаждений. Рильтсе, не только раскаявшийся в своей жестокости, но и чувствующий первые позывы возрождающегося желания, в порыве вдохновения создает «творческую альтернативу» самому себе, а точнее – своему заднему проходу. Он складывает стопкой десять рамочек с натянутым на них холстом; в центре он проделывает более-менее ровное круглое отверстие – один в один по диаметру члена Люмьера – и заполняет этот туннель выдавленной из нескольких тюбиков масляной краской. С каким-то отчаянием – как цирковой дрессировщик, который заходит в клетку со львами, – он протягивает Люмьеру этот импровизированный артефакт и предлагает возлюбленному произвести его дефлорацию. Безудержный в своих желаниях медведь, который, казалось, еще никогда в жизни не тушевался ни перед единым отверстием, в которое мог бы запустить свой ненасытный член, на этот раз задумывается и нерешительно смотрит на Рильтсе; тот смотрит ему в глаза и выигрывает дуэль взглядов; Люмьер зажмуривается и с размаху вонзает член в жирное отверстие, совершая этот акт не из желания и не из дерзкого стремления познать неведомое, а действуя лишь по велению любви, – и кончает через каких-то несколько секунд. Люмьер ничего не может с собой поделать: ради этого ничтожества, ради этого вонючего старика, гниющего заживо безумца, речь которого на девять десятых ему невнятна, а на одну десятую состоит из проклятий и оскорблений в его адрес, – ради него он готов на все; если будет нужно, он кастрирует себя собственными руками, лишь бы Рильтсе было хорошо (на заднем плане, где-то в глубине декораций этой романтической сцены, появляется и вновь исчезает злорадно хохочущая тень Пьера-Жиля). Никогда Люмьер не испытывал столь сильного оргазма. Один из современников называет то, что произошло, преждевременным семяизвержением, но движут им, по всей видимости, мелочность и зависть; гораздо более уместным было бы здесь слово «сгорание». В ту же секунду, когда Люмьер закатил глаза и стал биться в судорогах, художник, почувствовав обжигающее, раздирающее плоть прикосновение к своему заднему проходу, кончил одновременно со своим возлюбленным, причем впервые в его жизни это произошло раньше, чем его член успел, как писал Рильтсе, «гордо вскинуть голову, перейдя в блаженно-напряженное состояние». Эту синхронность двух оргазмов он хочет запомнить навеки, считая, что ее необходимо занести «на скрижали каких-нибудь анналов – анналов – мироздания». Впоследствии этот феномен был назван Рильтсе, со свойственной ему тягой к помпезности, синхронизированным телепатическим совокуплением. Впрочем, если Рильтсе и давал имя какому-то явлению или событию, то делал это лишь для того, чтобы забыть о нем, чтобы перейти к «чему-то другому». Все, что можно было получить здесь, он уже получил. Этот огненный толчок в задний проход, это отверстие в холсте, этот дрессированный медведь – все это останется с ним навсегда, в его мыслях и в его творчестве; но, как «Герпес», «Прыщ» и «Корочка» остались в прошлом – теперь стремительно уходило в прошлое и «Ложное отверстие»; это название было дано продырявленным холстам не кем иным, как Люмьером в приступе поэтического вдохновения, едва ли не первого и единственного в его жизни. Увы, несчастный даже не успел прочесть собственные слова, выведенные его неблагодарным любовником на обороте каждого из десяти холстов: Рильтсе уже готовится «войти внутрь», «проникнуть в глубину этого тайного логова, вывернуть собственный организм наизнанку, как перчатку».
Первый шаг к чему-то новому заключается в том, чтобы расстаться со старым. В тот же вечер, едва Люмьер уходит на работу, Рильтсе сбегает. «Зонг-Парнас» остается в прошлом. Перед этим художник берется за кухонный нож и обрезает все десять холстов по размерам маленькой сумки от Польвани, которую ему незадолго до этого удалось где-то украсть – «взять на память», как это называл сам Рильтсе. Именно в этих скромных размерах «Ложное отверстие» и появляется на аукционах и выставках. Он не уходит, он бежит… Темная улица, площадь, метро. Вскоре следы Рильтсе на какое-то время теряются. Именно тогда он задумывает «Прямую кишку». Где он скитался в эти дни, никому не известно; известны лишь его слова и мысли, изложенные им в письме все к тому же мажордому, где он жалуется на безуспешность своих попыток найти себе палача: «Тысячи безымянных чудовищ каждый вечер выходят на улицы в поисках жертвы; я же ищу себе мучителя и не могу его обрести». Затем Рильтсе начинает очередное турне по венским больницам, тем самым, где его принимали, обследовали и лечили в той, другой, «поверхностной» жизни. Врачи узнают его, некоторые искренне восхищаются его творчеством, находятся даже те, кто, несмотря на его прошлые выходки, согласен его принять, – но в конечном итоге все эти встречи и беседы остаются без результата: план, разработанный Рильтсе, венчающий воплощение концепции больного искусства, не понят ни одним из врачей; они утверждают, что отказываются от участия в этом мероприятии по этическим соображениям. При упоминании об «этических соображениях» Рильтсе тошнит; он считает, что это «моральный шантаж, самый омерзительный из всех возможных видов шантажа». Дольше всего длится его встреча с двумя светилами хирургии, которые принимают его после тяжелого рабочего дня – операции на открытом сердце и бесконечных метаний между операционной и реанимацией. В таком состоянии врач уже мало что понимает и, быть может, даже оказывается склонен согласиться с доводами безумца, склониться под его натиском, как трава под копытами коня Атиллы. Но тут они выдвигают возражения юридического характера, говоря, что реализация его творческого замысла грозит им потерей работы, лишением диплома и, вполне вероятно, тюремным заключением. В общем, все двери высшего медицинского света Вены оказываются для Рильтсе закрытыми. Прямая кишка тем временем продолжает звать и манить его. Рильтсе понимает, что не успокоится. Он опускается на уровень ниже и начинает обход врачей не столь успешных и не столь дорожащих своим местом, рассчитывая, что силой убеждения и обещания некоторой суммы денег – которых у него на самом деле нет – сможет добиться от них того, чего при помощи откровенности не смог добиться от других. Все бесполезно: все его знают, и все, похоже, получили строжайший приказ не только не поддаваться на его уговоры, но и по возможности избегать какого бы то ни было общения с обезумевшим художником. Рильтсе в отчаянии. Он полагает, что весь этот заговор подстроен его агентом, с тем чтобы путем саботажа творческой деятельности заставить его вернуться в Лондон. Он начинает подумывать о том, чтобы бросить этот чопорный город и уехать в Прагу, в Будапешт, в Варшаву – в любое место, где закон еще не мешает творить. В тот вечер, когда он собирается покинуть Вену, происходит очередная случайная встреча, которую впоследствии критики и биографы охарактеризуют как чудо, как подарок судьбы. И в тот же вечер Люмьер впервые за много лет не заступает вовремя, минута в минуту, на свой пост у двери «Зонг-Парнаса»: набив камнями карманы и проглотив целый пузырек таблеток со снотворным, он бросается с моста Пратербрюке в Дунай. Так вот, Рильтсе, как пишут исследователи его жизни и творчества, встречается в темном переулке с тем самым молодым врачом, чье «ротовое гостеприимство» навсегда запечатлело его в памяти художника, причем – удачным для врача образом – в связи с «Герпесом». На самом же деле все происходило несколько иначе: это молодой врач наткнулся на лежавшего на тротуаре Рильтсе и тотчас же узнал в бродяге того художника, которого некогда с такой страстью умолял дать ему автограф. Ситуация изменилась: если при их первой встрече просителем выступал врач, то теперь помощь и участие нужны были самому Рильтсе. Юный доктор внимательно выслушал дело, с которым обратился к нему безумный художник, и любезно согласился помочь ему. Он даже не назвал цену своей помощи, а Рильтсе уже тащил его за собой в подземный переход, где и встал перед восходящим светилом медицины на колени, чтобы воздать должное сговорчивости юноши, проявленной им еще тогда, в туалете больницы. Как выразился один из биографов, сцена минета в подземном переходе «не принадлежала к разряду тех, которые можно было бы назвать апофеозом эротизма». Впрочем, молодой доктор ищет наслаждения не сексуального, а совсем иного – наслаждения от того, что перед ним на коленях стоит священное чудовище.
При всем этом молодой человек прекрасно понимает, что обещание, данное Рильтсе, выходит за рамки его возможностей. «Прямая кишка» в том виде, в каком ее задумал художник, потребует не только квалифицированного хирургического вмешательства, но и анестезии, послеоперационного наблюдения и пребывания в течение какого-то времени в стерильном помещении. В общем, вся эта затея представляет собой слишком большой риск для добропорядочного молодого доктора, предел мечтаний которого – стремительный взлет по карьерной лестнице в сфере общественного здравоохранения австрийской столицы. Впрочем, эта система, к счастью для Рильтсе, демонстрирует добропорядочным гражданам только свою верхушку – пантеон целителей, удачные операции, дипломы, грамоты. Остальное надежно скрыто от любопытных взглядов за кулисами, в полутемных подвалах. И, опять-таки к счастью для Рильтсе, доктор имеет доступ к этому секретному уровню. Подобно амфибии, это молодое дарование одинаково свободно чувствует себя в обеих стихиях – в светлых университетских кабинетах, где делаются карьеры и распределяются должности, и в этих едва освещенных тусклыми лампочками коридорах, стены которых выложены кафельной плиткой, где проводятся нелегальные операции и испытываются на людях те медикаменты, которым лишь предстоит получить сертификаты и разрешения на продажу. В этих коридорах он, пошушукавшись со знакомыми медсестрами, фельдшерами и кое с кем из коллег, наконец находит человека, который представляется ему идеальным для исполнения замысла Рильтсе. Зовут этого человека Шандор Сальго; он венгр и, по его уверениям, дипломированный врач, хотя никто толком ни разу не смог прочитать, что написано на бумажке, которой он потрясает всякий раз перед носом тех, кто позволяет себе усомниться в наличии у него законченного образования. Впрочем, за него всегда могут поручиться сотрудники морга, которым он за небольшую плату оказывает помощь в те дни, когда работы выпадает слишком много. В том, что касается умения кромсать и рубить, этот молодой человек, похоже, изрядно поднаторел еще до появления в стенах медицинского факультета, когда был помощником мясника в будапештской лавке. Все коллеги и знакомые единодушны во мнении, что этот венгр так или иначе связан с незаконной трансплантацией и перевозкой органов. В то утро, когда наш венский медик окончательно решил обратиться к услугам Сальго, он наткнулся на него совершенно случайно – войдя в факультетский туалет, чтобы помыть руки; эту манию он унаследовал от воспитавшей его тетушки, которая, казалось, прожила жизнь, не снимая стерильных перчаток. Сальго, которого до этого коллеги показали доктору в коридоре, издалека, сидел на унитазе и испражнялся. Зрелище не слишком привлекательное. Сальго – человек крепкий, приземистый, весь покрытый волосами. Он все время что-то бурчит про себя, как будто не переставая с кем-то спорить. Отметив про себя несвежесть спущенных ниже колен фланелевых брюк венгра, которые были на нем за неделю до того (когда врач видел его мельком) и которые, судя по всему, Сальго собирался носить, не меняя, ближайшие несколько месяцев, доктор заметил, что венгр читает «The Nation». Никто из коллег, рекомендовавших Сальго, не отметил его склонности к иностранным языкам. Сальго с бурчанием смотрит на молодого врача поверх газеты; тот, напуганный, готов ретироваться, но тут видит, что венгр изучает, с тем же вниманием и усердием, с которым в лучших венских кафе посетители в обеденный перерыв изучают биржевые сводки, колонку известного критика Артура С. Данто, посвященную пластическим искусствам. В общем, Сальго, несомненно, оказался именно тем человеком, который был нужен для осуществления планов Рильтсе.