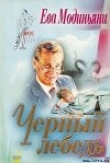Текст книги "Прошлое"
Автор книги: Алан Паулс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 37 страниц)
Annotation
Впервые на русском – пожалуй, самый знаменитый латиноамериканский роман последних лет, лауреат нескольких престижных премий и номинант международной «IMPAC Dublin Literary Award», переведенный на многие языки мира. «Прошлое» называли «головокружительной сексуальной одиссеей», сравнивали с «Игрой в классики» Кортасара и «Деньгами» Мартина Эмиса, с признанными шедеврами Пруста и Набокова. В 2007 году роман был экранизирован Эктором Бабенко (лауреатом «Оскара» за «Поцелуй женщины-паука»), причем главную роль исполнил Гаэль Гарсиа Берналь, звезда фильмов Альмодовара. Главные герои книги, Римини и София, решают разойтись после двенадцати лет совместной жизни. Римини, переводчик (которому однажды доведется сопровождать знаменитого французского философа Жака Дерриду во время его визита в аргентинскую столицу), делает осознанный выбор – сошествие в ад жизни рефлексирующего холостяка. София же, чья любовь к нему лишь крепнет, вступает в «Общество женщин, которые любят слишком сильно» имени Адели Г. – злополучной дочери Виктора Гюго, которую обессмертил своим знаменитым фильмом «История Адели Г.» Франсуа Трюффо…
Алан Паулс
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ГЛАВА ВТОРАЯ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА ПЯТАЯ
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ГЛАВА ВТОРАЯ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА ПЯТАЯ
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ГЛАВА ВТОРАЯ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА ПЯТАЯ
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ГЛАВА ВТОРАЯ
notes
1
2
Алан Паулс
Прошлое
Я давно привыкла быть мертвой.
В. Йенсен. Градива
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Едва Римини залез под душ, как раздался звонок домофона. Ему пришлось прикрыться полотенцем для рук – банного не нашлось: Вера устроила настоящий хаос из духов, шапочек, кремов, солей, масел, увлажняющих и каких-то других средств. Стайка капель воды шла за ним по следу. «Почта», – раздалось в трубке, и на заднем плане было слышно, как по улице проносятся грузовики. Римини попросил, чтобы письмо просунули под дверь в подъезде, и вдруг почувствовал неловкость из-за своей наготы – словно заметил незнакомца в помещении, где, как он был уверен, никого нет. В стеклянной двери, приоткрытой сквозняком, он увидел свое озябшее, дрожащее отражение. Так мог бы выглядеть слишком назидательный и примитивный, но убедительный эстамп «Человек под ударом судьбы». Клубы дыма, вырывавшиеся из ванной, – он оставил душ включенным в надежде, что перерыв будет недолгим, – вызывали у него что-то вроде морской болезни. «Заказное. Нужно расписаться», – прокричали в трубку. Римини, недовольно фыркнув, нажал на кнопку и приготовился стать свидетелем того, как будет разрушено его счастье.
Он встречал утро дома, солнечный луч ласкал ему лицо, когда он стоял под душем, ощущение новых возможностей пронизывало его, как в первый день какой-нибудь интересной поездки; он просыпался и вставал один, потягивался и делал первые шаги, нарушавшие тишину в доме, чувствовал легкую ломоту во всем теле после долгой ночи любви, проведенной с Верой, – и это на глазах крошилось, разваливалось на мелкие кусочки.
Впрочем, что, если… Римини сжал трубку домофона в ладони и замер на несколько секунд, стоя у дверного косяка, ссутулившись и словно надеясь усилием воли превратиться в невидимку. Но, увы, вновь раздался гудок домофона, и последние, еще уцелевшие фрагменты утреннего хорошего настроения рассыпались на мелкие осколки – беззвучно, как в немом кино. Больше всего Римини не любил, когда мир вдруг принимался копировать противоречия, которые раздирали его самого; а на этот раз дело обстояло намного хуже – тут, похоже, был не плагиат, а серьезный заговор. Римини угрожала реальная опасность. Однако он смирился и, глядя на свои ноги – ноги великана, вокруг которых растеклись два океана, – заставил себя услышать то, что опасался услышать с самого начала; дверь подъезда была закрыта на ключ.
Он спустился вниз, пересчитав ступени бесконечной спирали винтовой лестницы, которую проклинал всякий раз, забираясь к себе на четвертый этаж. («Гениально, я ненавижу лифты!» – воскликнула Вера в тот день, когда они впервые пришли посмотреть квартиру.) Римини открыл дверь подъезда, посмотрел в одну сторону, затем в другую, но никого не увидел. На него накатила волна дикой ярости: да что же это такое творится?! Тем временем мимо него неспешно, как в замедленной съемке, проехал старый фургончик, из окошек которого во все стороны торчали бронзовые от загара локти и предплечья. «Эй, красотка!» – пробился к нему сквозь частокол рук чей-то насмешливый голос. Римини снова посмотрел себе под ноги (правая сандалия на левой ноге, левая – соответственно на правой: типичная утренняя рокировка), представил себе, как он выглядит в мокром полотенце – ни дать ни взять римский гладиатор, чресла которого укрыты от посторонних взглядов узкой полоской ткани. Выходя из квартиры, Римини успел набросить легкий летний плащ, уже промокший у него на плечах. Обидный возглас мог относиться, конечно, только к нему, но он решил не принимать его на свой счет. Он уже был готов вернуться в подъезд и закрыть дверь, когда от киоска на углу отделилась фигура – совсем молодой парень, худющий, как восточный факир. Эта худоба была какой-то болезненной; все его тело было, наверное, покрыто сетью пылающих вздувшихся вен – он получил их, по роковой прихоти, в наследство прямо от Эгона Шиле. Впрочем, в отличие от Шиле, юноша-почтальон был невысокого роста и, кстати, почему-то не был одет в почтовую форму. «Ремини?» – спросил он, размахивая в воздухе конвертом. Римини хотел было поправить почтальона, но решил понапрасну не утруждаться. «Где подписать?» Почтальон протянул ему письмо и засаленную измятую картонку – она была покрыта сеткой квадратиков с подписями и номерами документов. Римини молча ждал: ему был нужен карандаш, ручка, что угодно; почтальон же стал рассматривать ногти на ногах клиента, которые действительно ярко сверкали на солнце и притягивали взгляд. Кроме того, молодой человек издавал не слишком приятные звуки, водя изжеванной трубочкой по дну явно пустой консервной банки из-под лимонада. «Есть что-нибудь, чем подписать?» – спросил Римини. «Веришь – нет, прикинь, тупизм», – последовал ответ; эти слова почтальон произнес с таким видом, словно признание собственного кретинизма освобождало его от всякой ответственности за происходящее.
Минут десять спустя, пребывая в ужаснейшем настроении (Римини попросил в киоске ручку, чтобы расписаться, продавец заявил, что может ее только продать; Римини – к наспех подобранному гардеробу которого такой аксессуар, как бумажник, не прилагался – клятвенно заверил продавца, что заплатит, как только сходит домой за деньгами; он потребовал письмо у почтальона; мальчик-факир не горел желанием облегчить участь Римини – письмо стало заложником в его руках, и он прозрачно намекнул, что в качестве выкупа готов принять билет рождественской лотереи; Римини стал объяснять, что денег у него с собой нет, но почтальон, заговорщицки подмигнув продавцу в киоске, намекнул, что было бы неплохо воспользоваться тем же кредитом, благодаря которому Римини только что получил ручку), Римини рухнул в кресло и в первый раз за все это время внимательно посмотрел на письмо, чувствуя при этом невероятное облегчение – длинный узкий конверт был в его глазах чем-то вроде талисмана, единственного спасения от мрачных чар этого кошмарного утра.
Нестандартная форма конверта не так привлекла его внимание, как сама бумага – глянцевая, но в то же время мягкая, как шелк, – и ее цвет, анемично-голубой, который при покупке конверта, скорее всего, был лавандовым. Римини поднес письмо к носу так, словно это была часть ритуала, которым следовало сопровождать получение писем в конвертах старого образца. Запах, пропитавший конверт (смесь вони сгоревшего бензина, никотина и жевательной резинки с ароматизатором, не то клубничным, не то вишневым), не слишком гармонировал с качеством и цветом бумаги – куда больше эти ароматы соответствовали отпечаткам грязных пальцев почтальона, которые он оставил на уголке конверта. Обратного адреса на письме не было; ничего конкретного не говорил Римини и почерк, которым были написаны его имя и координаты: эти заглавные печатные буквы были старательно обезличены, никакой спешки, никаких волнений (их диктовало не сердце, но коварство и хитрость, подумал Римини, чувствуя при этом, что погружается в атмосферу какого-нибудь французского романа восемнадцатого века); однако эта нарочитость не давала оснований заподозрить автора в том, что он не привык писать от руки. Внимание Римини привлекло то, что буквы сбились плотной группой в одном уголке конверта, как будто человек, писавший адрес, оставил место для чего-то гораздо более важного, что так и не смог сформулировать или же попросту не решился написать. А в этом что-то есть, подумал Римини, и ему пришло в голову, что, быть может, в разрушении его утреннего счастья был какой-то смысл. Присмотревшись к почтовому штемпелю, он разобрал слово «Лондон». С трех марок на него взирало одно и то же незнакомое ему лицо – гордое, самодовольное, обрамленное париком. Цифры, в которые он вглядывался, были больше похожи на пышные усы, пририсованные к одной из трех физиономий, – но Римини разобрал дату отправки на штемпеле. Письмо было отправлено полтора месяца назад. За долю секунды Римини представил себе сложный путь этого письма, опасности и приключения, которые оно пережило, – забастовки почтовых служащих, пьяные почтальоны, перепутанные почтовые ящики. Ему показалось, что полтора месяца в пути – это слишком долгий срок для письма, адресованного человеку, не имеющему привычки получать письма.
По правде говоря, Римини даже толком не знал, как полагается открывать конверты. Сначала он решил оторвать один из углов, но что-то его остановило. Тогда он зажал краешек конверта зубами и попытался ногтем задать направление надрыва. К счастью, заподозрив неладное, он вовремя остановился и заметил, что таким образом едва не зажевал вместе с кромкой конверта часть его содержимого. В конце концов он извлек адресованное ему послание. Это оказалась цветная фотография: в ее центре, выставленная в витрине, покоилась на скромном черном пьедестале алая роза; ниже, мелкими, но читаемыми буквами, на белой табличке было написано: «В память о Джереми Рильтсе, 1917–1995». Словно черная молния ударила Римини. В такие минуты застоялая сырость, лежалая пыль, вся эта прогорклая алхимия начинает просачиваться сквозь все щели. До этого ему было позволено чего-то не знать – теперь он не имел на это права. Когда, перевернув фотографию, Римини обнаружил на обороте то, что ожидал, он был старше, чем десять секунд назад.
Густые темно-синие чернила, бисерный почерк, аккуратный наклон вправо. И все та же безудержная страсть ставить скобки по поводу и без повода. Римини стал читать:
«Я в Лондоне (как тогда, шесть лет назад), только на этот раз окно квартирки (которую я сняла у какой-то китаянки с повязкой на глазу) выходит во дворик без клумб и цветов; зато собаки (полагаю, что всякий раз одни и те же) целыми ночами роются в помойке, рвут мешки с мусором и грызутся за найденные кости. (Видел бы ты, какой пейзаж открывается передо мной каждое утро, когда я продираю глаза.) Пару дней назад я проснулась посреди ночи, разбуженная сном – длинным и приятным: запомнила я, конечно, не все, но главное – это то, что там был ты, как всегда мрачный и обеспокоенный какой-то ерундой, пустяком, не имеющим никакого значения. Так вот, именно в то время, пока мне снился этот сон (я потом это специально уточнила), наш Дж. Р. застрелился. Такое бывает – люди идут на этот шаг по внутреннему зову, никто их к этому не подталкивает. Можешь делать с этим письмом что хочешь. (Я изменилась, Римини. Так изменилась, что ты, наверное, меня бы даже не узнал.) Эта бумага сделана словно специально для тебя: все, что на ней пишешь, можно стереть прямо пальцем – не останется даже следа. Вполне возможно, что, когда ты получишь письмо, эти строки уже сотрутся сами и ты не сможешь их прочитать. Но, поверь, ни Дж. Р., ни фотография ни в чем не виноваты. Будь ты на моем месте (а ты там был: мой сон тому подтверждение), ты тоже сделал бы этот снимок. Разница между нами в том, что я решилась послать его тебе. Надеюсь, юная Вера не станет ревновать к бедному покойному художнику. Очень хочу, чтобы ты все же научился быть счастливым. С.».
Римини вновь перевернул фотографию изображением к себе и стал внимательно разглядывать ее. Он узнал музей, а потом обратил внимание на тень картины Рильтсе в правом углу снимка; туда не достал свет вспышки, и от этого витрина с розой словно подернулась дымкой наложившихся на нее новых впечатлений. Римини поднес фотографию к глазам и увидел в стекле отражение яркого пятна вспышки маленького фотоаппарата-мыльницы и сверкающую, словно нимб, как всегда чуть растрепанную, копну светлых волос Софии.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Что же его так поразило? Последний раз она дала о себе знать – а было это с полгода тому назад, через полтора года после того, как они расстались, – точно так же, в письменной форме. Впрочем, тогда это было не письмо – записка, да и то не на целом листе, а на половинке, неровно и нервно оторванной. Это был желтоватый листок, внизу которого, под текстом записки, сиротливо прилепился адрес, приписанный в последний момент, – жила она теперь где-то в Бельграно.
У Римини был день рождения. Он в очередной раз решил не отмечать это событие – то есть отметить его составлением списка друзей, которые звонили и наговаривали на автоответчик поздравления. Но Вера воспринимала стремление к уединению как проявление мужского кокетства (и была абсолютно права); она стащила, воспользовавшись его беспечностью, уже почти завершенный каталог тех, кто подтвердил верность дружбе телефонным звонком, пересчитала их и заказала столик на двенадцать человек в ресторанчике в центре города. (Непосредственность, свойственная Вере, была отделена от склонности к истерии, свойственной Римини, какими-то десятью годами: он родился вместе с кубинской революцией, она – в год высадки человека на Луну.) Первым в ресторане появился Виктор – вошел, обвел зал торжествующим взглядом и направился к их столику, пожалуй, чрезмерно наклонив торс вперед. Это положение неустойчивого равновесия Римини привычно списал на размер ступней Виктора – слишком маленький для его роста. Кроме того, Римини почему-то сразу понял, что Виктор как первым пришел, так первым и уйдет. Тот подсел к другу, напряженно сопя, и даже не удосужился его поздравить. Виктора что-то явно беспокоило. «Вера где?» – негромко спросил он. Римини кивнул головой в сторону барной стойки, где Вера, почесывая икру одной ноги лодыжкой другой, согласовывала с метрдотелем окончательный вариант меню. «Я тут с Софией сегодня встретился», – сказал Виктор. Римини тотчас же почувствовал, как затрещали его ребра, словно не в силах выдержать неожиданно навалившейся тяжести. Он машинально опустил взгляд и увидел, как Виктор разжимает кулак – его ладонь раскрылась, как изящный плотоядный цветок: длинные пальцы, полированные ногти. Внутри был свернутый клочок бумаги, который, похоже, уже отчаялся вновь оказаться на свободе после заключения в этой темнице. Бросив взгляд на барную стойку (Вера уже направлялась в их сторону), Римини жестом фокусника отправил сложенную записку в карман. «Ты уж меня извини, – прошептал Виктор и, приподнимаясь со стула, чтобы с широкой улыбкой на лице поприветствовать Веру, тихонько добавил: – Она как узнала, что я с тобой увижусь, так все – вцепилась в меня и не отпустила, пока я не пообещал, что передам тебе записку».
Об этой бомбе замедленного действия Римини позволил себе вспомнить лишь спустя три часа, когда стоял перед зеркалом в уборной и старался справиться с пьяным головокружением, пристально глядя на свое отражение. Он запустил руку в карман, чтобы поискать монетку для дозатора жидкого мыла. Нащупал ключи, колпачок от ручки, которая, по всей видимости, в этот момент пачкала чернилами карман его сумки; потом настал черед жетона на метро и, наконец, – свернутой записки. Это легкое прикосновение заставило Римини содрогнуться – ему казалось, что, просто открыв записку, он положит начало бесконечной цепи катастроф. И все же – сейчас или никогда. Он развернул бумагу и стал читать, стоя перед зеркалом, опираясь на край раковины и одновременно отталкиваясь от него. Ему показалось, что свет в уборной потускнел и начал мигать.
«Мерзавец. С днем рождения. Да как же это так, как ты смеешь, почему твои дни рождения повторяются, и при этом – без меня? Сегодня я проснулась рано, слишком рано (не уверена, что я на самом деле вообще спала), и стоило мне выйти на улицу (представь себе: комбинезон поверх ночной сорочки, шерстяные чулки, а на ногах тапочки), как я поняла, в чем дело. Ну конечно – очередное четырнадцатое августа. Я купила тебе маленький подарочек (не смогла удержаться, клянусь). Это пустячок, сущая безделица – я оставлю себе. Передавать подарок с Виктором не стану – во-первых, потому что мне просто стыдно перед ним, а во-вторых – ты прекрасно знаешь, что я не хочу компрометировать тебя перед той, что сейчас занимает мое место. Уверена, что, как только он уйдет (ты уж будь с ним поласковее. Присмотри за тем, чтобы и Вера была с ним поласковее, и напомни ему, что он должен вовремя принимать лекарства), я тотчас же раскаюсь в том, что сделала. Уверена, уверена в этом на сто процентов. По – будет уже поздно. Если хочешь, позвони мне. Я все там же. С. (Не бойся: эта записка самоуничтожится через пятнадцать секунд после прочтения)».
Дверь в уборную распахнулась. Римини почувствовал удар в спину и, решив, что его тайна раскрыта, повернул кран и выпустил из пальцев листок бумаги – тот спланировал на дно раковины и принял крещение под тремя жалкими струйками воды. «Ах ты, мерзавец», – донесся до слуха Римини знакомый голос. Он еще секунду-другую стоял неподвижно, глядя на то, как стекают бледными разводами слова и буквы, написанные рукой Софии. Голос принадлежал Серхио, одному из приглашенных. «Ты что тут, пьешь в одиночестве?» Римини обернулся и с улыбкой сказал: «А что, имею право. У меня все-таки день рождения».
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Он знал, что такое эта одержимость. Сколько раз он бывал в это втянут – за то время, что он прожил без Софии, и за те почти двенадцать лет, что они провели вместе. Подойдя к какой-то эмоциональной границе, к точке невозврата, после которой переживаемые страсти требуют от персонажей смены языка, герои оперы перестают говорить и начинают петь, актеры, играющие в музыкальных комедиях, переходят с шага на танец, – София же писала. В детстве она занималась пением (тип девочки-отличницы, утомленной бесконечными дополнительными и внеклассными занятиями, вечно не высыпавшейся и при этом всегда счастливой), а в ходе бесконечных «исследований физического мира» (как она называла многочисленные курсы и семинары, которые посещала в подростковом и послеподростковом возрасте) ей не раз приходилось иметь дело с танцем. И все же, когда София задыхалась от любви, когда в ее жизни происходили самые счастливые и самые тяжелые события, когда она впадала в восторг или же, наоборот, в отчаяние, когда вплотную подходила к порогу, за которым любовь оказывается бессильна выразить себя словами, произнесенными вслух и сопровождаемыми жестами, – София замолкала, причем с такой убежденностью в том, что делает, словно точно знала, что иначе жизнь оборвется. Через час, день, а иногда целую неделю, когда экономика любви, оправившись от кризиса, возвращалась к стабильности и «инцидент», как Римини мысленно называл эти приступы немоты, казался уже исчерпанным, а рана худо-бедно затянувшейся, – Римини вдруг натыкался на записку, письмо, несколько набросанных наскоро строк или же множество плотно исписанных страниц исповедального текста. София писала в одиночестве; в эти промежутки времени она существовала без Римини, отдельно от него, но всецело ради него. Она запиралась в какой-нибудь комнате, в баре, у стола, заваленного ворохом салфеток, или просиживала ночь напролет на кухне, – а Римини, пользуясь случаем, ложился по диагонали кровати и поджимал ноги так, что они образовывали почти идеальную четверку. Пара романтических строк, как бы случайно затесавшихся в список овощей и моющих средств, попадались ему на глаза, когда он разворачивал этот самый список в супермаркете. Открыв бумажник, стоя на остановке автобуса, Римини мог обнаружить между затертыми купюрами гордо торчащий краешек очередного конверта со своими инициалами, любовно выведенными на лицевой стороне, – внутри же, на обороте бланка медицинского рецепта, были плоды долгих ночных размышлений Софии. Записки подстерегали его в шкафчике в ванной, на дне карманов сумок, в блокноте у телефона, между страницами документов, которые Римини переводил, и даже в холодильнике, где они поджидали его часами, прислоненные к пакету молока или баночке йогурта, окоченевшие от холода, но стойко переносившие все невзгоды.
Поначалу Римини воспринимал эти записки как подношения любви и, получая их, чувствовал себя польщенным. Почти всегда София использовала для них оборотную сторону уже исписанной бумаги; они походили на мольбы о помощи или шифровки заговорщиков. Чем-то они напоминали украшения из драгоценных камней, но не те, что выставлены на прилавках ювелирных магазинов и произведены на фабрике с дорогим точным оборудованием, а те, что продаются на рынках и изготавливаются каким-нибудь ремесленником-самоучкой прямо на столе дома – как бог на душу положит. Было что-то трогательное и умилительное даже в их несовершенстве и недостатке вкуса. Обнаружив очередное послание, Римини испытывал непреодолимое желание прочитать его немедленно – по всей видимости, оно было слабым подобием желания написать эти строчки, которое испытывала София, хватаясь за ручку и бумагу. Вчитываясь в адресованные ему слова, Римини мог забыть запереть дверь на ключ, мог прервать недоделанную работу, остановиться посреди пешеходного перехода на каком-нибудь оживленном перекрестке или, например, оставить без ответа вопрос, заданный собеседником, – влюбленные невежливы со всеми, кроме предмета своего обожания. Каждая записка была сладостным бальзамом, прицельным выстрелом, поражающим его зарядом счастья, дозой сильнейшего наркотика – любви к Софии; зависимость от него становилась все более безнадежной, несмотря на то, что Римини время от времени – особенно когда Софии не было в непосредственной близости – пытался убедить себя в том, что вполне мог бы обойтись и без нее. Больше всего его трогало то, что не он обнаруживал эти записки, а они сами безошибочно выходили на него. Они напоминали самоотверженных гонцов, готовых преодолеть все препятствия в мире, лишь бы выполнить свою задачу – донести до него известие от Софии. Читал он эти послания всегда тут же, не давая себе ни минуты отсрочки; порой это происходило в весьма щекотливых ситуациях, когда любое переключение внимания могло быть неправильно истолковано окружающими, а то и несло в себе смертельную опасность. Римини же считал себя в эти мгновения неуязвимым: письма Софии – и в особенности окружавшая их аура загадочности – были его доспехами и его универсальным противоядием. Прочитав записку – обычно не про себя, а в голос, пусть и совсем тихо, и ощущая, что одновременно слышит голос Софии, произносящий тот же самый текст, – Римини приходил в себя и вновь принимался за прерванное дело: за работу, за разговор с собеседником. Он вновь шел туда, куда собирался, – порой с несколько отсутствующим видом, передвигаясь автоматически, как лунатик, но при этом трепетно сжимая в руке листок бумаги, исписанный Софией, свой верный и надежный талисман. А потом, под вечер, когда они вновь встречались, Софии даже не приходилось спрашивать, читал ли он ее послание. Предвосхищая все возможные вопросы, Римини бросался к ней и обнимал – с видом торжествующего победителя и одновременно побежденного, смирившегося с поражением. Даже не поздоровавшись, он, окрыленный счастьем от возможности выразить наконец свою любовь, покрывал ее поцелуями – а потом, процитировав последнюю фразу из записки, подхватывал мысль Софии и принимался ее развивать. Врозь они проводили каких-то восемь, может быть, десять часов, иногда меньше: но получение очередного письма (всякий раз при этом Римини, вроде бы и Привыкший к тому, что никакой системы во всем этом нет, бывал застигнут врасплох – как будто это было известие о вероломном нападении врага) растягивало время разлуки, делая ее совершенно невыносимой, и многократно увеличивало расстояние, разделявшее те два мира, в которых на протяжении этих бесконечных часов каждый из них существовал один. (Как-то раз, обнаружив записку во время поездки в метро, Римини, привычно погладив взглядом строки, исписанные таким знакомым почерком, вдруг представил, что София умерла, умерла уже давно, много лет назад: но в руках у него вот эта записка, написанная на странице, вырванной из ежедневника на текущий год, – словно голос из другого мира или неожиданное известие о том, что София на самом деле жива. Поняв, что происходит у него в голове, Римини чуть было не потерял сознание.) Эти записки были своего рода редкой формой обострения болезни любви – несомненно, в большей мере плод запоздалой иллюзии этого чувства, чем его самого. Именно поэтому, встретившись после разлуки, Римини и София впадали в транс восторга и отчаяния. Их объятия были объятиями не влюбленных, но жертв, узников, получивших наконец, после долгого заточения, свободу: слова любви, тихо, едва слышно звучавшие между поцелуями, были не волшебными заклинаниями, приподнимающими влюбленных над обыденностью жизни, – произнося их, Римини и София, скорее, ставили подпись под документом об отмене приговора, во исполнение которого они провели бы друг без друга целую вечность.
Постепенно у Римини скопилась внушительная коллекция писем и записок. Он хранил их в тайниках и время от времени перепрятывал, опасаясь, что София может их обнаружить. Полученные послания он никогда не перечитывал – ему было достаточно ими обладать; но мало что могло сравниться с восторгом, охватывавшим его, когда он добавлял еще один шедевр к своей тайной коллекции: засовывал очередной клочок бумаги в старую коробку из-под ботинок, в книгу или в кармашек давно не используемой сумки – особенно если он делал это при приближении Софии. (Римини никогда никого не осуждал за супружескую измену, но само это понятие было для него чем-то потусторонним. Возможность изменить Софии он расценивал как нечто не более реальное, чем, например, обретение дара антигравитации. Изменяли в другом мире, – в мире, где люди, например, верили в астрологию и даже принимали наркотики. При всем этом он сумел реализовать свою подсознательную тягу к измене, свойственную любому мужчине, – обманывал возлюбленную, изменяя ей с доказательствами любви, которые она сама ему адресовала.) Он хранил записки от Софии, как другие хранят фотографии, пряди волос, подставки под пивные кружки из баров и ресторанов, театральные билеты, посадочные талоны, открытки из дальних стран: эти реликвии влюбленные порой перебирают, чтобы вновь погрузиться в сладостные воспоминания о той страсти, что некогда сжигала их, – а то и для того, чтобы оживить угасающие чувства, заставить их вспыхнуть с новой силой, подняться над опасно сузившимся горизонтом бесконечных повторений встреч или дней, проживаемых вместе.
Однажды – никаких мрачных предзнаменований в этот день не было, он ничем не отличался от других – Римини, обнаружив очередную записку, впервые в жизни отложил ее на потом: он куда-то опаздывал. Перескакивая со ступеньки на ступеньку, он бежал по эскалатору, прокладывая себе путь сквозь плотную массу полусонной толпы пассажиров, которые никуда не торопились. Услышав шум поезда, подъезжающего к платформе, Римини на ходу, не сбавляя темпа, стал искать в кармане жетон; пришлось на ощупь выцарапывать его из складок бумаги, куда он зарылся. Преодолев турникет, Римини обогнул шеренгу пассажиров, которые решили не втискиваться в переполненный вагон, и успел, за секунду до отправления, заскочить внутрь, но оказался зажатым между дверями; машинист был вынужден открыть и закрыть их заново. Всю дорогу Римини ехал, опустив голову от стыда и стараясь не встречаться взглядом с другими пассажирами; он стеснялся своей наглости и сунул руки в карманы, чего обычно не делал, – ему казалось, что так он будет, во-первых, занимать меньше места, а во-вторых – не столь разительно отличаться от людей, которые всегда расталкивают других, чтобы успеть на уходящий поезд. В кармане он нащупал записку Софии во второй раз. Сначала ему показалось, что немедленное ее чтение, здесь и сейчас, когда он стоит впечатанный в двери вагона, будет еще одним неоспоримым доказательством их великой любви. Подумав хорошенько и погладив сложенный лист бумаги, словно приглушая настойчивый, зовущий его голос, он оставил записку там, на дне кармана. А потом – день, начавшийся с опоздания, так и шел наперекосяк. Римини оказался жертвой какого-то странного эффекта домино: тех самых десяти-пятнадцати минут, на которые он задержался, торопясь на первую встречу, ему не хватало до самого вечера. Он прилагал все усилия, чтобы ликвидировать это опоздание, но тщетно. Нервотрепка не могла не сказаться и на остальных его делах: Римини принимал неверные решения, путал время и место назначенных им же самим встреч, несколько раз стал виновником аварийных ситуаций на перекрестках, неудачно пообедал и плохо поработал; цеплялся ко всяким несущественным, а зачастую и несуществующим ошибкам окружающих (прочитав в поданном ему в кафе счете тройку как восьмерку, он решил, что его пытаются обмануть, и устроил скандал. С не меньшим упорством он скандалил с редактором – из-за более чем здравого замечания, которое тот высказал в адрес его перевода). В общем, Римини напрочь забыл о записке.