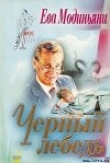Текст книги "Прошлое"
Автор книги: Алан Паулс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 37 страниц)
На следующий день Римини успел оборвать телефон, прежде чем Вера наконец ответила. «Давай покороче, я тороплюсь», – сказала она, нарочито позвякивая ключами у трубки. Злилась она от всей души, не скупясь; чтобы этот костер пылал не угасая, ей время от времени требовалось подпитывать его горючим, – видимо, поэтому она и ответила на очередной телефонный звонок. Римини спросил ее, почему она вчера ушла с вечеринки и почему ушла именно так. «Почему? Почему так?» – переспросила она. Свою ненависть, словно истонченную болезненной ревностью, Вера направляла прежде всего на то, чтобы оттенить чужое бессердечие, чтобы высветить причины своих страданий в словах, обращенных к ней собеседником. «Да-да, – поддался Римини, – почему, и почему именно так». В ту же секунду у него возникло чувство, словно по телефонному кабелю к нему выдвинулась с самыми решительными намерениями вся армия противника. Для начала ему пришлось выслушать содержание целого полицейского досье на всех рыжих баб вообще и на некоторых особо похотливых в частности; затем ему прочитали целую лекцию – настолько откровенную, что Римини даже покраснел, слушая ее, – о плачевном состоянии косметической промышленности в стране, так и не сумевшей наладить выпуск губной помады, которая не стиралась бы во время орального полового акта и была бы устойчива к воздействию спермы; третьей составляющей этого прокурорского выступления был отчет о раскрытии заговора, организованного устойчивой преступной группой в составе Римини и Серхио, целью которого было выставить ее, Веру, на посмешище. «Перестань, я ведь с нею даже не знаком!» – возразил было Римини – и понял, что напрасно. «Ах, ты с ней даже не знаком! Так это еще хуже! – закричала Вера. – Это уже вообще предел всему!» С этими словами она бросила трубку. Римини начал звонить ей опять – раз, другой, третий… Всякий раз он выжидал на гудок-другой дольше, словно увеличивающаяся продолжительность звонков могла стать ключом к этому любовному шифру. Он был уверен в том, что Вера никуда не ушла и сидит рядом с телефоном, быть может, даже считая звонки; скорее всего, она при этом испытывала огромное удовольствие – не только от осознания того, что он переживает и чувствует себя виноватым, но и от того, что у нее есть выбор: предоставить ему и дальше названивать ей или же согласиться на то, чтобы увидеться, и высказать все, что она думает, ему лично. Сам же Римини, в очередной раз набирая номер, вдруг осознал, что готов вновь и вновь давать ей возможность почувствовать себя победительницей, потому что действительно уже крепко запутался в сотканной ею паутине любви.
Вера так и не сняла трубку. Римини удалось дозвониться до нее ближе к вечеру, когда он вернулся домой после первой в своей жизни покупки кокаина. В одной руке он держал заветный бумажный пакетик, а в другой – телефонную трубку. Он дрожал, у него потели ладони. Римини раньше даже не предполагал, каким, оказывается, восхитительным может быть такое элементарное и, казалось бы, неприятное чувство, как страх. Зажав трубку между плечом и скулой – как Вера, когда он впервые увидел ее в сувенирном магазине, – он стал набирать номер, аккуратно разворачивая другой рукой упаковку с белым порошком. Вера ответила быстро – едва ли не после первого же гудка. Судя по голосу, она не то успокоилась, не то и вовсе впала в депрессию. Римини представил ее полулежащей на незастеленной кровати, в комнате с плотно задернутыми шторами, с беззвучно работающим телевизором, окруженной тарелками с остатками еды и грязными переполненными пепельницами. Говорили они долго. Вера перевела свои внутренние эмоции на несколько более цивилизованный язык и добавила к теме личных обвинений в адрес Римини рассуждение о своей фатальной невезучести и о том, что «от судьбы не уйдешь»; в общем, за эти полдня ничего не изменилось – она просто немного остыла и успокоилась. Римини, удостоившийся по ходу разговора почетного звания «туалетного сексуального маньяка», открыл в себе такие таланты к промискуитету, о которых раньше и не подозревал. Кроме того, он, блаженно улыбаясь, как верующий, увидевший несомненное чудо, осознал, что любовь, оказывается, вовсе не обязательно должна быть разделенной, всеобъемлющей, безусловной и продолжительной; это чувство могло быть совсем иным – безответным, пронизанным недоверием и отравленным ревностью. В ответ на упреки Веры он лишь смеялся и все отрицал. Она соглашалась с его доводами с одной лишь целью – перейти к следующему пункту обвинений; Римини, как и любой человек, ставший объектом острой ревности, стремительно овладевал искусством слышать то, что не произнесено вслух, настраиваться на едва уловимую частоту, на которой ревнующий передает зашифрованную информацию о своих истинных, не замутненных пеленой ревности чувствах, – и на этой волне Римини по-прежнему ловил некоторое волнение и подозрения. «Подожди», – был вынужден сказать он ей в какой-то момент – и замолчал так неожиданно, словно его скрутило приступом боли. Но это была не боль – он испытывал иное, не знакомое ему до этого дня чувство: ощущение было такое, что с него содрали кожу и теперь контакт между ним и окружающим миром – в первую очередь голосом Веры – осуществлялся не опосредованно, а напрямую, с какой-то особой ясностью и обостренностью. На несколько секунд он закрыл глаза и посидел так – молча и неподвижно. Затем, прикрыв трубку ладонью, наклонился над юным и загорелым лицом Софии и резко втянул заранее выложенную дорожку кокаина. «Эй, ты там, надеюсь, один?» – требовательно поинтересовалась Вера, когда он снова подал голос в трубке. На этот раз Римини не составило труда успокоить свою собеседницу. Воодушевленный наркотиком, эффект которого от осознания того, что куплен он был самостоятельно, видимо, усилился, Римини говорил много, легко и красиво, словно стараясь заполнить своими словами любую пустоту в сознании Веры, не давая неуверенности и подозрениям занять это место. Он не слишком вслушивался в то, что говорил, но, блуждая в кокаиновом тумане, подсознательно выбирал нужное направление; судя по всему, такие разные химические элементы, как влюбленность, цинизм и самоконтроль, под воздействием кокаина соединились в его сознании в какой-то новый, обладающий неведомыми свойствами сплав. Не воля, не разум, а что-то иное подсказывало Римини, где и на чем сделать акцент, где надавить на собеседницу, а в чем уступить ей, о чем рассказать, а о чем умолчать… Судя по тому, что Вера все меньше говорила и все больше слушала, Римини мог предположить, что его слова не пропали даром. Тем не менее она время от времени вновь пыталась оказать сопротивление. Римини ощущал себя этаким спасателем, который тащит к берегу купальщика, не рассчитавшего свои силы; купальщик оскорбляет спасателя, а то и отталкивает его или даже пытается утопить – причиной такой реакции у многих становится уязвленное самолюбие. Римини, не желая доводить дело до драки в незнакомых ему водах океана ревности, постепенно уводил Веру из открытого моря в мелководную прибрежную бухту, на всякий случай поближе к земной тверди, где он чувствовал себя более уверенно. Такая тактика, выбранная им интуитивно, оказалась весьма эффективной – говорить Римини пришлось очень долго, но зато, когда после долгой паузы Вера вновь попыталась что-то возразить ему, ее голос звучал уже не враждебно и напористо, а беззащитно и даже как-то жалобно – так, бывает, ведут себя люди, которые считают себя виновными в какой-то неприятности, затронувшей окружающих; они не то чтобы готовы признаться во всем и взять на себя ответственность, но по крайней мере не делают вид, что ничего не произошло, и, оттягивая неприятные минуты признания, стараются до поры до времени не показываться никому на глаза. В общем, дело дошло до того, что Вера сначала спросила, а затем и попросила, нет, потребовала – на редкость трогательно и наивно, – чтобы Римини, как только заинтересуется другой женщиной, как только у него появится другая женщина, немедленно сообщил ей об этом, прямо и открыто, потому что, по ее словам, куда больше, чем сам факт измены, ее ранило состояние неведения. В ответ Римини клятвенно заверил ее, что расскажет обо всем, как только это случится, добавив, естественно, что очень сомневается в том, что это возможно при наличии в его жизни такого сокровища, как Вера; при этом сам он осознал, что его жизнь с появлением этой девушки действительно начала радикально меняться.
Через некоторое время они – причем у каждого это вызывало тревогу особого рода – стали замечать, что встречаются с пугающей частотой; еще немного – и количество свиданий на единицу времени могло перейти ту невидимую, но ощущаемую каждой парой влюбленных черту, которая отделяет легкий, ни к чему не обязывающий роман от более серьезных и многообещающих отношений. Римини чувствовал себя, как ныряльщик, пробывший под водой чересчур долго и вынырнувший наконец на поверхность, чтобы вдохнуть свежего, обжигающего усталые легкие воздуха. Он вдруг стал осознавать значение каждого произнесенного им слова, сколько бы миллионов раз влюбленные ни произносили его до Римини и как бы ни было оно скомпрометировано этим многократным употреблением; он чувствовал, что настал тот этап, когда каждое произнесенное слово не только взвешивается на весах влюбленности, но и проверяется ревностью. Их отношения с Верой перешли в новое измерение, где главенствующим законом было «право любви», согласно которому любое обещание почитается за клятву, а любое заявление – за непреложное обязательство.
Как-то раз они совершенно случайно встретились на улице неподалеку от его дома. Первые несколько секунд оба не понимали толком, что им теперь делать. Было два часа пополудни; за исключением того дня, когда они познакомились, им еще не приходилось видеть друг друга при солнечном свете. Они смотрели друг на друга, как люди, работающие вместе и впервые увидевшие коллегу не в рабочей униформе, а в обычной уличной одежде. Дело осложнялось тем, что за несколько часов до этого они договорились по телефону, что ближе к вечеру Вера заглянет к Римини. И как, спрашивается, им себя вести? Подтвердить уже назначенное свидание и попрощаться до вечера? Или, быть может, соединить случайную встречу с назначенным свиданием? А что, если вдруг выяснится, что их любовь есть не что иное, как ночная иллюзия? Выручило их то, что оба были голодны: когда в не клеившемся разговоре повисла очередная неловкая пауза, в животе у Римини забурчало, и не успел он толком смутиться, как желудок Веры ответил в тон ему голодным эхом, – эта сцена, достойная мультфильма для дошкольников, донельзя развеселила их обоих и сняла напряжение; каждый огляделся, и через мгновение их взгляды устремились в одну и ту же точку пространства. Как проснувшиеся лунатики, не понимающие, где они находятся и как они сюда попали, оба с немалым удивлением обнаружили, что стоят буквально в нескольких шагах от входа в закусочную, предлагающую множество аппетитных блюд навынос. Они накупили себе столько еды, словно собирались не наскоро утолить голод в ближайшие десять-пятнадцать минут, а смаковать чудеса кулинарии как минимум целый вечер, демонстрируя собеседнику свои предпочтения и обосновывая выбор тех или иных блюд и сочетание именно этих, а не каких-нибудь других вкусов. Нагруженные коробками с едой, они поднялись к Римини, и он сразу же пошел на кухню; Вера тем временем направилась в гостиную и попросила разрешения включить музыку. Ее с утра преследовала какая-то песенка, и она теперь хотела прослушать ее вместе с ним, чтобы узнать его мнение. «Включай что хочешь», – сказал Римини. Сам он был занят подготовкой этого не то второго завтрака, не то раннего обеда и не слишком внимательно вслушивался в то, что говорила Вера. Римини открыл холодильник, внимательно поискал в нем то, чего, как он прекрасно знал, там не было и быть не могло; исполнив эту тяжкую обязанность, он с размаху захлопнул дверцу и громко, в полный голос, извинился – не то перед собой, не то перед Верой: «Горчица вроде бы должна была оставаться… Или хотя бы майонез… Кетчуп… Масло какое-нибудь…» Он постепенно снижал громкость, сводя на нет этот маленький спектакль, посвященный собственной бесхозяйственности. Наконец он замолчал и стал отмывать стоявшие в раковине стаканы, мысленно решая важнейший вопрос: резать принесенное мясо пластмассовым ножом – трофеем, захваченным в ходе недавнего авиаперелета, – или же постараться расправиться с противником при помощи вилки. «Не позволяй себе поддаваться очарованию роскоши», – сказал он и вдруг не столько услышал, сколько почувствовал, что его голос звучит как-то одиноко. Римини замер и прислушался. В квартире было тихо – ни музыки, ни голоса, ни шагов. Страх молнией пронзил его, и Римини мгновенно восстановил в памяти всю цепочку событий: он вышел на улицу, чтобы купить себе чего-нибудь поесть – лишь острый голод сумел заставить его оторваться от работы; естественно, он думал, что вернется быстро и притом один; к тому же незадолго до этого он вскрыл свой ежедневный пакетик и оставил подносик-фотографию прямо на столе, не посчитав нужным принять хоть какие-то меры предосторожности. Римини на цыпочках вернулся в свой кабинет-гостиную и увидел Веру, неподвижно стоящую перед его письменным столом. Римини медленно, стараясь не спровоцировать ее на лишние эмоции резкими движениями, подошел поближе и увидел, что она успела не только побледнеть, но и местами покрыться уже знакомыми ему пятнами гневного румянца. Она стояла не мигая и, как показалось Римини, даже почти не дыша; ремешок от сумочки, намотанный на руку, впился ей в кожу. «Кто это?» – спросила она наконец замогильным голосом. Римини увидел портрет в рамочке, лежавший на открытом словаре в качестве пресс-папье и закладки; сначала его взгляд зацепился за разбросанные по стеклу крупинки белого порошка и лишь затем, проникнув через эту завесу, сфокусировался на улыбающемся лице Софии – прядь волос, спадающая на глаза, полоска голубого неба, уголок какого-то красного флага за спиной и знакомая родинка на правом плече…
Действовать нужно было быстро. Римини наскоро взвесил все «за» и «против» и принял решение перевести Софию на нелегальное положение – хотя все доводы были против этого варианта: ну с чего, спрашивается, ему понадобилось налаживать и обустраивать работу этого подполья своего прошлого? Зачем – если он был абсолютно уверен, что все, что связано с Софией, не вернется и что она не представляет никакой угрозы ни для него, ни для Веры, ни для их отношений? Тем не менее Римини почувствовал неимоверное облегчение, словно бы, несмотря на нелогичность этого выбора, а быть может – и благодаря этой нелогичности, он мгновенно избавился от нерешительности, навалившейся на него в последнее время. Вплоть до этого дня он не предпринимал никаких активных действий для того, чтобы забыть Софию, – он лишь медленно, хотя и достаточно упорно, отодвигал ее все дальше и дальше от себя, надеясь, что рано или поздно эта политика пассивного избегания контактов развеет еще, быть может, сохранившиеся у Софии иллюзии. С этого момента все должно было резко измениться. Римини решил вычеркнуть Софию из своей жизни и даже был готов приложить к этому некоторые усилия. И Вере суждено было стать причиной столь резких перемен – именно она, именно ее ревность, какой бы некомфортной и порой невыносимой она ни была, подтверждала правоту одного из принципов, которыми руководствовался Римини в своей личной жизни: настоящая любовь не умирает естественной смертью – она гибнет, истекая кровью, под ударами, наносимыми другим чувством, не обязательно серьезным, большим и настоящим; таковы законы любви, которым неведомы благородство, преклонение перед званиями и титулами, – законы безжалостные и прямолинейные, которые и делают возможным торжество молодости, чувств и той самой подлинной любви.
Время, кокаин, бесконечные часы сидения за книгами и словарями – все это, в сочетании со встречами с Верой, доделало за Римини начатое им дело. Выкорчевывание Софии из жизни и сердца, жестокое и порой даже болезненное поначалу, вскоре превратилось в повседневное и даже обыденное занятие. София продолжала звонить ему, и Римини давал ей выговориться всласть – разумеется, собеседником ее была кассета автоответчика: сидя рядом с телефоном, он с равнодушным удивлением выслушивал вопросы, претензии и упреки в свой адрес. Поняв, что так быстро София от него не отстанет, он отключил громкоговоритель автоответчика и прослушивал накопившиеся за день сообщения раз или два в сутки – обычно часа в два-три ночи, когда Вера уже спала, раскинувшись по диагонали кровати, а он, испытывая сладостную наркотическую бессонницу, вновь садился за очередной перевод. Едва заслышав голос Софии, он включал перемотку и переходил к следующему сообщению. Вскоре он научился предугадывать очередную запись, оставленную Софией, даже не дожидаясь, пока зазвучит ее голос: все ее сообщения предварялись продолжительным тревожным молчанием – иногда в этой тишине было слышно, как София вздыхает, собираясь с силами для того, чтобы в очередной, который уже по счету раз поговорить не с человеком, а с автоответчиком. Она, без сомнений, заранее прорабатывала какой-то список серьезных претензий и вопросов, но всякий раз, столкнувшись с записанным приветствием Римини, на некоторое время замолкала, а затем поверяла пленке свои почти бессмысленные и до неприличия жалобные попреки и стенания. Едва ли не в каждом сообщении София затрагивала тему фотографий. Она злилась, сердилась, явно не отдавая себе отчета в том, что злость и упреки не могут скрыть от Римини мучившую ее боль. Впрочем, иногда ей все же удавалось надиктовать вполне здравые сообщения, достойные серьезной, зрелой женщины: София говорила, что прекрасно понимает Римини и даже считает причины, по которым он исчез и не желает встречаться с нею, вполне уважительными, – между прочим, подчеркивала она, если бы ей хотелось, она могла бы вести себя точно так же – ей бы это ничего не стоило; голос ее в эти минуты звучал вполне по-матерински, ни дать ни взять – строгая, но добрая мать, которая выговаривает сыну-подростку, пойманному на месте не слишком серьезного преступления. Она, между прочим, если бы ей хотелось, повторяла София, так же могла бы забыть обо всем и снять с себя всю ответственность – сделать это очень легко, особенно когда знаешь, что кто-то другой возьмет на себя труд уладить все, что касается вас обоих. Впрочем, такая сдержанность и стремление понять ближнего могут существовать лишь при наличии хоть какой-то взаимности. Если же усилия прикладываются только с одной стороны, любой терпимости быстро приходит конец, и там, где только что буйным цветом цвели согласие и толерантность, начинают пробиваться колючие ростки грядущих военных действий. «Алло. Это снова я. Тебя, как я понимаю, опять нет дома. Сделай одолжение – позвони мне. Нам нужно доделать кое-какие дела. Сегодня вечером я буду дома с семи до девяти, может быть, до половины десятого. Впрочем, нет – с семи ровно до девяти. У тебя есть два часа». Лаконичность, телеграфный стиль, ноль эмоций – но все заглушается помехами обиды и раздражения. Эти суровые повестки ни разу не заставили Римини всерьез задуматься над тем, не явиться ли по вызову в соответствующий орган власти. «Доделать дела» звучало слишком неопределенно – ну кто купится на какие-то там «дела» и прочие «нерешенные вопросы». Вот фотографии – другое дело: предметы материальные, они были своего рода капиталом, имуществом и, следовательно, могли быть разделены между участвующими в споре сторонами или же переданы в чью-либо собственность. Римини прекрасно понимал всю серьезность подобных приглашений, как понимал и то, что его постоянные неявки по повесткам могут быть расценены уже не как реализация какого-то права, а как непростительное неуважение к властям. Он отдавал себе отчет в том, что остался в долгу перед Софией, но – что он мог поделать? Нельзя же остановить на полпути хирурга, уже начавшего операцию. Ее нужно довести до конца, пусть даже придется перепачкаться кровью. Выкорчевывание нужно было завершить, хотя бы для того, чтобы она – та, которую еще не до конца выкорчевали, – не оставалась рядом с ним немым укором, свидетелем его страшного преступления. К тому же теперь в его жизни была Вера. Если всего одна фотография Софии привела ее почти в состояние комы, то что же будет с нею, когда на нее обрушатся те сотни и тысячи, которые ждут своей очереди? И к тому же – она просто не выдержит того вечера, который Римини и Софии пришлось бы провести наедине, разбираясь со старыми фотографиями. Один, один-единственный снимок – это тот порог, который отделяет мир счастья от преисподней.
В тот вечер – когда они с Верой случайно встретились на улице и она наткнулась на портрет Софии – Римини попытался успокоить ее, коротко пересказав сценарий, по которому развивалось его прошлое; в этом кратком синопсисе была София, но не было ни души, ни жизни, ни каких бы то ни было чувств. Этого Вере оказалось мало, и успокоилась она, лишь вырвав у Римини обещание избавиться от снимка раз и навсегда. Нет, она не перестала плакать, а просто подняла взгляд и в первый раз за все время разговора посмотрела ему в глаза. Римини повторил данное ей обещание по слогам, словно разговаривая с иностранцем. Вера чуть улыбнулась, кивнула головой, прижала платок – он всегда был с нею, с шести лет, – к раскрасневшемуся и даже чуть распухшему носу. «Я-те-бе-не-ве-рю», – сказала она, не переставая всхлипывать. «А я тебе клянусь», – сказал он, убирая влажную от слез прядь волос с ее лица. Подавив вырывавшиеся из ее горла рыдания, Вера спросила: «Ты серьезно?» – «Конечно», – сказал он, чувствуя, что сам вот-вот упадет в обморок. «Прямо сейчас?» – спросила его Вера.
Фотография, конечно, осталась в его доме, но теперь жила двойной жизнью: днем стояла среди книг и словарей и служила Римини всякий раз, когда ему требовалось разделить белый порошок на дорожки; ночная жизнь фотографии начиналась ровно с семи часов вечера, когда Вера нажимала кнопку домофона, – прежде чем пустить ее в подъезд, Римини прятал фотографию между страницами какой-нибудь явно давно не читанной книги, которая и в ближайшее время ему не понадобится, и убирал книгу вместе с задыхающейся фотографией на самую неудобную, труднодоступную полку книжного шкафа. Для Веры же все прошло гладко; как и было обещано, Римини в тот же день выбросил фотографию в мусорное ведро; все время, пока они с Верой кувыркались на кровати, не раздеваясь, и занимались любовью прямо на полу, преодолевая сопротивление одежды – всех этих молний, пуговиц, застежек, ремней и эластичных бретелек, – портрет Софии лежал в мусорном ведре вместе с картонными тарелками и остатками не доеденного ими обеда. Там его и обнаружил Римини, когда, проводив Веру, еще пошатываясь и дрожа, вошел в кухню, чтобы выпить чего-нибудь холодного; открыв дверцу холодильника, он зацепил и перевернул переполненное мусорное ведро – только это и напомнило ему о печальной судьбе фотографии, которую он тотчас же обнаружил в груде мятого картона и объедков. Первое, что поразило его в тот момент, – резкий, недопустимо резкий контраст между элементами композиции этого натюрморта: стекло и объедки, тонкая рамка и мусор, полноцветный снимок молодой, красивой и такой живой женщины и готовая начать разлагаться мертвая органика; было в этом что-то нездоровое, как в кошмарном сне. Преодолевая накатившую тошноту, Римини тотчас же вытащил снимок из груды мусора, причем так стремительно, словно секундное промедление могло стоить ему если не жизни, то по крайней мере смысла жизни. Итак, портрет Софии был спасен и сохранен – но не в порыве сентиментальности и не из чувства верности; скорее, Римини решил внести свои личные коррективы в то, что, как ему показалось, уже начало развиваться помимо его воли и желаний, – он вдруг почувствовал, что, сохранив у себя эту фотографию, получит серьезный козырь для развития дальнейших отношений с Верой, которые к этому времени достигли определенного энергичного равновесия, свойственного молодости, и теперь могли либо остаться в этом равновесии, либо начать крениться в ту или иную сторону, как-то эволюционировать; кроме того, ему не хотелось впадать в суеверие и становиться рабом той клятвы, которая была принесена им сугубо формально – ради успокоения расплакавшейся ревнивой девушки. Римини подумал: «Ни София, ни наше общее с нею прошлое не зависят от наличия у меня этой фотографии. Продолжение моих отношений с Верой находится в зависимости от нее. А еще от нее зависит что-то более важное и глубокое, чем мое прошлое с Софией и мое настоящее с Верой». Что именно было этим глубоким и важным, Римини в тот момент и сам не знал. Не пытаясь сразу разобраться во всех этих мыслях, он тщательно протер портрет, словно желая удалить следы нанесенной ему обиды, и через пять минут, уже сев за стол, чтобы вновь взяться за работу, в очередной раз ткнулся носом в стекло, чтобы втянуть заботливо и сноровисто приготовленную дорожку из белого порошка.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Это был самый вдохновенный период его жизни. Римини начинал работать часа в два пополудни, после позднего завтрака. За стол он садился голым, в состоянии какого-то беспричинного восторга и возбуждения. Книги, клавиши пишущей машинки, листы бумаги с черновыми вариантами перевода, даже сам письменный стол с истертой, не совсем ровной деревянной столешницей – все казалось ему живым, теплым, словно созданным из плоти, пронизанной миллионами нервных волокон и окончаний. Просто садясь на стул, он совершал роскошный мазохистский ритуал: рисунок деревянного сиденья отпечатывался на ягодицах, вертикальные прутья спинки впивались в поясницу… Римини ощущал себя центром какого-то сексуального катаклизма. Он открывал верхний ящик стола и доставал из него визитницу, где всегда лежал наготове пакетик с дневной дозой, затем из плена книжного шкафа освобождался портрет Софии. По ходу приготовлений к главному священнодействию его охватывал приятный зуд; аккуратно развернув фольгу, он высыпал на уголок часть порошка и затем, помогая себе легкими ударами, выкладывал его тонкими линиями на стекло, прикрывавшее фотографию. Восторг и возбуждение нарастали и принимали вполне знакомые, физически ощутимые формы – на положительные эмоции тело отвечало не только приятной ломотой и легким зудом, но и мощной эрекцией. Головкой напряженного члена он, сидя за письменным столом, мог легко достать до дна центрального ящика. Римини расправлялся с первой дорожкой – неизменно самой длинной за день, – и кокаин в считаные мгновения освобождал его голову от всего, что накопилось в ней с вечера предыдущего дня – с того часа, когда он принимал наркотик в последний раз за сутки. Это свойство – избирательное уничтожение прошлого – было одним из первых поразивших Римини эффектов кокаина. В отличие от марихуаны, которая, в силу отупляющей природы своего воздействия, всегда заставляет отвлекаться, думать о чем-то другом, – кокаин оказался абсолютно самодостаточным: он в буквальном смысле уничтожал все то, что не было им самим и не имело к нему отношения. Не столько ритуал, связанный с разворачиванием и разглаживанием фольги, не столько даже сам порошок – наркотиком в случае с кокаином был сам факт его приема. Не раз и не два за время своего почти полного заточения, которое длилось около полугода, Римини был готов отдать все, что угодно, за это счастье – не за то, чтобы ему достался порошок подороже и лучшего качества, а за то, чтобы «приход» был как можно более продолжительным, чтобы воздействие наркотика продолжалось как минимум до конца этого мира. Кокаин подчинил себе весь ритм жизни Римини: сутки он отсчитывал от первой утренней дорожки; он, как редактор, совмещал эту точку настоящего с последней аналогичной точкой, поставленной в прошлом, – точно так же он глядел в переводимую книгу и совмещал фразу, находившуюся перед глазами, еще не вскрытую, не вынутую из кожи родного языка скальпелем переводчика, – эту новую фразу он совмещал с последним предложением, переведенным накануне, с тем, которым он завершал рабочий день, когда звонил звонок домофона. Принимаясь за работу, воспринимая через призму испанского запахи и вкусы того языка, на котором была написана очередная книга, он отправлялся в долгую погоню за новым смыслом – иногда лежавшим на поверхности, а иногда стремительно ускользавшим; эта охота практически вслепую, эта ловля неведомого зверя требовала много сил – всякий раз, захлопывая очередной словарь и выходя из-за стола, Римини давал себе обещание, которое, естественно, так и не сдержал: раз и навсегда покончить с этим рабством, с этой каторгой – с переводами. Под конец работы эрекция спадала, приятный зуд и жжение вокруг ануса и мошонки ослабевало, и сначала легкая слабость, а затем и полное, хотя и временное, половое бессилие наваливалось на Римини, подменяя собой сексуальную мощь, знаменовавшую начало работы; постепенно вся та часть тела, что еще недавно испытывала столь приятный, побуждающий к действию зуд, обмякала и покрывалась холодной испариной. Римини переводил и вдыхал дорожку за дорожкой. Из-за стола он вставал только для того, чтобы сходить в туалет опорожнить мочевой пузырь – делал он это поспешно и нетерпеливо, многократно энергичными движениями встряхивая член и даже массируя сфинктер, чтобы ускорить казавшийся ему бесконечным процесс; порой он несколько преждевременно решал, что неприятное дело закончено, и слишком рано возвращался за письменный стол – этим объяснялось появление на деревянном полу то пары капель, а то и целых разводов; они могли появиться и в ходе короткой вылазки на кухню – такие вылазки Римини время от времени предпринимал, чтобы обновить бутыль с минеральной водой; воду он потреблял в огромных количествах, выпивая из горлышка порой по четверти бутылки одним глотком, и при этом все время страшно торопился, убежденный в том, что даже процесс утоления жажды – это бессмысленная трата рабочего времени. Иногда, переполнив себе желудок безвкусной, но столь необходимой в его состоянии жидкостью, он, не в силах стоять на ногах, с трудом добредал до стула. Ноги не то чтобы протестовали, не то чтобы отказывались ему повиноваться – они просто как будто засыпали; Римини обнаруживал это, когда ему по той или иной причине нужно было ими воспользоваться. Затем у него одновременно с ногами стали отказывать и ягодицы с гениталиями – Римини все более тяжело падал на стул и все больше злился на себя и свое непослушное тело, ожидая, пока ноги, ягодицы и гениталии проснутся и вновь начнут функционировать нормально. В какой-то момент ему стало страшно: он вдруг понял, что чувствуют – а вернее, чего не чувствуют – инвалиды-колясочники. Еще в детстве, выходя из школы и проходя по дороге домой мимо Института ортопедии, он часто наблюдал через проволочный забор, как люди в колясках неспешно катаются по дорожкам и даже играют в баскетбол на спортивной площадке. Пустота – вот слово, которым можно было описать это отсутствие ощущений. Не было ни боли, ни слабости – ничего. Одна лишь пустота. Римини был склонен считать, что этому временами наваливавшемуся на него параличу он обязан не столько потреблением наркотиков, сколько малоподвижным образом жизни: к счастью, пока что приступы не затягивались больше чем на несколько минут, и Римини казалось, что ему удается сократить это время отчаянной борьбой – он больно щипал себя, колол в бедра шариковой ручкой, а то и вовсе принимался хлестать по ним длинной пластмассовой линейкой, пожалуй, единственным предметом, сохранившимся у него в пользовании еще со школьных времен. Время от времени на него накатывала какая-то странная сонливость и апатия; на первый взгляд проблема была не столь серьезной, как периодический паралич нижней части тела, но Римини был обеспокоен приступами этой вялости куда больше: он понимал, что какая-то напасть действует на его центральную нервную систему целиком. Чем-то это состояние походило на ступор или же онемение органа, к которому применяется местный наркоз: вроде бы чувствительность к внешним раздражителям до конца не теряется, но кто его знает, как поведет себя та или иная часть тела при таком обезболивании, если от нее вдруг потребуется полноценная реакция и активная деятельность. Эти неприятные эффекты были для него не в новинку: Римини уже испытал их – буквально с первого же раза, когда, вдохнув дорожку, собрал подушечкой пальца остатки порошка и втер его в тотчас же онемевшие десны. Эту операцию он проделал, подражая тому, что видел много лет назад: так поступал один его бывший начальник, публицист, но при этом еще и писатель, а главное – редактор и издатель писателей-сирот, как он имел обыкновение представляться окружающим. Этот человек остался в памяти Римини как первый во многих отношениях: он был не только первым, кто принимал наркотики в присутствии молодого Римини, но и первым, кто стал носить на работу мокасины и писать в манере ретро – перьевой ручкой «Монблан»; да, в этом он был тогда, когда Римини с ним познакомился, – году в семьдесят седьмом или семьдесят восьмом, то есть в самом начале военной диктатуры, – несомненным пионером. После того как Римини по его примеру натирал остатками кокаина десны, он не мог выпить воду из бутылки, не пролив половину между не закрывающихся непослушных губ, – ему приходилось приноравливаться и, запрокинув голову, пить крохотными, не больше чайной ложки, глоточками, как больному. Римини, надо сказать, готов был приписать эти неудобства каким-то особенностям или отклонениям, подлежащим лечению в одонтологической клинике, но никак не свободному, принятому по собственной воле решению стимулировать свой организм и, главное, – разум: впрочем, проливать воду за шиворот и утолять жажду по капле оказалось настолько неудобно, что Римини довольно быстро покончил с практикой натирания десен кокаином, все же признав ее порочной. Тем не менее именно благодаря этой практике Римини понял, каков механизм воздействия кокаина на его тело. Оказалось, что воздействие это во многом противоречиво и даже парадоксально: с одной стороны, кокаин придавал ему гиперактивность, вскрывал в нем неистощимые запасы энергии, позволял сосредоточиться на чем-то важном и помогал собрать в кулак силу воли, чтобы преодолеть все препятствия и воспользоваться всеми возможностями, предоставляемыми человеку в данный конкретный момент времени; с другой – наркотик провоцировал потерю чувствительности, неподвижность, апатию и к тому же притуплял реакции на внешние раздражители. Ознакомившись с этим двойственным эффектом на примере собственных десен и губ, Римини без труда обнаруживал симптомы точно такого же воздействия кокаина на другие органы тела, которые могли и не соприкасаться с белым порошком напрямую. Итак, он принимал наркотики и переводил. Вдыхал дорожку за дорожкой и переводил, переводил, переводил… Его плоть, кости, кровь, все его тело, казалось, было частью какого-то особого пространства – древнего и в то же время вневременного, возвышенного и безграничного; в этом пространстве сложность все еще была достоинством и вещи оценивались исходя из меры их разнообразия. С кокаином же все вокруг становилось гладким, ровным, разнообразие пропадало – оставалось лишь расслабиться и предаться блаженному порыву вдохновения, пожиравшему фразу за фразой, страницу за страницей, час за часом. Вот только тело время от времени подводило Римини: не давая насладиться творчеством, оно то появлялось, то исчезало – по своему усмотрению, без какой-либо системы. Пока Римини испепелял слово за словом, пока переводил со скоростью метеора, проносящегося в ночном небе, все шло хорошо. Но стоило ему отвлечься, как этот космический полет прерывался и Римини спускался с небес на землю – желая не просто справиться с тем или иным трудным местом, но пережевать текст, уничтожить его без остатка и затем воссоздать на новом языке, в новом обличье, да так, чтобы он при этом оставался самим собой; это задача поглощала Римини целиком, и он приходил в бешенство, когда тело напоминало ему о себе – это всегда происходило неожиданно. Тело была территорией давно и хорошо знакомой, но покинутой и заброшенной; по крайней мере, пока все шло хорошо и одна переведенная страница ритмично накладывалась на другую, Римини о своем теле даже не вспоминал; есть оно у него или нет, будет ли оно его слушаться – все это было ему не важно до тех пор, пока он шелестел страницами словарей, рылся в справочниках по словоупотреблению, глоссариях языковых трудностей и в собственных черновиках, пытаясь одолеть тысячью способов какое-нибудь трудное предложение, сопротивлявшееся упорнее предыдущего – схваченного, поглощенного и переваренного; вдруг, в разгар этой гонки, этого сражения, Римини начинал ощущать свои ступни, лодыжки, голени, колени… При этом, по мере того как к его нижним конечностям возвращалась чувствительность, он ощущал, как на него накатывает волна страха: всякий раз он боялся, что ноги, которые вновь обрели способность воспринимать внешние раздражители, возьмут да и откажутся ему служить, бессильно подвернутся, как только он попытается на них встать. Он протягивал руку к своему члену и осторожно прикасался к нему, желая удостовериться, что его драгоценность на месте и с нею ничего не случилось, – так тянется к карману человек, которому кажется, что его только что обворовали. Нащупав член, Римини неизменно задавался вопросом, должно ли его мужское достоинство быть таким – маленьким и мягким; он поглаживал его пальцами, приподнимал крайнюю плоть, задирал член повыше и ронял его на кромку стула. Да вроде бы все нормально – все, что нужно, он чувствовал и воспринимал, но – воспринимал так, как человек воспринимает разговор на совершенно не знакомом ему иностранном языке: чертеж диалога, его грубая схема угадываются вполне точно, но детали и, главное, скрытые пружины, приводящие его в действие, остаются за рамками восприятия; точно так же сам Римини когда-то, лежа ничком на хирургическом столе и получив полагающуюся ему дозу анестезии, вдруг почувствовал острие игры или какого-то другого хирургического инструмента, избавлявшего его от кисты чуть ниже основания черепа. Как всегда неожиданно, он вспоминал о том, что вечером к нему должна зайти Вера. Римини встревоженно смотрел на часы: никогда не поздно, но и слишком рано тоже не бывает. До появления Веры оставалось три-четыре часа – два или три уже прошло с тех пор, как он сел переводить и нюхать кокаин; таким образом, он задумывался о том, не лишился ли его член работоспособности в результате приема стимулятора, в середине смены. Часа в четыре пополудни он начинал мастурбировать – в четыре, но никак не позже половины пятого. Он уходил в ванную и, стоя перед унитазом, – эта поза была не самой комфортной для мастурбации, но самой подходящей для того, что приходилось делать по окончании ее; кроме того, ему казалось, что сперма имеет довольно тесную степень родства с экскрементами и нет ничего зазорного в том, чтобы смыть ее в канализацию, – прислонялся спиной к стене и начинал насиловать дохлую вялую рыбешку, – он готов был отдать все на свете, чтобы вернуть ей гордое имя «член». Некоторое время спустя Римини, запыхавшийся, напуганный и неудовлетворенный, возвращался за письменный стол, вновь проверял время и не глядя вытаскивал из книжного шкафа карманное издание «Тысячи и одного члена» – одного из немногих сувениров, оставшихся у него со времен работы в рекламном агентстве под началом того самого – нюхавшего кокаин и носившего мокасины. Римини в те годы почему-то всегда выпадало работать в рекламных кампаниях, либо обреченных на провал, либо проваливавшихся совершенно неожиданно; кроме того, ему поручали редактировать сценарии клипов и заказных фильмов, которые так никогда и не были сняты. Самым творческим делом в том рекламном агентстве было изобретение, по настоянию директора, товаров и услуг, предназначенных для удовлетворения несуществующих потребностей. Какое-то время, вдохновленный не то деловыми, не то творческими соображениями, директор-неформал пребывал в уверенности, что сумеет просветить свой народ, а заодно и заработать много денег, если обеспечит читающую публику переводными карманными изданиями классики мировой порнографической литературы. Такие книги, как «Тысяча и один член», он собирался продавать через сеть газетных киосков мелким оптом – по три штуки, завернутыми в непрозрачный пакет. Римини шел обратно в ванную комнату. Он перелистывал наизусть известную ему книгу, стремясь поскорее найти страницы, сексуальная составляющая которых не была сведена на нет общим комизмом; уткнувшись взглядом в нужный абзац, он вновь принимался себя массировать, дочитывал страницу до конца и продолжал сеанс самоудовлетворения до логического финала – захлопывая книгу лишь после эякуляции. Вскоре Римини понял, что фраза, предваряющая сцену оргии – оргии предается вице-консул Сербии на втором этаже дипломатической резиденции, а главный герой становится ее участником, даже не получив официального приглашения: «Подойдя к воротам консульства Сербии, Мони в свое удовольствие помочился на фасад здания и лишь затем позвонил в дверь», – что эта фраза стала для него своего рода паролем, пропуском в мир чувственных наслаждений – как и для персонажей книги – и знаменовала собой возрождение сексуального влечения и, ни больше ни меньше, воскрешение его мужского достоинства. Он начисто, чтобы, не дай бог, не упустить ни единой крохотной капельки, вытирал стульчак и крышку унитаза сложенной в несколько слоев туалетной бумагой и садился за письменный стол, стараясь поуютнее и поудобнее устроить свое натруженное хозяйство; при этом он с восторгом отмечал про себя, что его член полностью работоспособен и, более того, – даже опадает не сразу после эякуляции, а следовательно, располагает значительным запасом сил и энергии. Затем Римини склонялся над книгой и возвращался к трудному месту, которое заставило его прервать работу, – нужную строчку он обычно отмечал той самой пластмассовой линейкой, которой наотмашь лупил себя по ногам; после перерыва все трудные места в книге щелкались как орешки: ощущение было такое, что за то время, пока он был занят другим делом в туалете, кто-то успел подредактировать текст, причем с единственной целью – облегчить работу переводчику. Одержав очередную маленькую профессиональную победу, Римини праздновал ее, а заодно и начало новой фазы трудового дня – уже, впрочем, отмеченное актом эякуляции – тем, что занюхивал две дорожки подряд; первую он втягивал правой ноздрей, а вторую – левой и тотчас же снова зависал над пишущей машинкой. После этого он полтора часа переводил, не отвлекаясь ни на секунду; что там полтора часа – он готов был сидеть за столом не вставая сколько нужно, годами, веками. Здесь кокаин был даже лишним. В состояние, подобное наркотическому опьянению, его вводил сам процесс перевода – эта страсть, это желание, эта жажда. Все, что Римини знал о наркотиках, – а знал он не то чтобы много, но и немало для новичка, – он знал, оказывается, до того, как познакомился с кокаином: все это он испытал за годы работы переводчиком. Именно переводы стали его школой наркомании. Задолго до того, как Римини впервые склонился над кокаиновой дорожкой, ему уже довелось ощутить это сладостное просветление: еще подростком по воскресеньям, когда, пригревшись на весеннем солнышке, его друзья выходили на улицы и площади в одежде тех же цветов, что и форма их любимой футбольной команды, он запирался в комнате, закрывал шторы, настраивал приемник на волну, где в прямом эфире передавали репортаж с самого важного матча очередного тура, и, оставаясь в кровати – подобно уже совсем ослабевшему чахоточному больному, – глотал книги одну за другой, причем не как читатель, а уже как переводчик. Прочитывая очередную книгу, он одновременно уничтожал ее и при этом отдавался ей, подчинялся какому-то таинственному зову, звучавшему с каждой страницы; чья-то воля требовала от него впиваться в эти строчки, выгрызать их из одного языка и покорно, как послушная собака, нести к ногам другого. Уже тогда Римини нащупал и почувствовал ту поворотную точку, после которой перевод превращается из свободно выбранной профессии в повинность, в долг, в исполнение приказа, зашифрованного в каждой книге на иностранном языке. Все эти статьи, рассказы, стихотворения были в его глазах узниками долговой тюрьмы, где они томились, будучи не в силах оплатить неизвестно откуда взявшийся чудовищный долг; и ему предстояло выкупить этих безнадежных должников из рабства, заплатив переводом. Так он и переводил – для того, чтобы рассчитаться с чужими долгами, сбросить с должника оковы, освободить его и поставить на ноги в новом мире; вот почему работа переводчика предполагала, с точки зрения Римини, и немалые физические усилия, а также самопожертвование, умение подчиняться и невозможность отказаться от какой-нибудь неприятной, но обязательной работы. Его частенько спрашивали, в основном друзья родителей, трудно ли переводить книги. Римини терялся и не знал, что ответить, – и в конце концов отвечал, что переводить нетрудно, мысленно разводя руками и говоря самому себе, что, в общем-то, трудно это или нет, не имеет ровным счетом никакого значения. Его спрашивали, как получилось, что он решил стать переводчиком, и Римини пытался объяснить, что переводчик – это не тот, кем становятся, а тот, кем невозможно перестать быть. Уже тогда, в тринадцать-четырнадцать лет, имея за плечами небольшой, но яркий и интенсивный опыт, он столкнулся с тем, с чем рано или поздно сталкивается любой его коллега: перевод становится образом жизни, ты начинаешь переводить постоянно, двадцать четыре часа в сутки, и не только заказанные тебе книги, но и все вокруг; больше нет ни рабочих, ни выходных дней, и, лишь собрав в кулак всю силу воли, ты можешь на короткое время вырвать себя из пасти всепожирающей машины того со-творчества, которое именуется переводом. За выходные, с десяти-одиннадцати вечера пятницы до раннего утра понедельника, когда нужно было вставать, одеваться и, шатаясь от бессонницы, брести в школу, свалив наугад в портфель учебники, словари и тетради, Римини мог перевести целую книгу, причем результатом работы был не черновик – полуфабрикат, исчирканный вариантами и пестрящий знаками вопроса по поводу трудных мест, но окончательная, полностью готовая к печати версия. Он работал, практически не вставая из-за стола, все выходные. Уже тогда, еще не ведавший, что такое наркотики вообще и кокаин в частности, он понял, что любой отвлекающий момент, любой звук, звонок телефона или звонок в дверь, даже необходимость поесть или сходить в туалет, присутствие любого человека, будь то мать или ее новый муж, которые, измученные истериками Римини и внявшие его мольбам, по выходным появлялись дома все реже и реже, предпочитая проводить их на даче, – любое вмешательство внешнего мира в работу мгновенно выводило его из себя. Звонил телефон – и Римини начинал выть в своей комнате. Стоило на кухне заверещать домофону – он швырял вещи на пол и изо всех сил пинал мебель. В общем, спустя двадцать лет кокаин фактически не добавил к его опыту ничего нового – разве что обогатил его новыми оттенками и формализовал некоторые ощущения и мысли; кроме того, лишь столкнувшись с кокаином, Римини осознал, что перевод, по сути дела, тот же наркотик, дающий удовольствие и радость, но в то же время неизбежно вызывающий стойкую, болезненную и пугающую зависимость. Каждая книга начиналась и рано или поздно заканчивалась – точно так же начинались и заканчивались в подростковые годы выходные, посвященные переводам; это как обратный отсчет: каждая переведенная фраза, каждый час, потраченный на перевод, неумолимо сокращали время и расстояние, отделявшие его от финальной точки. Десять, девять, восемь, семь, шесть… Все, нужно заканчивать. Но спустя полтора часа стимулирующий эффект очередной дорожки начинал ослабевать, повинуясь могучей силе организма, готового к бесконечным циклам самоочищения; и Римини, который ощущал естественную в такие минуты слабость, помноженную на усталость от долгой работы, вновь начинал испытывать острое чувство страха. До прихода Веры оставалось два часа, а у него между ног вновь была пустота – в то время как еще недавно его руки, смутно отраженные в желтом кафеле на стенах ванной комнаты, могли, действуя привычно и умело, не только возбудить его, но и заставить негромко застонать от удовольствия. К чувству онемения, которое вызывал кокаин, добавлялось теперь ощущение восторженной разрядки и блаженной умиротворенности. Вот если бы Вера пришла пораньше… Он представлял ее в спальне, ждущей и зовущей его, – и машинально начинал искать свой член, чтобы установить более надежную связь между образом этой женщины и желанием, которое дремало где-то на дне бездонной пропасти. Он искал, искал и искал, а секунд через десять после начала поисков обнаруживал, что вот уже некоторое время держит член в руке. Он с ужасом осознавал его невесомость. У него пересыхало во рту, а все тело начинала бить мелкая дрожь – как в лихорадке. Римини на ощупь хватал «Тысячу и один член» и вновь устраивался в ванной; некоторое время он не столько мастурбировал, сколько поглаживал и массировал гениталии, словно бы перед тем, как предаться удовольствию – он, впрочем, боялся его в итоге не получить, – ему требовалось заново познакомиться с органами, которым предстояло участвовать в мероприятии. Но вот «Вибеску медленно приблизился к ней и, скользнув своим прекрасным членом между полными ягодицами Миры, вставил его во влажное, чуть приоткрытое отверстие девушки», и Римини уже чувствовал, как то, что только что напоминало вялую, бесформенную глину, начинает обретать объем и вздрагивает от притока невидимой, но вполне ощутимой внутренней силы. С этого мгновения ему требовалось десять-пятнадцать минут для того, чтобы превратить это едва уловимое подрагивание и напряжение в убедительную эрекцию; еще с четверть часа он тратил на то, чтобы добиться результата, и делал это, уже не принимая тех мер предосторожности, что в предыдущий раз: не целясь в жерло стульчака, он энергично доводил себя до эякуляции, разбрызгивая сперму как придется – на стульчак, на кафель, на гранитные плитки у основания унитаза. В конце концов, что ему стоило стать на четвереньки и хорошенько протереть весь пол в ванной, а заодно и стены, не говоря, конечно, об унитазе и крышке унитаза; все это не шло ни в какое сравнение с полученным удовольствием, щекочущим нервы страхом перед тем, что Вера, упаси бог, обнаружит где-нибудь маленькую, засохшую, безошибочно определяемую капельку, и осознанием того, что никакие безумства и излишества, которые позволяли себе герои «Тысячи и одного члена», не могли возбудить его так, как Вера, которой удавалось превратить его еще недавно полупарализованное тело в нормально функционирующий организм. Это нужно было отметить – Римини возвращался к ждавшим его на стекле кокаиновым дорожкам, и страх рассеивался. Теперь нужно было готовить новые дорожки, причем немедленно – естественно, не для того, чтобы тотчас же вынюхать весь кокаин, а для того, чтобы знать, что в случае необходимости они будут так же его ждать, а главное – чтобы стекло, прикрывающее портрет, не оставалось пустым: ничто не могло быть большей помехой для Римини, когда он переводил. Развернув фольгу очередной упаковки и высыпав горку белого порошка на стекло, Римини вдруг с ужасом осознавал, что холмик, закрывший на этот раз, например, правый глаз Софии, представлял собой весь кокаин, который был в его распоряжении. Много его было или мало – Римини и сам сказать бы не смог. Кокаин не давал ему выбора: он либо был у Римини весь – весь тот, что он только что купил, будь то один грамм или десять, на тридцать долларов или на триста, – с блаженным ощущением обладания всем кокаином Римини обычно выходил от своего дилера, из маленькой квартирки в глубине квартала на углу улиц Ривадавья и Блунес, неизменно освещенной холодными лампами дневного света и обставленной дешевыми креслами и столами из желтого простецкого дерева, пользование которыми обычно включают в стоимость аренды столь же недорогого жилья; либо кокаина не было совсем – с этим Римини, неизменно потрясенный, сталкивался обычно часов в шесть, иногда ближе к половине седьмого вечера; при этом он никак не мог привыкнуть к тому, что доза, которую он высыпал с утра на стекло портрета, исчезала словно в одно неуловимое, кошмарное мгновение – будто бы это не он вынюхал ее дорожка за дорожкой в течение дня, а она испарилась сама по себе. Количество имевшегося в его распоряжении наркотика представлялось Римини релевантной величиной, чем-то, что могло изменить его настроение и даже физическое состояние, только когда оно уменьшалось до угрожающего: вот здесь он точно понимал, до какого момента он может быть спокоен и уверен в том, что имеющийся кокаин не закончится никогда. Количество всегда было вопросом, догонявшим Римини из прошлого; отвечая на него, он был вынужден соотноситься с будущим – заранее задумываться, что делать, когда ежедневная доза закончится. Что делать. Сходить купить еще – об этом не могло быть и речи. Через час, может быть, даже раньше придет Вера, а Римини никогда не употреблял кокаин в ее присутствии. Он просто не вынес бы такой пытки – иметь грамм кокаина в своем распоряжении, знать, что заветный пакетик лежит в верхнем ящике стола, и не иметь возможности воспользоваться им. Что делать. Можно было разделить остаток, чтобы получились дополнительные дорожки, более короткие и тонкие, и занюхивать их через более или менее регулярные промежутки времени – это давало шанс худо-бедно перебиться в течение последнего часа работы и ожидания, отделявшего его от прихода Веры. Можно было, наоборот, разделить оставшийся кокаин на две внушительные дорожки и покончить с ним в один присест, получив самый сильный приход за день. Римини, не в силах выбрать раз и навсегда более подходящий для себя вариант, чередовал их. Разделив кокаин на множество маленьких дорожек, он вынюхивал первую из них и, безусловно оставаясь неудовлетворенным, – его желание интенсивно вдыхать кокаин находилось в обратно пропорциональной зависимости от количества белого порошка, еще остававшегося на портрете Софии, – вновь принимался за работу; перевод, тот же, по сути своей, наркотик, вроде бы на время чудесным образом усиливал и растягивал кокаиновый эффект. Но даже в этом случае долго обманывать организм не удавалось: воздействие коротких, скудных дорожек продолжалось меньше обычного, и интервал между их приемом становился с каждым разом все короче; в итоге Римини, вынюхав все за какие-то полчаса, убеждался в том, что с точки зрения перевода потратил это время не самым продуктивным образом: ему удавалось перевести едва тридцать строчек, максимум страницу, и почти всегда в тексте потом обнаруживалось множество самых разных ошибок и опечаток, не говоря уже о неточно подобранных синонимах и эквивалентах, – эти куски приходилось основательно перерабатывать, а то и переписывать на следующий день. Иногда Римини чертил белым порошком на стекле портрета запретную магическую гексаграмму, втянув носом которую он как одержимый мчался в ванну, чтобы совершить ритуальное омовение. Там, уже стоя под душем, он прочищал нос от остатков кокаина, вымывая последние следы наркотика теплой водой с мылом – особое внимание этой процедуре он стал уделять с тех пор, как Вера однажды в порыве страсти прошлась кончиком языка по внутренней поверхности его ноздри; больше всего на свете он не хотел, чтобы она вдруг почувствовала горький вкус кокаина, который однажды по наивности приняла за новокаин. Ритуал включал в себя мытье с мылом не только носа, но и всего тела, с головы до ног; при этом Римини массировал себе мышцы, до которых мог дотянуться, возвращая их к жизни и избавляясь от обездвиживающего анестезирующего воздействия кокаина. Особое внимание он уделял тем частям тела, которые, как ему казалось, будут востребованы больше других при встрече с Верой: в первую очередь он тщательно отмывал медленно двигавшиеся руки, которых словно кололи изнутри тысячи крохотных булавок; затем – губы и кожу вокруг рта, которая казалась высохшей и безжизненной, а мускулы под нею были настолько напряжены, что Римини с трудом удавалось растянуть губы в подобие улыбки; затем наступала очередь тяжелого, едва ворочающегося языка и, конечно же, детородного органа, который безжизненной, вялой колбасой лежал у него в руке, не подавая никаких признаков жизни. Римини, словно в нерешительности, начинал массировать его, поначалу легко и словно бы без какой-то особой цели, рассчитывая, что стимулирование, подкрепленное массажным эффектом душевой струи, сумеет вернуть этому куску плоти былую активность; постепенно он увлекался и, понимая, что без усилий оживить на глазах отмирающий орган у него уже не выйдет, принимался трудиться над ним всерьез, применяя по ходу процедуры и контрастный душ, и мыльную пену. В итоге, после примерно двадцати минут отчаянных усилий, ощущая неприятное жжение в тех местах, где истерзанная крайняя плоть и головка члена соприкасались с мылом, ему удавалось выдавить из своего сокровища три-четыре капли ненормально густой спермы, казавшейся почти серой на фоне белоснежной пены; несколько секунд эти капельки лежали неподвижно на растянутой коже между расставленными большим и указательным пальцами руки Римини, а затем их смывало струей воды из душа. Делить ли последнюю порцию кокаина на маленькие дорожки или вдохнуть ее всю разом, добившись хотя бы на время желанного бодрящего эффекта, – в любом случае, зная о том, что больше в его распоряжении кокаина нет, Римини уже толком не мог продолжать работать. В обоих этих случаях следующим номером программы снова оказывался душ и, разумеется, очередной акт мастурбации, совершаемый буквально за считаные минуты до прихода Веры и оттого вечно торопливый, суетливый и тревожный. Эти жалкие, даже на вид безжизненные капельки спермы и, главное, эрекция, пусть и запоздалая, но зато полноценная, – наполняли Римини ощущением присутствия в нем полноценной жизненной силы: он радовался как ребенок и ощущал себя как человек, только что выполнивший тяжелую, но полезную физическую работу или закончивший изматывающую, но осмысленную спортивную тренировку. Римини выходил из ванной, обернув бедра полотенцем, ложился прямо на деревянный пол гостиной, рядом с колонками музыкального центра, и включал музыку. Он не слушал ее, а позволял звуку окутать себя многослойным одеялом и даже распластать своей тяжестью, что, пожалуй, гораздо точнее соответствовало его состоянию, особенно учитывая громкость звучания. Это был квинтет недоношенных ублюдков, а их альбом занимал верхнюю строчку в рейтинге продаж по версии радиостанции, ориентированной на слушателей-быдло в большей степени, чем все остальные, которые ловились на приемнике; утробные мелодии проникали в тело и затем прямо в самое сердце Римини, минуя органы слуха, – слова же он невольно заучил наизусть и подпевал, сначала негромко, себе под нос, а затем и в полный голос, как будто бы тем самым борясь с тем, что слышал; в какой-то момент он входил в раж настолько, что начинал барабанить пятками об пол, рискуя нанести себе травму, а попутно и вызвать гнев соседей – такое, кстати, однажды уже случилось: сосед снизу не поленился подняться и постучать в дверь его квартиры с тем, чтобы высказать все, что он думает по поводу этого шума; но вот наконец солнце спускалось к горизонту, полоска неба за окном окрашивалась в предзакатные розово-фиолетовые тона, домофон издавал свою трель, и Римини, распростертый на полу, радостно говорил себе: «Это она. Это Вера».