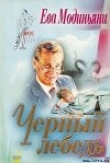Текст книги "Прошлое"
Автор книги: Алан Паулс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 37 страниц)
Оказалось, что он помнил ее во всех смыслах «более»: более бледной, более крупной, более грозной. Надо сказать, так ему запоминались многие люди и явления – не только Фрида Брайтенбах. Впрочем, и сейчас она, несмотря на слабость после перенесенного обморока, выглядела весьма величественно, – приложив немало усилий, ей удалось убедить сначала Софию, а затем и медсестру приподнять изголовье кровати таким образом, чтобы, общаясь с людьми, она не смотрела все время снизу вверх, как неизлечимо больная; годы брали… нет, не брали свое: Фрида стала не ниже, но суше и изящнее; морщины лишь придали ее лицу значительности и суровости, а глаза так и остались живыми, выразительными и цепкими – скрыться от этого взгляда, несмотря на то что один из глаз Фриды заплыл от удара о ванну, было просто невозможно. Римини тотчас же вспомнил, что Фрида присутствовала в его (в их общей с Софией) жизни все долгие двенадцать лет, и все эти годы он был вынужден находиться в состоянии полной боевой готовности – восхищаясь ею, не принимая ее и не зная, как вести себя в ее присутствии. Вот и сейчас она оставалась самой собой: из тяжелейшего состояния ее вывели врачи, медсестры и медицинское оборудование – все это никогда не вызывало ее доверия и было для нее всю жизнь объектом борьбы; но она не потеряла присутствия духа и предстала перед Римини все тем же Буддой в женском обличье, все тем же божком, который год за годом, оставаясь неподвижным центром бескрайней галактики бесчисленных страждущих, осенял своим присутствием долгие посиделки в квартире на улице Видт.
Римини заглянул в палату и успел рассмотреть Фриду чуть раньше, чем она заметила его; в эту секунду ее гораздо больше интересовала София – наставница одарила ее все тем же презрительным и в то же время полным упрека взглядом, которым, на памяти Римини, она неоднократно испепеляла, как молнией, своих верных учеников и даже – в случае непростительного нарушения дисциплины – кое-кого из пациентов; многие, почувствовав на себе этот взгляд, на долгие месяцы, словно заколдованные, оказывались в полном, почти рабском подчинении у госпожи Брайтенбах. «Могу я узнать, где все это время…» – раздался в палате такой знакомый голос, и Римини понял, что сейчас Софию просто расстреляют упреками, руганью и оскорблениями, если он не вмешается. Больно ударившись об угол кровати, он занял позицию в поле зрения Фриды; на долю секунды он оказался в самой опасной зоне – в прицеле ее гнева. Продолжалось это недолго – мгновение, даже меньше; затем Фрида, судя по всему, узнала его – недовольная гримаса, искажавшая ее лицо, каким-то непостижимым образом превратилась в широкую улыбку, и больная призывно подняла руки, желая незамедлительно обнять гостя. «Дорогой мой», – задыхаясь от нахлынувших эмоций, произнесла она, едва не задушив при этом и Римини; тот, вяло сопротивляясь, был вынужден крепко обнять матрас по обе стороны от Фриды и с извращенной страстью впиться пальцами в больничные простыни. «Дорогой ты мой», – повторила Фрида, отодвигая Римини от себя, чтобы рассмотреть его получше. Он почувствовал запах тех самых кисловатых и влажных духов, облаком которых окутала его София тогда, два года назад, целуя прямо посреди улиц. «То, что ты развелся с этой мымрой, еще не дает тебе права забывать обо мне». Вдруг, словно вернувшись к реальности и осознав, что выглядит не лучшим образом, Фрида решила пококетничать – так, как она это понимала. «Ладно, уходи, не смотри на меня, – сказала она, прижимаясь к подушке ушибленной стороной лица. (Римини, кстати, в полумраке палаты толком и не обратил внимания на ее синяк.) – Я, наверное, выгляжу чудовищно». – «Болит?» – спросила София. «Нет, – ответила Фрида. – Ничего не чувствую. Ни боли, ничего. Может быть, так она и начинается, смерть? Иди-ка сюда, – позвала она Римини, протянув к нему руку. – И позвольте спросить, молодой человек, где вы пропадали все это время?» Римини присел на краешек кровати. Ответила за него София: «У него скоро ребенок родится». – «Это еще что за глупости? – сказала Фрида, ласково гладя Римини по щеке. (Ему вдруг стало не по себе: ощущение было такое, словно для Фриды они слились в некое двуединое существо, голосом которого была София, а телом – Римини.) – Ребенок? Чей? И что ты с ним будешь делать? Такой молодой, умный, красивый… Неужели ты хочешь все разрушить из-за какого-то ребенка?» Фрида судорожно схватила Римини за руку, и в ее глазах он увидел нездоровый блеск. Она откинулась на кровать и захрипела, словно задыхаясь. «Позови медсестру, – сказала она. София потянулась к кнопке звонка, но Фрида вновь напустилась на нее: – Иди и позови медсестру, я кому сказала! Вот ведь дрянь какая. Никогда меня не слушается!» Фрида уже перешла на крик. Спорить с ней, когда она была в таком состоянии, не имело смысла; кроме того, она начала судорожно кашлять. Едва София скрылась за дверью, как Фрида подняла голову и, впившись глазами в Римини, произнесла: «Вы ведь были такие красивые. Такая замечательная пара. Сколько вам тогда лет было? Семнадцать? Восемнадцать? Я хорошо запомнила, как София в первый раз привела тебя ко мне домой. Я еще тогда подумала – они такие красивые, что это просто невыносимо, следовало бы изувечить их, чуть-чуть, самую малость, чтобы ценили друг друга больше. Вот ведь дура. Почему я этого не сделала? Вы бы тогда ни за что не расстались. Истечь правой кровью за правое дело в нужную минуту – вот секрет бессмертия во всем, включая любовь. Пожалела я вас, пожалела. Красота – моя слабость, так всегда было и будет, такая уж у меня карма. Но вы – вы просто преступники! Что вы наделали! Вы, видите ли, решили стать… нормальными. Это вы-то нормальные? Вы решили разрушить свой мир, проткнуть капсулу, в которой жили. Свежим воздухом им, видите ли, подышать захотелось. Свежей любви… Убожества. Посредственности. Да какое вы имели право?! Вы же были частью всемирного наследия. Будь наше общество справедливым, или не справедливым, а, скажем, разумным, – молодые долго оставались бы рабами старых: они жили бы у старших в подчинении, ловили бы их взгляды, исполняли капризы, терпели бы все, даже насилие, – до тех пор, пока их самих не начнет разъедать ржавчина. И вот тогда, только тогда они становились бы свободными. Свобода. Да, только тот, кто гниет изнутри, может быть свободен. Сколько тебе сейчас лет? Тридцать? Тридцать два? Поздно. Слишком поздно». Фрида закатила глаза и стала бить Римини в грудь обеими ладонями: «Что же ты сделал со своей жизнью? Да как ты мог? Ты же все потерял! Вы оба растранжирили все, что вам было дано! И вот теперь ты решил обзавестись ребенком – думаешь, он поможет тебе обрести вторую молодость? Думаешь, ты снова заживешь по-настоящему? Жалко мне тебя, идиота. Вот скажи, ради чего ты от всего отказался? Ради ребенка? Так детей – их не бывает, слышишь меня? Детей не бывает. Есть плод – это когда еще остается время раскаяться и передумать; и есть паразиты, это когда что-то менять уже поздно. Хочешь знать, на каких скрижалях будут начертаны ближайшие годы твоей жизни? На груди твоей жены. На ее сосках. Поверь, плоть не лжет. Эта плоть и есть твой гороскоп. Попомни мои слова. Плоть иссыхает, слышишь, Римини? Видел, какой становится слива, когда ее сушат на солнце? То, что было мякотью, становится прахом. То, что было кожей, сморщивается и рвется. Целовать, сосать будет нечего, слышишь, Римини. Вот тогда-то ты и задумаешься – а как же жизнь, где она, куда ушла? И выяснится, что жизнь у тебя украл твой ребенок. Господи, да как же вы могли… Ты ведь и сейчас красивый и необыкновенный. До сих пор можешь сойти за юношу. Но меня не обмануть – я-то помню тебя по-настоящему молодым. Римини, я ведь наслаждалась твоей молодостью. Я вкушала ее. Сколько раз, когда гости расходились, я оставалась в кресле в гостиной, измученная, уставшая, снимала туфли и начинала вспоминать – в первую очередь вас: ты входил в квартиру – такой элегантно одетый, чуть старомодный, почему-то стесняясь и всегда словно прячась за Софию; и София всегда разрешала тебе прятаться за нею и не просила ничего взамен. У нее удивительно мягкая кожа, лучшая, какую я видела. И вот, вспоминая вас, я чувствовала, что расслабляюсь, проминаюсь под собственным весом, как охапка соломы, брошенная на кресло; я полусидела-полулежала в какой-нибудь хламиде с засученными рукавами, вокруг все было заставлено грязными тарелками, пепельницами, полными окурков, пустыми стаканами; повсюду валялись мятые салфетки с пятнами шоколада, кофе, губной помады – печальные свидетели так и не состоявшейся оргии, в которой вы, два ангела, были моими идолами, моими побегами, моими свежими ростками, которые я мысленно пожирала в свое удовольствие».
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Но в ту ночь ребенок все-таки родился – крохотная, блестящая, словно смазанная жиром зверушка, сморщенная, как чернослив; сначала между ног матери появилась крохотная головка, а спустя несколько секунд с какой-то не земной, но подводной легкостью все тельце словно само скользнуло в руки акушерке; Кармен, одурманенная обезболивающими препаратами, кричала в полный голос, требуя показать ей ребенка, если он родился живым; малыша же тем временем передавали с рук на руки, как какую-то очень хрупкую, обладающую магическими свойствами и потому очень опасную вещь; наконец он оказался в руках невысокого и, как показалось Римини, слегка подвыпившего мужчины, под ответственностью которого ему и предстояло находиться последующие тридцать пять дней – в реанимации, под прозрачным колпаком из оргстекла, под красноватой (какого-то марсианского цвета) лампой размером в два раза больше его головы. Малыш не плакал, а Римини был настолько потрясен, что даже не сообразил спросить почему. Римини не пошел за неонатологом, унесшим младенца, боясь пропустить что-то важное здесь, в родильной операционной, что должно было произойти дальше в соответствии с ритуалом, – что именно, он не знал, не успел узнать, потому что ребенок поспешил появиться на свет. Минут десять спустя тот же мужчина вернулся вместе с малышом, уже помещенным в прозрачный кокон; Римини почувствовал, что у него дрожат ноги. Вытянув руку, чтобы обо что-нибудь опереться, он услышал сдавленный возглас и обернулся. «Это же мое плечо!» – вскрикнула анестезиолог. Римини убрал руку и вновь стал смотреть на крохотного, словно игрушечного, царька в прозрачном паланкине. Малыш лежал на спине, чуть повернув голову набок, так что касался простыни левой щекой; его глаза были широко открыты. Римини почувствовал, как эти темные и в то же время сверкающие зрачки пожирают его; он был готов поклясться, что ребенок смотрит осмысленно, и от этого ему стало одновременно хорошо и страшно. Римини казалось, что понимание происходящего и терпение, которое он видел во взгляде младенца, превращают эту сцену – хотя таких сцен по всему миру ежесекундно разыгрываются тысячи – в нечто особое, в какую-то эзотерическую церемонию, в сакральный ритуал, о котором все его участники должны были хранить молчание. Так они и смотрели друг на друга втроем – отец, мать и ребенок, – молча и почти не двигаясь. Даже врачи и те почему-то замолчали. Наконец неонатолог произнес; «Ну просто прирожденный фехтовальщик». Римини растерянно посмотрел на него, и врач жестами уточнил, что он имеет в виду: ребенок действительно лежал в очень характерной позе – правая рука вытянута вперед на уровне головы, левая прижата к корпусу, правая нога выпрямлена, а левая согнута в колене под прямым углом – идеальная стойка и отработанный удар. «А ведь действительно», – пробормотала Кармен и перевела взгляд на Римини, чтобы поделиться с ним своим восприятием этого первого связанного с ребенком образа. Римини не смотрел на нее: он только что осознал, что малый! лежит в той позе, в которой он всю жизнь сам чаще всего засыпал.
В ту ночь было очень душно. Небо сначала заволокло тучами с красноватой кромкой, и все думали, что будет гроза, но – ни грома с молниями, ни ливня так и не дождались. Вскоре подул легкий благодатный ветерок, тучи разметало по периметру небосвода и над городом засверкали звезды. Мир полностью обновился – но без всякой торжественности, почти незаметно, сдержанно, в соответствии с самыми строгими правилами хорошего тона. Больница, к счастью, отличалась на редкость либеральным отношением к посещению пациентов; Римини обзвонил близких из телефона-автомата, стоявшего на первом этаже, и в назначенное время вся компания приглашенных, не встретив на своем пути никаких препятствий, собралась в палате. Как и следовало ожидать, отец Римини проявил повышенное внимание к медсестрам, особенно их белым халатам и форменным двуцветным туфелькам; он привычно источал несколько небрежные приветливость и великодушие, к которым на этот раз, по случаю преждевременных родов и веса ребенка – килограмм шестьсот семьдесят граммов, – добавил драматизма. Шампанское – пятилитровая бутылка – оказалось теплым и без газа; горький шоколад – немецкий – едва не превратился из огромной плитки в бесформенную массу; цветы, которыми кровать Кармен завалили, почти как свежую могилу, были настолько сухими и безжизненными, что казалось, их путь в больницу пролегал по безводной пустыне. (И все же с каким облегчением вздохнул Римини, когда отец подозвал его к себе театрально-величественным жестом – ни дать ни взять мафиози районного масштаба – и отвел в сторону, а затем затолкал в ванную, запер за собой дверь и даже прислонился к ней спиной, – после чего, столь же театрально озираясь, что было совершенно излишне, учитывая, что в ванной, кроме них, никого не было и быть не могло, достал из-за пазухи конверт и вручил его Римини; этих денег должно было с лихвой хватить на оплату услуг анестезиолога, акушерки и неонатолога.) Чуть позже подъехали родители Кармен. Они немного поплакали, рассказали пару невероятно смешных, как им казалось, историй из детства дочери и вознамерились, по всей видимости, задержаться надолго; отец Кармен даже предложил совершить тайный набег на соседнюю палату, чтобы разжиться дополнительными стульями. Почувствовав неладное, отец Римини обрушил на гостей такую лавину эмоций, впрочем сугубо положительных, такое радушие и такую простоту, граничащую с бесстыдством и пошлостью, что те, почти парализованные бесконечными шуточками, подмигиваниями и намеками, сочли за лучшее ретироваться. Вскоре в дверях появились две подружки Кармен; они, по просьбе Римини, принесли целую гору бутербродов и много разного питья. Вся компания с удовольствием поучаствовала в позднем ужине, который проходил под аккомпанемент безостановочного смеха – о чем бы они ни говорили, всем было хорошо и весело. По взаимному молчаливому согласию, однако, разговор почти не касался ни ребенка, ни родов. Если же речь об этом и заходила, то становилось понятно, что все относятся к произошедшему как к чему-то невероятному, как к какому-то сверхчеловеческому подвигу Кармен. Она выжила – и слава богу, а все остальное не имеет значения. Время от времени в палату заходила медсестра, не столько для того, чтобы отчитать шумных посетителей – всякий раз при ее появлении бурное веселье затихало само собой, – сколько для того, чтобы напомнить правила поведения в больнице, как бы просто для порядка. Повздыхав и поохав, она поправляла сбившееся покрывало на кровати Кармен и уходила, унося с собой очередной пакет с оберткой от цветов, пустыми бутылками и пригоршней окурков из опорожненной пепельницы. Римини и Кармен словно решили забыть о ребенке на эту ночь, – возможно, последнюю в их жизни, которую могли провести без него. Только так, на краткий миг свергнув нового правителя, они могли внутренне смириться с тем, что в дальнейшем их ждет долгое верноподданническое существование. Когда посетители разошлись, Римини и Кармен вдруг обнаружили, что сидят одни в пустой палате, где эхо разносит от стены к стене их приглушенные голоса. Кармен откинулась на кровать, а Римини лег рядом – ногами к изголовью, а головой к ногам жены; так они некоторое время лежали молча, наблюдая за тем, как за окном светает, как утренний ветерок шевелит штору, слушая доносящиеся из-за двери разговоры врачей, скрип петель открывающихся и закрывающихся шкафчиков. Вдруг, не сговариваясь, они заплакали, а затем, чтобы успокоить и приободрить друг друга, стали вспоминать малыша и, создавая ему первое прошлое, говорить о маленьком принце-фехтовальщике, который требовательно смотрел на них и благословлял с высоты своего трона.
Римини отключился, а проснувшись, увидел в дверях встревоженное и бледное лицо Виктора. Кармен крепко спала. Римини решил, что тоже спит, и снова прижался лицом к ее ногам; затем он почувствовал, как чья-то рука легла ему на плечо. «Виктор, который час?» – спросил он. «Сам не знаю», – ответил тот. Римини приподнялся, и они с Виктором обнялись. От гостя исходил даже не табачный, а какой-то дымный запах, наподобие того, что остается на одежде после посещения похорон. «Тише, давай выйдем», – прошептал Римини, стараясь не разбудить Кармен. В коридоре Римини обратил внимание на какую-то неестественность в поведении друга – напряжение, которое выдает человека, не умеющего притворяться. Он присмотрелся повнимательнее – глаза у Виктора были воспаленные и красные. «Как все прошло?» – спросил тот, хлопнув Римини по плечу. От неожиданности Римини чуть было не потерял равновесие и даже облокотился о стену, чтобы не упасть. «Хорошо, – сказал он. А затем подумал: а хорошо ли? – Хорошо, – повторил он. – Слушай, сейчас ведь, наверное, очень поздно. Нет, наверное, совсем рано. Тебя-то как сюда пропустили в такое время?» – «Ребенок где, с вами в палате?» – спросил Виктор. Римини покачал головой. «В инкубаторе», – сказал он. Даже услышав слово «инкубатор», Виктор не забеспокоился, а, скорее, отвлекся от каких-то своих мыслей. «Он еще и дышать-то сам не может, – пояснил Римини. – Там в легких какая-то мембрана или что-то в этом роде – так она у него еще до конца не сформировалась». Пару секунд они постояли молча. Затем Виктор снова стремительно обнял его – получилось немного искусственно. Римини в нос ударил неприятный запах, исходивший от его одежды, и он поспешил высвободиться. «Виктор, в чем дело?» – не слишком любезно спросил он. Виктор задумался, и Римини понял, что тот явно просчитывает, стоит ли говорить ему что-то важное и, судя по всему, неприятное. «Виктор, я слушаю», – загоняя друга в угол, требовательно сказал Римини. «София звонила, – сказал Виктор. – Фрида умерла. Инфаркт произошел, когда ее везли на рентген. Обширный инфаркт. Это когда сердце разрывается изнутри – говорят, страшная штука. София здесь одна с ней была. Она мне позвонила, ну, я и приехал – сам понимаешь, куда тут денешься. Потом еще люди подошли – сестра, кое-кто из учеников, пациенты. А потом мы пошли с ней в бар вдвоем, сидим, кофе пьем, а она вдруг как хлопнет себя по лбу – Римини! И обо всем мне рассказала. По ее прикидкам выходило, что ребенок уже должен был родиться. Так ты представляешь, она хотела еще и к тебе забежать. Поздравить и все такое. Со свидетельством о смерти Фриды в руках. Я ей говорю – ты с ума сошла? Она подумала и сказала – ты, наверное, прав, лучше потом, вдвоем. Я дал ей пару капель ривотрила, посадил в такси и даже сам поймал другую машину, чтобы она думала, что я тоже уезжаю. А через три квартала сказал шоферу, чтобы он разворачивался и вез меня обратно в больницу. Там на входе дежурные меня еще не забыли, потому и разрешили пройти. Уже решили, как назовете?»
Нет, в тот момент еще ничего не было решено. А вот десять месяцев спустя, сидя на залитой солнцем террасе кафе, Римини уже мог грозным голосом произнести: «Лусио, нельзя!» Лусио был тем же принцем-фехтовальщиком, но румяным и окрепшим; воспоминаний у него пока что почти никаких не было. Первый месяц своей жизни он провел в своем солярии на колесиках, а сейчас твердо вознамерился отведать лично приготовленное блюдо в стиле фьюжн – собранные в ладошку следующие деликатесы: подобранный на полу окурок, вскрытый пакетик с сахаром – часть содержимого уже была на слюнявчике с кармашками, – соска и успевший побывать у Лусио во рту чек за кофе, который Римини вот уже десять минут собирался выпить и все не мог урвать для этого несколько свободных мгновений. Выбор имени произошел сам собой – Римини даже не мог похвастаться тем, что это ему удалось убедить Кармен, отстаивавшую имена Антонио или Висенте, и ее родственников, хотя именно ему имя Лусио нравилось больше всего. До какого-то момента на небесно-голубой карточке, прикрепленной к инкубатору, значилось имя Римини – сам Римини, пока Кармен сцеживала молоко в палате интенсивной терапии, убивал время, болтая с медсестрами, с врачом-неонатологом и родителями других малышей, тоже находившихся в барокамерах; некоторые из младенцев весили при рождении меньше полукилограмма и по размерам едва превосходили плюшевых мишек, которыми папаши, чтобы как-то их развлечь, размахивали за прозрачными стенками их колпаков. Римини и сам не заметил, как стал называть сына «Лусио». Поначалу он произносил это имя как бы случайно, где-нибудь в середине ничего не значащей фразы, словно всем уже было известно, что ребенка зовут именно так. Через три недели, когда все немного успокоилось и Римини с Кармен уже чувствовали себя членами круга посвященных (для них стало повседневной рутиной то, что некогда было таинственным ритуалом, – например, визит в палату интенсивной терапии: позвонить в дверь, дождаться, пока ее откроют, вымыть руки дезинфицирующим раствором, надеть стерильный халат и передник, а на ноги непременно бахилы), Римини даже не пришлось отстаивать достоинства выбранного имени: окружающие – медицинский персонал и родители таких же, как и его ребенок, недоношенных младенцев, ставшие ему и Кармен за это время самыми близкими людьми, – уже называли мальчика Лусио, и это выходило так естественно, будто бы никаких других имен для новорожденных вовсе не существовало.
Против всех своих опасений, которые усилились преждевременными родами, Римини очень быстро убедился в том, что быть отцом – это вовсе не страшно и не трудно; более того, у него открылся настоящий отцовский талант, дремавший все те годы, что он не был востребован. Римини и представить себе не мог, что так легко вживется в эту новую роль. Так же, полагал Римини, до поры до времени в человеке могут дремать и способности к языкам – пока не будут востребованы какой-нибудь случайностью, каким-нибудь стечением обстоятельств; эти сравнения, впрочем, мало что могли объяснить в его собственной жизни: Римини виртуозно управлялся с пеленками, чем приводил в восторженное недоумение собственного отца, – и при этом столь же легко и стремительно продолжал забывать иностранные языки, о последствиях чего старался не задумываться. Римини забывал языки, как можно было бы терять кожу: в какие-то дни ее сходило больше, в какие-то меньше, но процесс не прерывался; ранки сначала болели, потом затягивались, живую плоть покрывал слой мертвой ткани. На время беременности Кармен – на все семь месяцев – болезнь Римини, которую он сам после поездки в Сан-Пауло стал называть «преждевременно развившимся лингвистическим синдромом Альцгеймера», отступила, отошла на второй план; затем рождение Лусио, а главное, необходимость с нуля осваивать правила существования в условиях больничного режима (Римини и Кармен были вознаграждены: сначала новый режим был для них как тюремный, а изучение родительских премудростей – как тяжкая повинность; но обычно молодые родители познают эти премудрости бок о бок с первенцем, и любая ошибка может поставить под угрозу новый, еще не сформировавшийся семейный уклад или вообще привести к какой-нибудь катастрофе со здоровьем; консультации с родителями помогают плохо – новоиспеченные дедушки и бабушки уже успевают забыть многое из того, что сейчас пригодилось бы их детям; а Римини и Кармен проходили тренировку у команды профессионалов, с которыми прожили бок о бок все то время, что Лусио находился в инкубаторе, что спасло их от многих роковых ошибок) – все это заставило Римини окончательно забыть о своей языковой амнезии, как о дурном сне.
Все шло хорошо вплоть до одного дурацкого вечера. Такие вечера со временем хочется, преодолевая брезгливость, взять двумя пальцами и резким движением выдернуть из жизни с корнем, раз и навсегда. Римини и Кармен решили сходить в кино. До этого они поужинали в ресторане. Вечер был не только дурацкий, но, кроме того, прохладный и неуютный. Лусио наконец уснул, прижавшись к груди Римини. Они походили по центру, не зная чем заняться; долгие месяцы сидения взаперти не прошли даром – квалификация в поиске развлечений была утрачена. Они принимали решения одно за другим и тотчас же принимались их корректировать, пока в конце концов не отменяли; так они и ходили, от игровых залов к магазинам с объявлениями о распродажах, принюхиваясь к запахам, доносившимся из дешевых кафе, и обходя то бросавшихся им прямо под ноги девушек с рекламными листовками, то назойливых нищих и инвалидов на улице Лавалье. Увидев афишу какого-то кинотеатра, Римини с Кармен чуть не прослезились: покопавшись в памяти, они пришли к выводу, что не были в кино почти полтора года. Поэтому сейчас они готовы были пойти смотреть почти все, что угодно, – так человек, вынужденный долгое время ограничивать себя в еде, набрасывается при первой возможности на любую пищу. Впрочем, одно условие Римини поставил – на какие боевики он с ребенком не пойдет. Его сильно беспокоило, что четырехмесячный Лусио может проснуться от какого-нибудь резкого звука – выстрела или взрыва, доносящегося с экрана, – и, когда он вернется из царства сна в реальный мир, сузившийся до размеров большого черного ящика, мир встретит его пулеметной очередью или, например, взрывом бензоколонки. В итоге они не поддались искушению посмотреть «один из самых дерзких образцов нового французского кино», как гласила небольшая, нарисованная от руки афиша, которая висела прямо на стекле кассы. Купив билеты, они в сопровождении билетера, подсвечивавшего им путь фонариком, вошли в обшарпанный зал, поскрипели половицами и сели в старые, потертые кресла. Оба испытывали восторг и волнение, как какие-нибудь крестьяне из глухой деревни, приехавшие в первый раз в жизни в большой город. Наконец, когда они – не сговариваясь, одновременно – решились наконец взглянуть на экран, их взглядам предстала весьма фривольного вида служанка в коротеньком черном переднике в белый горошек, которая, засунув разноцветную метелку под мышку, сосредоточенно рылась обеими руками в ящиках комода в хозяйской спальне. Фильм начался уже некоторое время назад, и с чего именно – оставалось только догадываться. Почувствовав неладное, Кармен едва слышно застонала; тем временем действие на экране разворачивалось своим чередом: в спальню незаметно вошла хозяйка и, вместо того чтобы устроить горничной скандал, стала с не меньшим остервенением рыться в комоде собственного мужа, который явно поместил туда неопровержимые улики всех своих грешков, – в какой-то момент из ящика в разные стороны полетело женское белье всевозможных цветов и фасонов. Неожиданно изображение задрожало, по экрану поползли не то разноцветные червяки, не то какие-то лучи или полосы. Движения актрис стали дергаными – словно кто-то старательно вырезал из пленки кадры, которые связывали между собой фазы движений и жестов. Наконец действие подошло к кульминации: горничная резким движением сорвала крест, висевший на шее у хозяйки, и сильным толчком повалила ее на кровать; та раздвинула ноги, растянула губы в страдальчески-блаженной улыбке и стала одной рукой расстегивать платье, а второй судорожно комкать покрывало в цветочек. При этом изображение все так же дергалось, прыгало, и время от времени его скрывали разноцветные червячки и гусеницы; в какой-то момент эти дополнительные эффекты-дефекты полностью закрыли экран, и, когда изображение восстановилось, все самое интересное осталось позади: доносилось щебетание птичек, по какому-то пляжу дефилировал в плавках не то спасатель, не то банщик, двое мужчин сидели за столиком в ресторане, украшенном огромным количеством искусственных цветов, солнце не то вставало, не то садилось, светофор переключался с зеленого на желтый, кто-то снимал серый пиджак с вешалки. В былые времена Римини уже как минимум ломился бы в окошечко кассы с требованиями немедленно вернуть деньги, но теперь лишь поудобнее устроился в кресле и, ощущая на груди вес спящего Лусио, приготовился смаковать тошнотворные запахи и духоту кинотеатра вместе с дефектами печати пленки, которые показались ему очаровательными – все эти полосы и дергающиеся ломаные линии чем-то напомнили ему первобытную наскальную живопись.
До какого-то момента Римини даже не отдавал себе отчета в том, что фильм шел на французском. Лишь когда съехала нижняя строчка субтитров, он с ужасом осознал, что воспринимал диалоги не на слух, а читая перевод. И вот теперь, когда часть текста куда-то исчезла, а герои продолжали говорить по-французски, Римини охватила паника: он ничего не понимал. «Рамку!» – крикнул во весь голос кто-то из зрителей. Римини посмотрел на Кармен: судя по спокойному выражению ее лица, она даже не заметила пропажи субтитров. «Но как ты…» Да нет, все было ясно: Кармен прекрасно понимала французскую речь, и никакие субтитры ей были не нужны. Только он, он один, осиротел и потерял все. Он встал, перешагнул через открытую сумку, через зонтик, пробежал через зал по центральному проходу и, сориентировавшись по полоскам света под входными дверями, выскочил из зала в фойе – продавец сахарной ваты проводил его удивленным и в то же время по-коровьи невозмутимым взглядом; спустя десять секунд Римини, обнимая спящего сына, уже рыдал навзрыд в одной из кабинок туалета, созерцая, словно через мутное, залитое дождем ветровое стекло, произведение наскального искусства, выцарапанное на дверце кем-то из представителей первобытной расы в порыве вдохновения: здоровенный мужской член (вид спереди), с головки которого, нацеленной прямо на Римини, стекали капли спермы, сливавшиеся чуть ниже в номер телефона.
Долго плакать Римини не пришлось. Этот кризис, каким бы глубоким он ни казался, был купирован решительно и практически мгновенно: Лусио, разбуженный не то рыданиями отца, не то омерзительным запахом общественного туалета, тоже разревелся. Римини понял, что только что выучил еще одно отцовское правило, выполнять которое ему с этого дня надлежало неукоснительно: что бы ни происходило, какие бы напасти и беды ни обрушивались на них с Лусио – плакать одновременно с сыном отец не имел права. Римини с готовностью подчинился этому правилу и лишь с некоторой тоской подумал: что еще? От чего еще я теперь буду вынужден отказаться? Какие новые запреты наложит на меня, на мою жизнь и на мои чувства этот ребенок? На что еще он меня обрекает? Как бы то ни было, инцидент был быстро исчерпан – из туалета Римини вынес уже улыбающегося и довольного жизнью сына. Фильм к тому времени успел закончиться: Кармен ходила туда-сюда по фойе – как выяснилось, она обнаружила, что Римини с Лусио исчезли, только когда зажегся свет, – а вокруг нее уже кружили, словно вороны, двое-трое мастурбаторов, печальных и унылых в своем неизбывном одиночестве. Римини умилился, когда при виде беззубой улыбки младенца просветлело лицо матери; ему вдруг стал ясен подлинный смысл затертого выражения «плоть от плоти моей». Эта метафора и раньше казалась ему красивой, но воспринимал он ее несколько отстраненно – слишком уж часто ее использовали в сугубо религиозном смысле; теперь же ему стало ясно, что плотским соединением, связью между ребенком и его биологическими родителями смысл этой фразы не исчерпывается: у нее было и более глубокое значение совершенно особого единения, недоступное даже самой любящей бездетной паре. От осознания масштабов этого открытия, от понимания того, насколько теперь изменилась его жизнь, у Римини блаженно закружилась голова. Он понял, что любой поступок Лусио, имеющий отношение к нему, к Римини, точно так же был связан и с Кармен – и наоборот: все действия малыша, нацеленные так или иначе на маму, имели точно такое же отношение и к отцу.