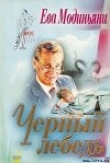Текст книги "Прошлое"
Автор книги: Алан Паулс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 37 страниц)
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
На рассвете его разбудили и проводили в маленький кабинет – уже, чем его камера, и к тому же еще сильнее выстуженный за ночь. Здесь незнакомый человек в костюме вежливо пожал Римини руку и деликатно, но настойчиво подтолкнул к столу, на котором стояла большая прямоугольная коробка из плотного картона. Коробка была без крышки, а на ее передней стенке был нарисован номер девятнадцать. В дальнем конце помещения Римини успел заметить большой стеллаж, на полках-ячейках которого помещались такие же коробки; одна из ячеек была пуста. Римини перевел взгляд на коробку и увидел, что в ней лежат его вещи. Он сдал свои часы, ремень, шнурки, бумажник, связку ключей и тот самый трофей, который в момент задержания, двадцать часов назад, казался ему величайшей ценностью в мире, а теперь не вызывал никаких эмоций. Некоторое время Римини стоял неподвижно и рассеянно разглядывал это скромное наследство, как порой люди смотрят на рыб, плавающих в бассейне или в пруду. Он бы простоял так еще долго, если бы не вмешательство адвоката – тот явно не собирался задерживаться в комиссариате дольше необходимого, был не слишком доволен тем, что ему пришлось ехать сюда в такой ранний час, а кроме того – такой клиент, как Римини, отнюдь не производил на него впечатления перспективного. В общем, адвокат решил взять инициативу в свои руки. Выждав еще несколько секунд и убедившись в том, что Римини не собирается ни забирать вещи, ни вообще предпринимать какие-либо действия (а Римини казалось, что для его вещей нет лучшего хранилища, чем надежная, как банковский сейф, картонная коробка, и лучшей охраны, чем дежурная смена полицейских), адвокат ткнул пальцем в коробку и спросил: «Здесь все?»
Римини молча кивнул головой, так же молча расписался в какой-то бумаге напротив своего имени – адвокату пришлось ткнуть в это место пальцем – и стал распихивать полученные от полицейского вещи – в частности, часы, шнурки и ремень – по карманам. На столе появилась еще одна бумага; адвокат снова ткнул куда-то желтым от никотина пальцем, на всякий случай продублировав жест короткой командой «здесь», и, дождавшись, когда Римини выполнит то, что от него требуется, пояснил: «Пропуск. На выход». Как любой специалист, он в присутствии дилетантов изъяснялся в основном короткими, отрывистыми фразами, не снисходя до того, чтобы растолковать их смысл непосвященным; по всей видимости, такое поведение наполняло его ощущением собственной значимости. И клиент действительно исполнял распоряжения, толком не понимая и не вникая в то, что он делает и что подписывает. В общих чертах Римини, конечно, представлял, что происходит, но свободу он обретал с тем же спокойствием и легким ощущением досады, с которым терял ее. Все происходящее казалось ему театральным, словно ненастоящим, и Римини ничуть не удивился бы, если бы все эти декорации неожиданно рухнули и его история началась заново с какого-нибудь ничем не примечательного места в уже вроде бы отыгранном сценарии. Тем временем адвокат сложил вчетверо последнюю подписанную Римини бумажку и сказал: «Пойдемте». С этими словами он взял Римини под локоть и с силой потащил за собой к дверям. Прозвенел резкий звонок, дверь распахнулась, и адвокат с клиентом вышли в вестибюль.
Двери комиссариата закрылись, и Римини остановился на тротуаре, оглядывая окрестности: ближайшие дома, киоски, бар, маленькое фотоателье с образцами снимков на разные документы в витрине, – все это он мог видеть и вчера, когда его везли в полицейской машине, но почему-то ни одна из этих деталей не отложилась в его памяти. Сейчас он, освобожденный из плена, взирал на окружающий мир так, словно видел его впервые; при этом он еще и никак не мог взять в толк, кому и чем обязан своим чудесным освобождением. От этих мыслей он отвлекся, когда увидел на противоположной стороне улицы Софию. Она стояла, прислонившись к стене дома, и, заметив Римини на ступеньках комиссариата, тотчас же пошла к нему навстречу. Не без труда протиснувшись между бамперами двух машин, она перешла дорогу и оказалась буквально в шаге от Римини. Он совсем не ожидал сейчас ее увидеть; тем не менее буквально через секунду, едва схлынула первая волна изумления, присутствие Софии показалось Римини чем-то столь же естественным и само собой разумеющимся, как краснеющее на рассвете небо, как свежий утренний воздух, как любое из проявлений этого мира, о существовании которого он за время недолгого заключения успел как-то подзабыть. Он увидел Софию, и все как-то сразу встало на свои места; так фрагменты однажды собранной мозаики или головоломки легко занимают нужное положение, когда их начинают собирать повторно. Юбка в шотландскую клетку, темный свитер с высоким воротом, кожаная куртка на меховой подкладке… Римини готов был поклясться, что именно в этой одежде видел Софию… Когда же это было… А не в последний ли день школьных занятий, двадцать лет назад? А может быть, эти вещи были на ней еще раньше – например, в тот вечер, когда они, воспользовавшись беспечностью Роди, приставленного их караулить, впервые примерились к ковру в гостиной в качестве любовного ложа; все то время, что они наслаждались друг другом, Ив Монтан исполнял одну и ту же строчку из песни «Осенние листья» – иголка проигрывателя застряла на поцарапанной виниловой поверхности. А впрочем – разве так уж важно, когда и где София была в этом наряде. Привязка ко времени и месту нужна для того, что находится вне тебя, для того, что можно потерять, забыть, чего можно лишиться; София же была не вовне, а внутри. Она была неотъемлемой частью его мира.
Она подошла к нему вплотную, и Римини вдруг понял: София – такая живая, такая близкая и теплая, такая родная – была сделана из той же материи, что и сеньорита Санс, что ее кружева, что и класс, в котором по-прежнему выжигала живительный кислород газовая горелка, что и опилки, рассыпанные у школьной лестницы, что и лица одноклассников, которые Римини видел во сне, что сам Римини-школьник, в порванных на коленях фланелевых брюках, в ботинках с вечно развязанными шнурками, подсматривающий с замиранием сердца за плачущей в порыве отчаяния учительницей, которую отверг женатый любовник. Из этого же материала были сделаны все призраки прошлого, посетившие его за то время, что он провел в камере полицейского участка. Эта материя была простой, понятной, безразмерной и бесконечной; самым же главным, характерным ее качеством была неуничтожимость – из этой материи сотканы неживые люди. Это ткань, из которой состоят тела и души покойников.
Адвокат протиснулся между Римини и Софией и сказал: «Получите. Распишитесь». Его слова были адресованы Софии; при этом выражение лица у адвоката было такое, словно он вручал ей непослушную зверушку с маленькими, но острыми зубами. Затем, прежде чем уйти, он обернулся к Римини, посмотрел на него в последний раз – с чисто профессиональной озабоченностью, – вновь обернулся к Софии и, помрачнев, как будто где-то на его мысленном горизонте появилась небольшая, но подозрительная тучка, добавил: «Если что – сразу же звоните мне». София в ответ ничего не сказала и даже не кивнула в знак согласия или благодарности. За это время Римини успел отметить про себя, что ее волосы, которые тогда, в больнице, были привычно светлыми, золотистыми, как мед, – стали седыми, идеального, ровного пепельного оттенка. Адвокат наконец испарился, и Римини с Софией смогли обняться – впрочем, обнимала в основном София Римини, а не он ее. Маленькая, чуть ли не вдвое ниже его ростом, она заключила его в объятия и не выпускала, – Римини вдруг понял, что толстая кожаная куртка на подкладке просто ограничивает ее подвижность; София всего лишь обратила эту несправедливость в свою пользу. До его слуха донесся ее голос. Она ласково и вместе с тем твердо произнесла всего одну фразу: «Ну все, хватит. – Этими словами она успокаивала не то его, не то себя и, видимо, не зная, кому из них они нужны больше, продолжала повторять: – Хватит. Хватит. Хватит». Римини чувствовал, как с каждым повтором ее голос проникает в его тело и душу все глубже и глубже, пробираясь наконец к самому сердцу.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Сколько же времени я не видела тебя спящим. Сколько времени была лишена возможности наблюдать это волшебное зрелище. (Только что капля воды – я недавно приняла ванну, уже ведь четверть первого, я опаздываю, а ты вот уже тридцать часов спишь мертвым сном – соскользнула с моей руки, прокатилась по предплечью, повисла на локте, словно задумавшись, и упала прямо тебе на щеку – двумя миллиметрами выше того места, где отпечаталась складка простыни; капля разбилась на множество крохотных капелек, одна из которых скатилась по твоему лицу в уголок губ; между ними на мгновение высунулся кончик языка, словно какое-то животное, показавшееся из норки, но поздно – пить было нечего.) Как видишь, мне все так же нравится писать письма, и я все так же по поводу и без повода пользуюсь скобками. Ничего не могу с собой поделать. От этого, Римини, просто нет лекарства. Ты меня понял наконец? Для нас с тобой лекарства нет. Пусть это будет нашим девизом. Я буду продолжать нанизывать фразы одну на другую, а ты продолжишь… Не слишком ли я тороплюсь? Ты, конечно, скажешь, что так оно и есть (впрочем, ты ничего не говоришь, и я могу беседовать с тобой столько, сколько захочу, а ты будешь меня слушать не перебивая; я сегодня как гипнотизер, я сделаю с твоим сознанием все, что мне вздумается, и ты, проснувшись, ничего не вспомнишь). Нет, Римини, я ведь по-прежнему все вижу. И сейчас я вижу (это то немногое, что ты узнаешь о себе самом из того, что вижу я, когда смотрю на тебя спящего), что ты, конечно, спал без меня долгие годы, но в твоих привычках ничего не изменилось: по-прежнему спишь, засунув руки под подушку (хотела бы я снова увидеть твою испуганную физиономию, когда, проснувшись, ты их в первую секунду не чувствуешь и успеваешь усомниться в том, что они у тебя по-прежнему есть; тебе кажется, что кто-то – не иначе я, женщина-чудовище, женщина-нож, – отрезал их тебе, пока ты спал, так нет же, ошибочка вышла – знаешь, Римини, если бы мне были нужны твои руки, я бы давно превратила их в каменные), ты по-прежнему, дай тебе волю, ляжешь спать в носках, ты все так же чешешь во сне одну ногу другой, все так же мокнет подушка от твоей слюны, все так же ты говоришь во сне. (Да, кстати, ты в курсе, что во сне ты говоришь по-французски? То есть не по-французски, а на каком-то придуманном языке, который звучит как французский; при этом, признаю, произношение у тебя по-прежнему превосходное.) Ты все так же ворочаешься и по-прежнему перетаскиваешь на себя одеяло и простыни (впрочем, со всем этим, как мне кажется, при обоюдном желании мы быстро разберемся). Ты, как раньше, закрываешь глаза ладонью или предплечьем, как будто тебя во сне ослепляют яркие фонари или солнце; ты, как раньше, можешь ни с того ни с сего сесть на кровати – продолжая спать, но с открытыми глазами; раньше, в детстве, как ты мне рассказывал, ты в такие минуты мог встать и пойти бродить по дому (теперь ты, конечно, вырос и никуда не уходишь, а просто смотришь поочередно в две точки – куда-то вдаль, например на вентилятор под потолком, а затем, скажем, на мою коленку, которая вырисовывается под простыней и потому кажется каменной; ты переводишь взгляд несколько раз с колена на вентилятор, а затем, устав бороться, вновь ложишься навзничь, как будто тебя опрокинули, как будто нажали кнопку на спинке складывающейся кровати – рраз). Урок анатомии. Знаешь, Римини, а ты ведь по-прежнему дрожишь во сне. Мой бедный, бедный Римини. Не бойся. Все осталось там, в прошлом. Ты теперь дома. Я поговорила с адвокатом – картину отдали ему, он передал ее хозяйке, и та отозвала свое заявление в полицию. Пришлось, конечно, дать ей какие-то деньги, но это неважно. Мой адвокат, если честно, вообще был против того, чтобы улаживать это дело и вытаскивать тебя из полиции – не нравишься ты ему (полагаю, он воображает, что в смерти отца есть твоя вина). Еще он мне сказал, что никогда в жизни не видел такой вульгарной женщины. Как же получилось, что ты пал так низко? Я догадывалась, что без меня ты пропадешь, но чтобы докатиться до такого… (Баба под полтинник, крашеная корова, вся в золоте – да, так мне ее описал этот, ну как его, личный тренер, я имею в виду человека, который позвонил мне и рассказал о том, что случилось. А ты… Если бы ты знал, чего мне стоило видеть тебя выходящим из комиссариата в этих кроссовках, да еще и без шнурков… Я бы не удивилась, если бы ты спился, стал наркоманом или вконец истаскался по женщинам, но опуститься до профессионального спорта?) Между прочим, я могла бы не помогать тебе, и ты бы остался за решеткой. Не думай, что я не рассматривала этот вариант. Причем, поверь, вовсе не из чувства мести. (Было дело, натерпелась я от тебя – с другой стороны, ты ведь тоже от меня вытерпел немало. Я думаю, что количество зла, которое мы причинили друг другу, примерно равно, иначе и быть не может между людьми, для которых нет друг от друга лекарства.) Я об этом думала лишь потому, что люблю тебя. Подумай, какой соблазн: я стала представлять, как буду приходить к тебе на свидания, носить передачи – все как в кино. Ты был бы как будто моим пленником. Человек, преступивший закон страсти. Ты отбывал бы наказание за преступление, совершенное из любви ко мне. Ну, предположим, как будто ты убил моего любовника, избивавшего меня мужа или, например, начальника, который меня насиловал. Я знаю, что Рильтсе ты украл для меня, из любви ко мне. (Есть вещи, которые невозможно объяснить адвокату.) Я говорю тебе об этом сейчас, пока ты спишь, потому что, проснувшись, ты ни за что этого не признаешь. (Любите вы, мужчины, хранить никому не нужные секреты.) А еще мне вдруг пришло в голову (ты, конечно, скажешь, что я совсем сошла с ума) подать исковое заявление в суд. Знаешь на кого? Да на нее же, на твою похотливую кобылу. Я потребовала бы от нее объяснений и отсудила бы Рильтсе. То, что ты сделал, это не кража, это экспроприация, акт восстановления справедливости. Если кто-то что-то и украл, так это она. Воруют все те, кто покупает Рильтсе, – все они воры. Рильтсе – он наш. Я попыталась отыскать эту картину в каталогах, перерыла все альбомы, которые есть у меня дома, но не нашла; уже потом я поняла, какая же я дура, – все мои книги по живописи изданы до семьдесят шестого года, когда кончилась наша юность, а что было потом – я об этом практически ничего не знаю. Зато сейчас я смотрю на тебя и понимаю, что ты ведь совсем не изменился с тех пор. Нет-нет, не волнуйся, я отдаю себе отчет в том, что ты теперь другой человек, то есть по крайней мере ты так думаешь. На самом же деле ничего нового в тебе не появилось. Ты всегда был Дорианом Греем. Вот только, пока мы были вместе, я этого не понимала. Мы любили друг друга = мы не менялись = мы не старели. Ни один из нас не старел. (Вот только мой отец умер. Умер с улыбкой на губах, которая появилась благодаря тебе, перед тем как ты сбежал из больницы. А на следующее утро я проснулась седой.) Теперь ты – Дориан Грей, а я – портрет. Ты хотел, чтобы мы изменились? Я помню, как ты просил об этом – ты хотел, чтобы наша любовь перешла в другое состояние. Вот, пожалуйста, все изменилось ровно на поколение. Я теперь могла бы быть матерью того, совсем юного Римини. Извини, зазвонил телефон, и я была вынуждена прервать письмо. Звонил Виктор из больницы. Я рассказала ему. Нет, сначала я, конечно, решила загадать ему загадку. Так я ему и сказала: спорим, ты не догадаешься, кто сейчас спит в моей постели. Думаешь, он хоть на мгновение замешкался с ответом? Думаешь, хоть чуточку удивился? Никто, никто не удивится тому, что мы вместе. (Римини, мы ведь с тобой такие старые. Наша любовь – ей, наверное, миллион лет, если не больше. Наша любовь – это уже не история и не археология. Это, Римини, геология. Расставания, разводы, встречи, ссоры… – все это проходит). Да, чуть не забыла рассказать: Виктор смертельно болен. Похоже, что даже телефонную трубку ему кто-то держал, чтобы он мог со мной поговорить. Он, кстати, тоже по тебе соскучился. Спрашивал, не собираемся ли мы отметить наше воссоединение. Я сказала, что нет. Потребовала, чтобы он мало-мальски пришел в форму к открытию «Адели Г.». Ладно, мне пора идти. Наши женщины убьют меня, если я опоздаю. Кофе и хлеб найдешь на кухне. Чистое полотенце в ванной. Оставляю тебе коробку с фотографиями – я ее так и не трогала, все эти годы она ждала тебя. Нет, лучше даже не спрашивай – сделать запасные ключи я не успела (пишу и думаю – а я ведь, пожалуй, не хочу, чтобы у тебя были ключи от квартиры). Что, ты здесь, никуда не делся? Да, это ты, действительно ты, как всегда споришь и с чем-то не соглашаешься, даже во сне. До свидания, мой спящий красавец. Прощай, мой пленник.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Он просыпался от любого звука: его могла разбудить упавшая с кухонного крана капля, бульканье воды в батареях, гул лифта, который пятью этажами ниже отзывался на вызов какого-нибудь полуночника. Ну и конечно, время от времени он просыпался от дыхания Софии. Она тяжело дышала, как будто ей не хватало воздуха; шумно вдыхала, со свистом и похрипыванием выдыхала – это был если и храп, то храп шепотом. У Римини поначалу были опасения, что за время, которое они с Софией не спали вместе, она превратилась в огнедышащего дракона с вырывающимися из носа и рта струями дыма и пламени. Ничего такого не произошло; более того, буквально за пару ночей Римини привык к знакомому с юности звуку. Просыпался он порой по нескольку раз за ночь и всякий раз – незадолго до того, как ей нужно было вставать. Он приподнимался на локте и несколько минут проводил в неподвижности, рассматривая, словно изучая заново, лицо спящей Софии. Затем тихонько вставал, накидывал на плечи ее халат и уходил на кухню, где разбирал фотографии и подписывал каждую из них на обороте, то просто вспоминая дату, а то и сочиняя полноценный эпиграф или аннотацию к изображению. Фотографий было много, свободного времени у Римини – и того больше. Некоторые из снимков уже были когда-то подписаны им или Софией, и Римини счел необходимым подвергнуть эти старые подписи серьезной редактуре. Поначалу он тратил на это занятие буквально несколько минут каждое утро, но постепенно погрузился в него с головой. Иногда София не просыпалась довольно долго, и Римини возвращался в спальню, не зная, стоит ли ее будить, проспала она непреднамеренно или же, забыв его предупредить, заранее выкроила этот дополнительный час утреннего сна. Он смотрел на Софию и понимал, что видит в ней не только живого человека, но и фотографию из прошлого – порой умилительную, как снимок любимой собачки, ребенка или ребенка с собачкой, а порой пронзительно-нежную или же, наоборот, суровую и неприступную. Всякий раз в такой ситуации Римини думал о себе как о часовом, поставленном охранять что-то важное и ценное, – вот только, как и всякий часовой, в случае нападения на охраняемый объект он должен был подать сигнал тревоги и геройски погибнуть, не имея реальных сил и возможности отразить атаку и лично защитить то, что находится под его охраной. Это противоречие было просто невыносимым. Чтобы избавиться от мучений, Римини либо вновь уходил на кухню, либо бросался к кровати, вставал перед ней на колени и будил Софию ласковыми прикосновениями и поцелуями. При этом он со всей отчетливостью осознавал, что, как бы близки они сейчас ни были, сколь бы ничтожно мало сантиметров ни отделяло их друг от друга он все равно находился где-то по другую сторону от границы того мира, в котором пребывала сейчас София. К этому загадочному миру Римини мог приблизиться, мог, разбудив Софию, даже разрушить его, но проникнуть в эту близкую и одновременно бесконечно далекую сферу ему было не дано.
София оказалась права: никто их воссоединению особенно не удивился. Никто, начиная с самого Римини. Если в то утро, когда он, выйдя из комиссариата, увидел Софию на противоположной стороне улицы, тень удивления у него еще мелькнула, то буквально спустя полминуты, когда, отстранив адвоката, София бросилась обнимать его, происходящее уже казалось Римини совершенно естественным. В свою новую жизнь он вошел спокойно, с бесстрастной кротостью сироты, который почувствовал, что в этом доме его не обидят. Приняли его действительно гостеприимно и радушно; его некрасивые поступки не были забыты, но квалифицировались как ошибки молодости – пусть и серьезные, но совершенные исключительно по недомыслию и, как показало развитие событий, в конечном итоге не приведшие ни к каким катастрофам. Ну а кроме того – здесь, в доме Софии, все было таким знакомым… До этого Римини не доводилось здесь бывать, но, едва переступив порог, он почувствовал себя дома; он, наверное, с закрытыми глазами нашел бы все, что ему было нужно, и именно там, где он ожидал. В первую очередь атмосферу узнаваемости создавал запах – запах старого, выдержанного дерева; София всегда считала, что может сосуществовать лишь с мореным дубом. Верная и другому своему принципу – дорожить всеми окружающими мелочами, – она за все это время не выбросила ничего, буквально ни одной вещи. Римини был потрясен этим всепоглощающим дежавю и без труда вспомнил как безделушки, украшавшие интерьер, так и старую, такую знакомую ему мебель: обеденный стол, стулья, книжный шкаф и плетеные кресла – все это Софии досталось от бабушки Римини: она в свое время настояла на том, что Римини эти вещи нужны как никому другому, просто он этого пока что не понимает. Узнал он и белый мохнатый ковер, распростертый на полу этаким белым медведем, и старый столик на колесиках, изначально предназначенный для перевозки бутылок с вином (который София, как и раньше, использовала в качестве подставки для телефона), и лампы с абажурами из искусственного пергамента, и пледы – один был наброшен на спинку кресла в гостиной, другой использовался в качестве покрывала на кровать в спальне; пробковые подставки под стаканы, салфетки с цветочками и птичками на кухонном столе, ламповый радиоприемник, который каким-то чудом по-прежнему был в рабочем состоянии… Все эти предметы, которые он в свое время с такой легкостью забыл, теперь вновь радушно приняли его, ни в чем не упрекнув и не выставив никаких условий. Когда же София распахнула перед Римини дверцы всех шкафов – демонстрируя тем самым, что он может пользоваться ими по своему усмотрению, – в нос ему ударил все тот же запах лаванды, мешочки с которой лежали на полках с бельем, были подвешены к плечикам с верхней одеждой и, как и всегда, вываливались на пол при открывании ящиков и дверец. Долго обустраиваться и раскладывать вещи Римини не пришлось: во-первых, за последние годы он много одежды не накопил, а во-вторых – кое-что из того, что он все-таки перетащил в квартиру Софии, она сама безжалостно определила в пакет, который надлежало передать в организацию помощи бездомным. Дело было не в состоянии этих вещей, а в том, что часть из них была на Римини, когда его выпустили из полиции, а часть он носил в своей жизни без Софии; София же полагала, что вещи вбирают в себя ауру места и хранят память об обстоятельствах. В шкафах с вещами Софии Римини не обнаружил никаких следов перемен – не только со времен их расставания, но и с первых лет совместной жизни: все вещи до единой были ему знакомы. В общем, он мог быть спокоен: возвращался он не в дом, не к женщине, не к любви – его возвращение было возвращением в музей. Никто и ничто – ни женщина, ни любовь, ни дом, ни даже воспоминания о прошлом – не способно долго сопротивляться натиску времени; этот натиск может выдержать лишь музей. Здесь он родился, рос, взрослел, отсюда его похитили – сюда он теперь мог вернуться и без труда освоиться на этом новом старом месте. Как люди поддерживают в неизменном состоянии святилища, те места, где когда-то случилось чудо, – так же София оберегала то место, где она могла ждать и надеяться. Эта надежда со временем переросла в уверенность – и Римини действительно вернулся и занял положенное ему место в музее своего имени.
Он позвонил отцу. Известие о его возвращении к Софии, похоже, того не только не удивило, но и немало порадовало; все это выглядело так, словно у отца были свои шкурные интересы в этом музее и возвращение в экспозицию главного экспоната означало для него конец долгого периода метаний, неуверенности и раздумий над тем, как именно следует изменить концепцию этого учреждения культуры. Вскоре после этого София призналась Римини в том, о чем он и без нее давно догадывался: она, оказывается, поддерживала с его отцом довольно тесные отношения все эти годы. Получив подтверждение своим подозрениям, Римини на мгновение почувствовал себя обманутым и едва ли не преданным: оказывается, ни добровольная ссылка отца в Монтевидео, ни дурацкая беспорядочная жизнь Софии, ни даже проблемы самого Римини – ничто не могло помешать этим двоим самым близким ему людям преспокойно общаться друг с другом у него за спиной. Вообще выходило занятно: когда-то он, Римини, сравнивал разрыв с Софией ни много ни мало с катастрофой планетарного масштаба, с уничтожением целого мира; при этом ему казалось невозможным, чтобы они воссоединились и уж тем более чтобы к ним присоединились другие люди, вовлеченные в их общую орбиту, – отец Римини, Виктор и некоторые другие; выяснилось же, что осколки некоторое время совершали свободный полет в космосе, а затем вновь воссоединились, и только Римини оставался отделенным от них. Утешало его в этой ситуации лишь одно: вне этого старого мира он продержался достаточно долго для того, чтобы как у него самого, так и у его близких зажили все шрамы, нанесенные взрывом, который он устроил.
Он прекрасно отдавал себе отчет в том, что его возвращение вовсе не было похоже на возвращение Одиссея, одержавшего победу над Циклопом и устоявшего перед пением сирен. Он был из тех слабых созданий, что, усталые, измученные болезнями и алкоголем, приползают к порогу отчего дома – и терпеливая семья вновь и вновь принимает их и помогает выкарабкаться из пропасти, в которую они угодили по собственной вине. В его возвращении не было никакой эпичности, никакой торжественности; не было оно ни свидетельством его поражения, ни его местью. Несколько разочарованный в первые дни, Римини вскоре осознал, что в обыкновенности и заурядности его возвращения есть одна весьма приятная особенность: этому возвращению не удивлялся действительно никто. Всеобщее спокойствие и безразличие были для Римини целебным бальзамом и обезболивающим средством, облегчившим его переход из одной жизни в другую.
Совершенно неожиданным утешением для Римини стало любопытство – да-да, любопытство, пусть и не удивление, не потрясение, – которого не испытали ни его отец, ни Виктор, ни, уж конечно, София; неподдельный, искренний интерес к его персоне проявили никогда раньше не видевшие его лично, лишь слышавшие о нем от Софии ее соратницы по «Адели Г.». Впервые он встретился с ними в помещении, которое они арендовали под свой бар и где вовсю шел ремонт. За исключением каменщика и газовщика, для которых женщина-архитектор и дизайнер интерьера не смогла подобрать замену женского пола (хотя нашла малярш, плотницу и женщину-электрика), Римини оказался едва ли не первым мужчиной, переступившим порог этого заведения. Одного этого было достаточно, чтобы заинтересовать собравшихся дам. Подогревали их интерес и многочисленные рассказы Софии о ее ненаглядном Римини. Едва ли его появление в этой компании можно было назвать триумфальным: едва переступив порог, он споткнулся обо что-то и чуть было не рухнул прямо на здоровенное стекло, которое в этот момент две женщины несли мимо двери. Если бы не София, он точно разбил бы стекло вдребезги, наверняка поранился бы сам и поранил окружающих. Такое появление в любой другой ситуации вызвало бы смех всех присутствующих; но в данном случае комизм был сглажен любопытством, которое к персоне Римини испытывали, как было сказано, подруги Софии. Это потом они привыкли к нему – когда он стал появляться в «Адели», помогал им ходить по магазинам, а во время заседаний, которые София каждые две недели устраивала у себя дома, выполнял роль официанта, подающего дамам кофе, и секретаря, ведущего протокол собрания. Сейчас же они во все глаза уставились на него. Сколько их было – восемь, десять, двенадцать? Это так и осталось для Римини загадкой; более того, он так и не выучил имен большинства из них; собирались они обычно в разном составе, а лица, когда собрания были многолюдными, Римини вообще различал плохо. В первый вечер, когда София изящной шуткой сняла напряжение, повисшее в баре после неловкого появления Римини, ему пришлось перецеловаться и перезнакомиться примерно с полудюжиной женщин, которые выстроились полукругом и беззастенчиво его рассматривали. Когда с формальностями было покончено, Римини, чуть смущенный, встал в центр этого полукруга и сложил руки чуть ниже живота – словно он был голым и должен был прикрывать член ладонями. Так он и стоял в окружении молча рассматривавших и оценивавших его женщин, под аккомпанемент дрели, грохотавшей в кухне. В итоге, как ему показалось, его признали.
Не только признали, но и приняли за своего – к немалому удивлению его самого. В первый же день, как только процедура знакомства была завершена, Римини предложили чувствовать себя как дома и располагаться поудобнее; это было весьма нелегко, учитывая, например, что единственный не покрытый свежей краской стул в помещении в тот момент выполнял роль стремянки, стоя на которой женщина в комбинезоне сосредоточенно скручивала и заматывала изолентой провода под потолком. Так или иначе – Римини действительно немало удивился тому, как его приняли в «Адели Г.». Он знал об этом обществе, а также об обществе «Женщин, которые любят слишком сильно», в работе которого София принимала участие уже больше двух лет. Работа в этом проекте заменила ей бесчисленные семинары, лаборатории и мастер-классы, на которые она потратила большую часть последних двадцати лет своей жизни, – и София была этим счастлива. Впрочем, вот, пожалуй, и все, что было известно Римини; София боялась утомить его разговорами о новом проекте, а он, в свою очередь, опасался показаться навязчивым и, чтобы София не подумала, что он лезет не в свое дело, предпочитал ждать, пока она сама посвятит его в подробности; впрочем, сам себе он признался в том, что не может не испытывать беспокойства по поводу увлеченности Софией чем бы то ни было, что носит имя Адели Гюго. Когда София похвасталась ему проектом логотипа – вписанные в сердечко начальные буквы тех слов, которые составляли название (ну разве не прелесть!), – ему, по правде говоря, стало не по себе. Тем не менее прием, оказанный Римини, окончательно сбил его с толку: вместо шумной и бестолковой компании восторженных дамочек он оказался в обществе спокойных, воспитанных, элегантных и исполненных достоинства женщин. Ощущение было такое, что говорить в полный голос, а уж тем более повышать его здесь считалось дурным тоном. Удивило его и то, как эти женщины двигаются и работают: они явно не привыкли делать ремонт своими руками, но все их движения были плавными, спокойными, не суетливыми – это заменяло им отсутствие опыта; Римини почти не видел, чтобы кто-то из них споткнулся, выронил какой-то предмет из рук, сделал что-то не так или не там. У него возникло чувство, что он присутствует на какой-то хореографической постановке – так плавно и изящно выполняла свое дело каждая из них. Присмотревшись, Римини понял, что все это происходит не само собой: эти женщины трудились постоянно – не только здесь, в не отремонтированном помещении будущего бара, но и дома, на улице, везде. Двадцать четыре часа в сутки. Они работали над собой. Это создание своего внутреннего образа и модели поведения, включающей и определенную манеру держаться на людях, занимало все их время, все душевные силы. Работа эта не была бессмысленной: женщины явно смогли достичь высокой степени гармонии в отношениях с окружающим миром, а также между своими телами и пространством, в котором они двигались. Называться подлинным совершенством (и действительно быть им) каждой из них мешало одно – накопившаяся усталость. Плавность и неспешность движений, неторопливость речи эту усталость отчасти маскировали, но не могли скрыть ее в полной мере. Дело было не в том, насколько удачным или неудачным был макияж каждой из них – красились они по большей части со вкусом и не слишком ярко; не столь важно было и то, насколько хорошо они сохранились к своему возрасту. Речь шла о другом. Сколько бы лет ни было каждой из них по документам – тридцать ли, сорок ли, пятьдесят, – за спиной любой из женщин, собиравшихся в «Адели Г.», стояли века и тысячелетия, то есть такой возраст, такой временной промежуток, который недоступен пониманию обычного человека и которым могут похвастать лишь те, о ком принято говорить: эта женщина многое повидала на своем веку.