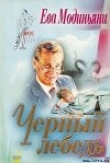Текст книги "Прошлое"
Автор книги: Алан Паулс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 37 страниц)
Свидетелями такой трагикомической ситуации стали в ближайшие две недели сотрудники клуба, чьи смены приходились на утро. Нэнси подкарауливала Римини, а он демонстративно не реагировал на знаки внимания и, общаясь с ней, по большей части смотрел куда-то в сторону – как собака, которая слышит недоступный человеческому уху высокочастотный свист и поворачивает морду туда, откуда он доносится. Все попытки Нэнси пробить эту стену безразличия были безуспешны: Римини общался с нею лишь на чисто спортивные темы. Тогда Нэнси стала пользоваться всеми доступными ей невербальными способами привлечь к себе внимание. Здороваться с Римини она стала во много раз более сердечно и эмоционально, чем раньше: уже не подставляла ему щеку для дежурного поцелуя, а решительно брала его за руку, затем за плечо, притягивала к себе, клала ладонь на его затылок и припадала к нему в коротком, но чувственном поцелуе – причем Римини, как ни старался, всякий раз отставал с ответным; в некотором роде получалось, что это уже не дежурное приветствие, а робкий и смущенный ответ на прикосновение ее губ. Время от времени, забывшись, Нэнси начинала болтать с Римини на самые разные темы, причем так, словно несколько месяцев не имела возможности произнести ни слова. Во время этих приступов красноречия она уже не обращала внимания на безразличие Римини. Нэнси делилась с ним школьными воспоминаниями и сплетнями из парикмахерской; в ход шли пересказы фривольных подробностей из литературной биографии Марикиты Санчес де Томпсон и похвалы в адрес садовника, работавшего при вилле, которая была у них с мужем в Пунта дель Эсте; с Римини поделились информацией о целой коллекции париков лучшей подруги, которой незадолго до этого врачи удалили опухоль мозга размером с небольшую дыньку – то есть все, как понял Римини, чем вообще можно думать; ему поведали о потливости, свойственной предклимактерическому возрасту, и попросили совета, куда ходить – на аштанга-йогу или же на эвтонию; Римини оказался в курсе некоторых подозрений Нэнси по поводу того, как ее служанка развлекается в свободное время, – и вдруг осознал, что, болтая всю эту чушь, его собеседница не забывает всякий раз как бы невзначай задать вопрос-другой, так или иначе относящийся к его личной жизни. Следовало признать, что у Нэнси хватало ума задавать эти вопросы, во-первых, не при людях, а во-вторых – демонстративно понизив голос; она словно давала понять, что, как бы ни были ей интересны эти сведения, смущать Римини или выпытывать у него то, что он хочет сохранить в тайне, она не собирается.
Такое душевное состояние Нэнси не могло не сказаться и на занятиях теннисом. Она и раньше играла не слишком хорошо – а теперь ее ошибки стали к тому же нелогичными и абсолютно непредсказуемыми; она полностью потеряла всякое чувство дистанции – то держалась у задней линии площадки, то зачем-то выбегала к сетке, когда это было совершенно не нужно; она металась по корту беспорядочно, то опаздывая к мячу, то, наоборот, оказываясь в нужном месте слишком рано. Даже неплохо поставленные удары совершенно перестали у нее получаться – и с каждым днем ситуация усугублялась: уже и элементарные драйвы и слайсы выходили по-детски коряво. Римини мысленно окрестил этот стиль – «размахнись коса». Нэнси отвлекалась, начинала о чем-то говорить, смотрела куда-то в сторону, а угодив, например, мячом в сетку, через полкорта шла за ним вместо того, чтобы взять другой мяч – любой из множества тех, что валялись от нее в шаге-другом. Десятую часть этих нелогичных поступков Нэнси совершала неосознанно; остальные девять десятых имели своей целью привлечь внимание Римини, добиться того, чтобы он перешел на ее сторону площадки и стал объяснять ей тот или иной прием игры. Нэнси все казалось, что ей удастся воссоздать тот прекрасный момент первого головокружительного соприкосновения. И Римини подходил к ней, вставал рядом и, следя за положением тела ученицы и постановкой ее рук, синхронизировал движение ее ног, но делал это все с каким-то внутренним безразличием: его совершенно не заводили ни бездонные вырезы на ее блузах, ни нежный, встающий дыбом пушок на загорелой коже, ни ее почти прозрачные шорты.
Наконец, в одно яркое солнечное утро, произошло то, что рано или поздно должно было произойти. Римини, как и предполагал план тренировки, здорово загонял Нэнси, подавая ей мячи то к задней линии площадки, то к самой сетке; взявшаяся за дело поначалу с азартом, Нэнси вскоре вконец вымоталась и нанесла очередной удар по мячу, вложив в него, в буквальном смысле слова, все силы. Ощущение было такое, что она хочет пробить насквозь сетку, ограждавшую корт, и отправить этот мяч в черную дыру. Римини перехватил мяч; отбивать его не понадобилось – он просто подставил ракетку, погасив скорость, и едва заметным движением отправил его в центр площадки; мячик на миг завис в воздухе, а затем рухнул вниз и, зацепившись за сетку, ударился о поверхность корта на стороне Нэнси. Эту партию они играли без счета, и к тому же подача была проиграна Нэнси уже несколько секунд назад, – в общем, нужды брать этот мяч не было никакой. Тем не менее Нэнси изо всех сил рванулась с задней линии к сетке, надеясь все же подставить ракетку под мячик прежде, чем он второй раз ударится о корт, и, быть может, даже перебросить его через сетку на половину Римини. Бежала она изо всех сил – не обращая внимания на предостерегающие возгласы Римини, не замечая, что сама при этом закричала в полный голос. Это продолжалось, пока она не почувствовала какое-то препятствие – то была всего лишь неровность линии подачи, а не подхватившая ее мужская рука, как ей бы того хотелось. Нэнси споткнулась и растянулась на площадке, проехавшись по ней животом и грудью. Такое падение, как Римини знал из собственного опыта, не было опасным; чтобы ободрить Нэнси, он – по примеру отца, который частенько прибегал к этому педагогическому средству, занимаясь с маленьким Римини в спортивном клубе, – взял да и рассмеялся, давая пострадавшей понять, что не видит повода переживать и беспокоиться; разумеется, он подбежал к Нэнси и протянул ей руку, чтобы помочь подняться. К этой секунде у нее внутри уже все кипело. «Ничего страшного, травм, думаю, нет», – сказал Римини, помогая ей встать. Нэнси выложила свой последний козырь: забыв, как смешно и нелепо она только что выглядела, она эффектно продемонстрировала Римини небольшую ссадину на колене. «А, так это царапина. Сущая ерунда, уверяю вас», – сказал Римини, поднимая с земли ракетку Нэнси и протягивая ее собеседнице.
Вскоре занятие закончилось, и Нэнси, злая на себя и на Римини, швырнув несколько банкнот – тренерский гонорар за месяц – на чехол ракетки инструктора, пошатываясь, направилась в сторону клубного бара, явно намереваясь существенно увеличить дозу своего традиционного утреннего алкогольного утешения. Римини остался сидеть на скамейке у входа на корт, наслаждаясь минутами тишины и безделья. Ноги приятно гудели, минеральная вода казалась райским нектаром; он с удовольствием вытирал чистым полотенцем вновь и вновь выступавший на лице и шее пот. Через некоторое время Римини почувствовал, что чего-то не хватает. Посмотрев на часы, он понял, что Бони, скорее всего, опять дезертировал с поля теннисной войны и, по всей видимости, сейчас отсыпается после очередной весело проведенной ночи. (Римини все не решался донести на Бони его матери и уже чувствовал себя его сообщником.) В общем-то, можно было уходить, но Римини решил посидеть еще немного, а затем – прогуляться по территории клуба. Утро было на редкость солнечным, но не жарким, народу вокруг почти не было, слышался лишь шелест поливалок, шуршание грабель, разравнивающих соседний корт, да щебетание птиц; картина столь благостная, что Римини усомнился, не сон ли все это. Он допил воду и встал со скамейки. Посмотрев на здание клуба, он увидел, что на террасе официант как раз убирает столик, за которым только что сидела Нэнси. Римини перекинул сумку через плечо и направился по дорожке между кортами. Он миновал небольшой пустой бассейн, дно которого, стоя на четвереньках, оттирал от грязи рабочий, обошел футбольное поле, поднялся на невысокий холм, прошел мимо большой беседки, еще с выходных украшенной гирляндами по поводу какого-то детского праздника, и вернулся к зданию администрации, срезав угол через внутреннюю автостоянку клуба. На всем пути его преследовал сладкий, чуть душноватый запах цветущего жасмина. Чувствовал себя Римини просто великолепно. Уже у самого клуба до его слуха вдруг донесся звонкий удар, а затем послышалось «К Элизе» – но в непривычном исполнении, словно на плохом синтезаторе и явно в ускоренном темпе; такие мелодии устанавливают в телефонные коммутаторы, чтобы абоненту не было скучно держать у уха трубку. Лишь спустя несколько секунд Римини понял, что это сработала автомобильная сигнализация. Он подошел к металлической сетке, ограждавшей территорию клуба, чтобы посмотреть, что происходит на стоянке. Белая «мазда» Нэнси была на месте – как обычно, припаркованная наполовину в выделенном ей желтом квадрате, а наполовину в соседнем. Рядом с автомобилем стояла Нэнси – темные очки на глазах, сигарета в зубах – и изо всех сил лупила рукояткой ракетки по боковому стеклу, уже треснувшему и рассыпавшемуся на сотни осколков. Римини ворвался в здание клуба, пересек холл, увернулся от тележки с полотенцами и выскочил на стоянку через стеклянные двери парадного входа. К тому времени, как он подбежал к белой «мазде», Нэнси совсем разошлась и принялась вымещать свою ярость на элегантном боковом зеркале заднего вида. Осколки бокового стекла сверкали на асфальте и рассыпались по сиденью, как крупные брильянты. «Ключ остался внутри», – сообщила Нэнси, обрушивая очередной удар ракеткой на металлическую ножку, при помощи которой боковое зеркало кренилось к корпусу машины. Нэнси душили слезы, сигарета, торчавшая в уголке губ, уже погасла, но говорила она довольно спокойно, каким-то отчужденным, почти обезличенным голосом. «Внутри, – повторила она. – Ключ остался внутри». Римини сунул голову внутрь салона и увидел торчащий из замка зажигания ключ с брелоком сигнализации, весело болтающимся на цепочке. «Как ее отключить?» – спросил Римини. Нэнси, уже занесшая было ракетку над крышей автомобиля, оглянулась и переспросила; «Что?» – «Я говорю, как сигнализацию отключить?» – повторил Римини. Нэнси тряхнула головой, как делают, выходя на берег, пловцы, которым в уши набралась вода, а затем вновь повторила, как припев какой-то незамысловатой песенки: «Ключ внутри». С этими словами она наконец обрушила зачехленную ракетку на крышу машины, к удивлению Римини, не оставив даже небольшой вмятины. Сам он тем временем сунул руку в разбитое окно, вытащил ключ из замка и стал наугад перебирать четыре кнопки на брелоке, нажимая их то по одной, то по две, то все вместе; в конце концов «Элиза» поперхнулась, словно подавившись, пискнула последний раз для порядка и окончательно угомонилась. Нэнси, словно она могла действовать только тогда, когда работала сигнализация, выронила ракетку и рухнула в подставленные руки Римини, умоляя сквозь слезы увести ее из этого проклятого клуба как можно скорее.
Он усадил ее на заднее сиденье, стряхнул полотенцем осколки стекла с места водителя, устроился за рулем, повернул ключ, и на приборной панели машины вспыхнули десятки лампочек – словно с ночного звездного неба порыв ветра мгновенно согнал пелену облаков. Некоторое время Римини вел машину молча, как робот, отдавшись движению. Иногда он посматривал в зеркало заднего вида на Нэнси, но всякий раз его взгляд утыкался в ее ободранное колено, выделявшееся с каким-то болезненным реализмом на кожаной обивке сиденья. Вскоре он понял, что заблудился: они оказались на какой-то узкой, обсаженной деревьями улице, где напугали двух любительниц утренних пробежек, подъехав к ним сзади. Вывернувший из-за угла школьный автобус едва не ослепил Римини, включив разом все фары. По жестикуляции шофера Римини понял, что, по всей видимости, едет по улице с односторонним движением, и явно не в том направлении, которое было предписано знаками. Он аккуратно вырулил сначала на тротуар, а затем на какую-то лужайку, уходившую к соседней улице. Несколько секунд пробуксовав на траве, Римини все же сумел снова выбраться на твердую поверхность. Человек сугубо городской, он неплохо ориентировался только в урбанизированном пространстве; природный же ландшафт, причем именно в наиболее прирученных, облагороженных человеком формах – лесопарки, пригородные озера, – был для него как лабиринт. Римини крутил баранку, переключал передачи, сворачивал с одной улицы на другую и больше всего мечтал о том, чтобы за очередным поворотом нарисовалась знакомая панорама клубной парковки. Стены из желтого кирпича, выкрашенные зеленой краской мачты с развевающимися флагами – все то, от чего еще пятнадцать минут назад он с таким удовольствием уехал, казалось ему теперь оплотом надежности. К клубу они не попали – зато неожиданно оказались буквально в двух шагах от планетария, купол которого Римини и избрал новой точкой отсчета. Он спросил плачущую Нэнси, куда та хочет попасть. Она, продолжая хныкать, как маленькая девочка, по ошибке природы запертая в этом дородном теле, заявила, что домой не поедет, а намерена немедленно показаться своему психиатру. Замечательно, сказал Римини. Следуя сбивчивым указаниям пассажирки, он выехал из Роседаля, но вдруг в зеркале заднего вида вновь появилась заплаканная физиономия, и Нэнси все тем же обиженным голосом заявила: никаких психиатров не нужно, поехали, мол, к моему костоправу. Через несколько минут они выехали к какому-то супермаркету, и Римини, глянув в зеркало, увидел, что Нэнси, как ребенок, прижалась носом к боковому стеклу и завороженно смотрит на длинную блестящую металлическую гусеницу тележек, которую парковщик толкал по стоянке в сторону магазина. Впрочем, вскоре выяснилось, что интересовали Нэнси не сами тележки, а то, что в них можно было положить.
В супермаркет они вошли бодрой и энергичной походкой, словно только-только перенеслись сюда с другой планеты, где ходить в магазин в грязной и пропотевшей спортивной одежде было самым обычным делом. Римини толкал перед собой тележку, впереди шествовала Нэнси, чудесным образом исцелившаяся без всяких костоправов и психиатров. Время от времени она брала что-то с полок и тотчас же возвращала товар на место; тележка оставалась пустой. Так они миновали отдел хозтоваров, пересекли секцию мяса, а следом за ней – «Фрукты и овощи», где парнишка-сотрудник, который раскладывал овощи по контейнерам и полкам, долго провожал взглядом бедра Нэнси, внушающие уважение одним своим объемом и эффектно колышущиеся. Наконец они выбрались в секцию алкоголя; здесь Нэнси чувствовала себя в своей тарелке. Ее распоряжения были такими четкими, что казалось, она действует по заранее разработанному плану. Тележка вскоре была почти полностью уставлена бутылками самых разных форм и размеров. Напитки Нэнси выбирала разные, от классических – джин, виски, водка, из которых она, как выяснилось, предпочитала самые дорогие марки, – до совершенно неожиданных и экзотических, таких, например, как сидр из разнообразных фруктов или же готовые алкогольные коктейли ярких кислотных оттенков, словно подсвеченные изнутри. О существовании половины из этих напитков Римини даже не подозревал. Пробираясь к кассам, он мысленно прикидывал, сколько же гостей, искушенных в потреблении алкоголя, нужно будет пригласить Нэнси, чтобы ликвидировать этот запас. Сама она тем временем ненадолго задержалась у стенда с закусками и буквально в несколько секунд заполнила остававшиеся между бутылками просветы бесчисленным количеством пакетов, кульков и коробочек с чипсами, орешками, сухофруктами и прочей, отнюдь не диетической, снедью. Кассирша поинтересовалась, не потребуется ли им доставка; Нэнси, оторвавшись от изучения этикетки какого-то греческого шампанского, лишь отрицательно покачала головой. Говорить она толком не могла, потому что ее рот был забит пригоршней чипсов из первого уничтоженного пакета – «с луком и перцем»; второй, уже открытый, – «со вкусом копченой ветчины» – Нэнси держала в руках. Покопавшись в сумочке, она выложила перед кассиршей банковскую карточку, на позолоченной поверхности которой остались отчетливые, как голограммы, жирные отпечатки.
Чуть позднее, уже протащив пятнадцать литров алкоголя по подземному гаражу дома, где жила Нэнси, Римини сполна ощутил на себе голодную живость этих жирных пальцев. Он и сам не заметил, как оказался на кухонном столе, уже заваленном грудами пакетов с чипсами, как Нэнси взгромоздилась на него, как стала тереться об него всем телом и совать ему в рот свою соленую, пахнущую чипсами руку чуть ли не по локоть. Застигнутый врасплох Римини понял, что деваться ему некуда, и попытался отвлечься, созерцая паутину, которая висела кое-где по углам кухни. Первая реакция его тела последовала, лишь когда Нэнси, потратив некоторое время на то, чтобы разобраться со шнурками и завязками спортивного бандажа под шортами Римини, наконец добралась до теплой норки, где мирно дремал его член. Спешка – главный враг удовольствия, это Римини выучил уже давно; к тому же пальцы Нэнси, хоть и жирные от чипсов, не были ни мягкими, ни деликатными – однако в какой-то момент его член, даже толком не встав, исторг из себя несколько жалких капель спермы. Чем-то это напомнило Римини иногда случавшиеся у него поллюции. Удовольствия от этих полуоргазмов было немного; гораздо приятнее было засыпать вновь, предвкушая уже не яркие, но ласковые и теплые сновидения, – вот только на этот раз он не спал, и все происходящее ему не снилось. Открыв глаза, Римини увидел прямо перед собой потное, растерянное лицо Нэнси и ее безумные глаза; она провела пальцами, влажными от спермы, по деснам – то же Римини в свое время проделывал с кокаином. Зрелище было не из приятных, но у Римини не было времени даже на то, чтобы толком испугаться. Нэнси, с силой, свойственной бесноватым, оттолкнула его, а сама, сорвав с себя шорты и трусы, заняла его место. Нэнси стояла у стола, ухватившись за край столешницы обеими руками, как утопающий за край спасательного плота, уперевшись грудью в полированные доски и выставив на обозрение Римини свой внушительный зад. «Давай, давай, – стонала она сквозь зубы. – Вставь мне, трахни меня наконец». Римини покорно подошел вплотную и прижался к ее ягодицам. Нэнси стала тереться об него, пытаясь нащупать твердое место на теле Римини, которое как раз и не желало твердеть. Она стала в ярости сбрасывать со стола принесенные из магазина пакеты, шипя и завывая при этом: «Что-нибудь, чем-нибудь! Сделай же наконец хоть что-нибудь, слышишь ты, козел?! Вставь мне, или я тебя убью». Времени на раздумья не было: Римини чувствовал себя как хирург, к которому привезли умирающего израненного пациента. Будь что будет; Римини нагнулся, сунул руку в ближайший пакет, нащупал наугад какую-то бутылку – ананасовое игристое – и всунул ее горлышко, как было, с пробкой, проволочной застежкой и оберткой из золотой фольги, в жадный зев между ног Нэнси. В ту же секунду она издала громкий стон – от удовольствия и изумления; по ее телу пробежала судорога – словно инородный предмет, оказавшийся у нее внутри, замкнул какие-то электроконтакты, – после чего Нэнси начала ритмично двигаться, все быстрее и быстрее, то глотая телом бутылочное горлышко, то вновь его выплевывая. Римини стоял неподвижно, наклонившись над Нэнси, сжимая одной рукой бутылку – предмет неодушевленный и вместе с тем исполненный жизненной силы. Нэнси продолжала двигаться, и Римини воспользовался передышкой, чтобы осмотреть место, куда его занесло. Кухня была большой и просторной; окно напротив Римини было наглухо закрыто наружными ставнями. Он обвел взглядом стены, прикрытые псевдодеревянными псевдорезными панелями, и украшавшие их позолоченные подковы и рельефные изразцы. В одном углу Римини заметил даже репродукцию Мафитта; на огромной столешнице – из мрамора, судя по всему тоже искусственного, – выстроились в полной боевой готовности новинки бытовой электротехники; на одной из стен висели часы, в углах – кашпо с вьющимися домашними растениями – не искусственными ли, мелькнуло в голове у Римини; холодильник украшала целая россыпь разноцветных магнитиков разной степени безвкусности… В какое-то мгновение Римини, еще не закончив обозрение, вдруг понял, что узнает это место, причем не только место, но и все, что с ним происходит. Долго вспоминать, где он все это видел, ему не пришлось – в памяти тотчас же всплыли кадры из порнофильмов: их герои – в таких же дорого, но насквозь фальшиво и безвкусно обставленных кухнях и спальнях – приступали к тому, ради чего только и затевалась вся эта история; жалкое подобие сюжета окончательно уничтожалось жанром, и герои превращались из людей просто в набор тел, органов для совокупления и резервуаров с жидкостями. Не забывая о Нэнси, Римини стал размышлять над тем, чем было ему интересно порно – все эти бесчисленные видеофильмы, журналы, фотографии, которые ему доводилось видеть как в юности, так и в более зрелом возрасте. Только сейчас он понял, что дело даже не в сексуальной составляющей: куда важнее членов, влагалищ, языков, множественных оргазмов, смены ритма и интенсивности половых актов был эффект, который он испытывал и сейчас, когда, не прекращая удовлетворять Нэнси, отвлекался на тысячу мелочей вокруг, – эффект какой-то сверхъестественной стереофонии; порноактеры, которые этот эффект создавали, могли по степени профессионализма сравниться только с пианистами, владевшими тем же искусством расщепления. Римини как будто одновременно находился в двух параллельных мирах – впрочем, сексуальный мир, по определению самый затягивающий и цепкий из человеческих миров, с трудом признавал одновременное существование какого-то еще. Римини почувствовал возбуждение, какое, бывало, охватывало его, когда он приходил домой из парикмахерской и, глядя в зеркало на свое непривычное стриженое отражение, испытывал мгновенную эрекцию. Продолжая скользить взглядом по стенам кухни, Римини воспользовался моментом, когда Нэнси, дернувшись слишком сильно, на миг выпустила бутылочное горлышко из своего тела, и с ловкостью фокусника произвел подмену; таким образом, внутри Нэнси, вместо горлышка бутылки, очутился самый настоящий – живой и горячий – мужской член, о котором она так долго мечтала. Нэнси словно озверела; она издала нечеловеческий вой – он органично вписался в звуковую дорожку этого домашнего порновидео, которое Римини одновременно смотрел и режиссировал. Он вошел в Нэнси, завывая и рыча, распаляемый не столько желанием ее тела, сколько картинками, которые одна за другой проносились у него в голове и подсказывали, как двигаться, – так ритм и метр определяют форму текста, который создает поэт. Взгляд Римини продолжал скользить по кухне. Тарелки, выстроившиеся на сушилке как на парад, еще не высохли, в дуршлаге лежали свежевымытые листья салата, кран над мойкой был завернут не до конца (Римини и представить себе не мог, чтобы в этой роскоши мог хотя бы на день оставаться не исправленным протекающий кран); все наводило на мысль, что чего-то (а может быть, и кого-то) главного он пока в этой кухне не разглядел. Из другого мира до него донесся рык Нэнси. Сам он там, оставаясь на своей орбите, тоже начал рычать и хрипло дышать – судя по всему, там дело шло к развязке; здесь же Римини продолжал жадно обшаривать взглядом кухню, не понимая, где в этом большом, но просто спланированном помещении мог спрятаться кто-то еще, откуда, из какой щели мог он наблюдать за ним и за Нэнси… Нэнси застучала по столешнице обеими ладонями и, издав невероятный, какой-то замогильный стон, кончила. Римини кончил буквально несколько секунд спустя – скорее за компанию. Поставив отслужившую бутылку на пол, он разогнулся, тяжело вздохнул и вздрогнул от неожиданности: где-то за его спиной послышался звук поворачивающейся ручки и щелкающего замочного язычка. Он оглянулся: медленно-медленно, словно во сне, за его спиной стала приоткрываться узкая незаметная дверь; в проеме мелькнула и вновь исчезла в полумраке чья-то тонкая рука. «Туалет… Для прислуги», – с трудом разлепив губы, пробормотала Нэнси, по-прежнему стоявшая, уткнувшись лицом в кухонный стол. Дверь наконец открылась полностью, и Римини увидел сидящую на унитазе молодую женщину; она смотрела куда-то вверх невидящими глазами, ноги ее были широко расставлены – ступнями она упиралась в дверной косяк; кончик языка она зажала между зубами – по всей видимости, чтобы не кричать и не мешать Нэнси и ее гостю заниматься своим делом; одну руку девушка вытянула перед собой, явно пытаясь достать до ускользнувшей двери, а вторую запустила себе между ног, задрав подол платья с фартуком; судя по всему, рука эта как раз заканчивала свою работу. Все продолжалось буквально несколько секунд: мир замер, и единственным живым, движущимся предметом в нем осталась эта жадно вибрирующая рука. Наконец девушка довела себя до оргазма и кончила, не издав ни звука. Лишь по всему ее телу пробежали стремительной волной сильные судороги. «Это Рейна, служанка», – сообщила Нэнси. Она встала, поправила себе волосы, подняла со стола очки и оттеснила Римини, давая понять, что на данный момент он сделал все, что от него требовалось. «Рейна, будь добра, налей мне воды с газом, в высокий стакан», – попросила она. «А сеньору?» – поинтересовалась Рейна, вставая с унитаза и ударившись головой о водогрей на стене. «Не знаю. Спроси его», – сказала Нэнси, выходя из кухни. Рейна, не до конца прикрыв дверь в туалет и поправив платье, поинтересовалась: «Сеньор? Чай, кофе, минеральная вода?» Римини ее не слушал – его внимание было поглощено тем, что он увидел за спиной девушки, на стене туалета. Вытянутый вертикально прямоугольник с маленьким кружком в центре. Он висел между краем водогрея и рукояткой унитаза и слегка покачивался – служанка, вставая, задела его плечом или спиной. Римини медленно, не веря своим глазам, направился в сторону туалета. «Сеньор?» – вновь окликнула его Рейна. Римини, не оглядываясь, сделал еще два шага и оказался на пороге туалетной комнаты. Напротив него висела картина. Рильтсе. Оригинал.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
«Ложное отверстие» – один из эскизов к серии «Клиническая история», которую Джереми Рильтсе, по всей видимости, написал – или только задумал – в 1991 году. За этот год художника по крайней мере трижды принимали за умершего, когда находили в кемпингах, в передвижных фургонах – там он скрывался, когда уже не мог выносить тошноты, которую в нем вызывал Лондон. Эскизом это произведение называлось именно потому, что представляло собой завершенную картину. В письме, отправленном Рильтсе из Гамбурга мажордому его агента (с агентом он после очередной судебной тяжбы общался лишь через прислугу), художник единственный раз упоминает задуманную серию «Клиническая история» и однозначно дает понять, что намерен на этот раз полностью перевернуть традиционные представления о соотношении эскизов и законченных произведений. Эскизов к этой серии сохранилось четыре штуки; законченных картин так никто никогда и не видел, хотя Рильтсе упоминал о том, что именно картины, а не эскизы собирается представить на суд публики. Возможно, что эти готовые картины либо были утрачены во время длительных и беспорядочных путешествий художника, либо же – что представляется более вероятным – канули в один из многочисленных провалов его памяти, которыми, к сожалению, были ознаменованы последние годы жизни Рильтсе. Более того, вполне вероятно, что на самом деле Рильтсе и не собирался писать их, а упомянул об этой серии и написал несколько эскизов лишь из тактических соображений – для того, чтобы оживить угасший интерес к себе и, соответственно, поднять рыночную цену своих картин. Впрочем, и это всего лишь версия, и ничто не мешает сделать более прозаическое предположение – очень может быть, что какие-то дела отвлекли его от написания новых картин или же, в процессе долгого творческого поиска, художник сам решил, что писать их не следует.
Существуют две биографии Рильтсе – во многом противоречащие друг другу; тем не менее оба автора сходятся в том, что художник отказался от проекта «Клиническая история» после случайной встречи с Пьером-Жилем на центральном железнодорожном вокзале Франкфурта в суровом ноябре 1991 года. Пьер-Жиль, не доверявший самолетам, так же как и банкам, ехал из Амстердама с двадцать шестой церемонии вручения премии «Hot d’Or», где ему была присуждена победа сразу в полудюжине номинаций. Была среди статуэток, которые вез с собой Пьер-Жиль, и самая престижная, самая желанная для всех, кто работал в этой индустрии, – «Большой Hot d’Or»: она вручалась лучшему порнопродюсеру европейского кино. На церемонии вручения Пьер-Жиль потряс публику, продекламировав со сцены стихи Поля Элюара. Рильтсе к тому времени уже почти две недели жил безымянным бродягой прямо на вокзале, не выходя на улицу. Днем он ходил из кафе в кафе, с потрепанным блокнотиком в клеточку и карандашом в руках (который подтачивал по мере необходимости ногтем большого пальца); не слишком брезгливым посетителям он предлагал недорого набросать их портрет. Ночевал Рильтсе в дальнем углу багажного отделения, где ложем ему служила тележка для чемоданов, а постельным бельем и одеялом – картонные коробки да старые газеты. В качестве подушки он подкладывал себе под голову все тот же блокнот. Пьер-Жиль узнал его мгновенно – не по внешнему облику: обросший неряшливой бородой, весь в соплях и псориазных пятнах, Рильтсе не слишком походил на того красавца, с которым когда-то был знаком Пьер-Жиль; разумеется, и годы сделали свое дело. Но Пьер-Жиль ни с чем не мог спутать этот кашель, звучавший, как звук трубы архангела; неизменной оказалась и обувь Рильтсе – ботинки с застежкой на боку, в битловском стиле: он традиционно наращивал их толстенными набойками, чтобы прибавить себе несколько сантиметров роста. Пьер-Жиль увидел его, узнал, после чего – как пишут оба биографа – опустился перед ним на колени и, заливаясь слезами, попросил прощения; и то, и другое жизнеописание задается вопросом – за что. По словам опять-таки обоих биографов, он признался ему в любви и предложил все, что у него было: поддержку, заботу, деньги, средневековый замок в Сельва-Негра (там, в подвалах, и размещались основные съемочные павильоны студии, продюсером которой он был) и виллу в Торремолинос, где в ролях личных тренеров, шоферов, сотрудников, домашней прислуги выступали самые одаренные звезды, снимавшиеся на той же студии, – так Пьер-Жиль боролся с заработками на стороне. Он предложил Рильтсе все до последнего гроша, заработанного им с тех пор, как они виделись последний раз. Это было почти за полвека до того дня – в Лондоне, в зале судебных заседаний; Пьера-Жиля привели в наручниках и не то под конвоем, не то под охраной двух полицейских. Судья зачитал приговор: Пьер-Жиль не должен был ни под каким предлогом приближаться к Рильтсе ближе чем на два километра. В зале раздался взрыв саркастического хохота – Рильтсе думал, что навсегда избавился от назойливого обожателя. На вокзале Рильтсе откинул прядь волос со лба Пьера-Жиля и несколько секунд неподвижным взглядом смотрел на этого огромного человека, распростертого перед ним на коленях, как язычник перед статуей божества; потом похлопал его по плечу, словно утешая безумца, развернулся и ушел прочь, распространяя вокруг себя зловоние – смесь запаха немытого тела, пота, мочи, отработанного машинного масла и железнодорожной пыли. Рильтсе улыбался – как человек, с которым только что произошло какое-то маленькое чудо и который предвкушает эффект от своего последующего рассказа об этом.