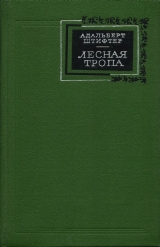
Текст книги "Лесная тропа"
Автор книги: Адальберт Штифтер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 37 страниц)
Я никогда еще ничего подобного не видел.
Деревенские жители сшибали с застрех неимоверно разросшиеся сосульки, – ломаясь от собственной тяжести, они грозили увлечь за собой куски дранки или целые желоба. Выйдя на красивую площадь, которую образовали стоящие кругом дома, я увидел, что две служанки везут на санках воду, – неся в руках, они расплескали бы ее. Колодезный сруб находился посреди площади, вокруг него намело гору снега, она заледенела, приходилось топором вырубать в ней ступеньки. А в общем, жители сидели по домам; если вы кого и встречали на улице, то он с головой кутался от дождя и осторожно переставлял ноги на немыслимо скользкой глади.
Но пора было ехать дальше. Каурый, которому пришлось снова править подковы, повез нас ровными полями к тому лесистому мысу, огибаемому руслом Зиллера, где стоит много деревянных хижин. В поле услышали мы гудящий удар падения, но так и не разгадали его причины. На меже попалась нам сверкающая верба, ее тугие серебряные сучья свисали вниз, словно расчесанные гребнем. Лес, к которому мы направлялись, весь заиндевел, но деревья отбрасывали сверкающие искры, и на фоне тусклого светло-серого неба он казался отлитым из полированного металла.
От деревянных хижин воротились мы назад полями, но только наискось, по дороге в Айдун. Копыта каурого цокали с тяжким звоном, казалось, увесистые камни ударяются о металлический щит. В Айдуне закусили мы в трактире, так как сильно задержались в пути, и, снова очистив от льда сани, лошадь и одежду, поехали по направлению к дому. Мне надо было еще наведаться в хижины на выезде из деревни, а там уже можно было выезжать на равнину, где летом тянутся айдунские луга, а зимой беспрепятственно ходит и ездит всякий, у кого есть дела на лесистом косогоре или в Верхнем Хаге. Оттуда нам предстояло свернуть на проезжую дорогу, которая из Таугрунда ведет домой.
Пока мы катили на высоте доброй сажени над лугами, до нас снова донесся такой же гудящий удар, как давеча, словно от тяжелого падения, но мы так и не уразумели, что это за звук и откуда он исходит. Мы радовались возвращению, дождь и сырость пронизывали до костей, утомляла гололедица, постепенно охватившая все и вся. Когда мы сходили с саней, каждый шаг требовал внимания и осторожности, и хоть идти приходилось немного и недалеко, самое напряжение неимоверно утомляло.
Но вот мы подъехали к Таугрунду, и тамошний бор, спускающийся вниз с холмов, уже надвигался, как вдруг из чащи деревьев на вершине живописного утеса донесся странный звон, какого нам еще не доводилось слышать, словно тысячи или даже миллионы стеклянных стержней ударялись друг о друга и в хаотическом смятении отступали вспять. Хвойный лес, лежащий справа, отстоял еще слишком далеко, чтобы мы могли явственно слышать исходившие оттуда звуки, и они казались тем более странными от царящей в небе и на земле тишины. Мы проехали еще немного вперед, прежде чем удалось придержать каурого; предчувствуя возвращение в конюшню, он после тяжелого дня все прибавлял и прибавлял рыси. С трудом остановив его, мы услышали в воздухе какой-то неопределенный шум, и больше ничего. Этот шум не имел ничего общего с тем отдаленным гулом, который только что донесся к нам сквозь лошадиный топот. Мы опять припустили вперед и, все ближе подъезжая к Таугрундскому лесу, уже видели темнеющую арку там, где дорога уходит под своды деревьев. Хоть было еще сравнительно рано и серое небо казалось совсем светлым, точно вот-вот проглянет солнце, – это все же был зимний день, такой хмурый, что лежащие перед нами заснеженные поля словно выцвели, а в лесу, казалось, сгустились сумерки. Обманчивое впечатление это объяснялось тем, что блеск снега резко контрастировал с теснящимися друг за другом темными стволами.
Мы уже готовились въехать под лесные своды, как вдруг Томас придержал коня. Нам преградила путь тоненькая ель; согнувшись обручем, она образовала над лесной просекой арку, какие обычно ставят при въезде венценосцев. Несказанно пышное убранство отягчало ветки деревьев. Словно шандалы с опрокинутыми свечами необычайной величины, высились хвойные деревья. Все сверкало серебром – и свечи и подсвечники, но не все они стояли прямо, иные покосились в ту или другую сторону. Мы наконец поняли, что за гул донесся к нам давеча по воздуху. Это было не в отдалении, а здесь, рядом. По всей лесной чаще стоял треск ломающихся и падающих сучьев и веток. От этого веяло жутью в окружающей тишине, ибо все кругом цепенело в ослепительном великолепии, не шевелилась ни одна ветка, ни единая хвоинка – покуда глаз не натыкался на очередное дерево, которое отяжелевшие сосульки клонили долу. Мы выжидали и только озирались по сторонам – не то в изумлении, не то в страхе, не решаясь въехать в заколдованный лес. Наш конь, казалось, разделял эти чувства, бедняга насторожился и, нерешительно переступая, налегал крупом на сани, рывками отталкивая их назад.
Мы еще не обменялись ни словом. Пока мы выжидали в нерешительности, по лесу снова прокатился удар, какой мы сегодня слышали уже дважды. Знакомый звук: сначала громкий треск, словно крик от боли, затем не то короткое веяние, не то тяжкий вздох, не то свист, а за ним – глухой гудящий звук удара, с каким кряжистый ствол низвергается оземь. Тяжелый удар прокатился по лесу сквозь чащу дымящихся ветвей. Грохот сопровождался звоном и вспышкою света, словно кто-то ворошил и встряхивал тысячи оконных стекол, – и снова все улеглось, и только стволы стояли, теснясь друг возле друга. Все замерло, и лишь по-прежнему носился в воздухе незатихающий гул. Странное впечатление производило падение сука, или ветки, или куска льда, где-нибудь поблизости. Мы не знали ни что падает, ни где, а только видели мгновенную вспышку света и слышали шум падения, но не видели облегченно подпрыгнувшей ветки – и снова все впадало в тяжкое оцепенение.
Мы поняли, что нам не следует углубляться в лес. Возможно, где-то на дороге уже лежит такой поверженный великан с разветвленной кроной; его ни объехать, ни обойти – деревья здесь стоят так густо, что иглы их смешиваются, к тому же стволы от самого комля занесены плотным снегом. А что, если в лесу придется повернуть вспять и нам преградит обратный путь другой рухнувший тем временем великан, – не окажемся ли мы в ловушке? Дождь все еще шел. Сами мы были опять так спеленаты льдом, что повернуться не могли, не расколов эту корку; сани тоже обледенели и отяжелели, а у каурого была своя ноша. Если какая-то часть дерева перевесит, пусть всего лишь на какую-нибудь унцию, оно рухнет; наконец, может переломиться ствол, да и остроконечные клинья сосулек сами по себе представляли при своем падении немалую опасность; к тому же много их усеяло дорогу, по которой нам предстояло ехать, а пока мы не двигались с места, из отдаления доносились все новые гулкие удары. Оглянувшись назад, мы нигде на полях, да и во всей окрестности не обнаружили ни одного человека. Ни единого живого существа на всем большом пространстве, кроме нас с каурым!
Я велел Томасу повернуть назад. Мы слезли с саней, отряхнулись, насколько возможно, и очистили гриву и хвост каурого от ледяных корок. Нам показалось, что лед нарастает скорее, чем утром, – то ли потому, что прежде мы неотрывно следили за обледенением и не улавливали постепенных переходов, тогда как днем, занятые другим, интересовались этим лишь от случая к случаю и скорее всё замечали, то ли оттого, что похолодало, да и дождь зачастил. Трудно сказать. Итак, Томас завернул каурого с санями, и мы со всей возможной поспешностью направились к ближайшим айдунским домам. В то время на выезде из Айдуна, у еще отлогих склонов Бюля стоял трактир, ныне купленный Бурманом, который занимается исключительно сельским хозяйством. Туда мы и поехали кратчайшим путем по твердому насту, минуя дорогу. Я попросил трактирщика освободить для моей лошади местечко в хлеву. Он не стал возражать, хотя ему пришлось одну из коров перевести в закром, где у него хранится солома и дневной запас кормов. Сани мы поставили в каретник. Устроив все это и снова очистившись от льда, я достал из саней то, что мне требовалось на завтра, и сказал Томасу, что пойду домой пешком; мне к вечеру надо быть дома, чтобы приготовить все на утро; завтра мне предстоит ехать в другом направлении, там ждут меня больные, которых я не видел сегодня. Таугрунд я хотел обойти и, повернув на Гебюль, подняться лугами Мейербаха налево, к ольшанику, не представляющему никакой опасности, а уже оттуда пробраться к тальнику и, наконец, к моему дому в ложбине.
Но Томас решительно отказывался отпустить меня одного. Он сослался на то, что указанный путь холмист и от лугов ведет к возвышенности, – подъем на нее крут и сейчас, в гололедицу, представляет опасность, не говоря уже о том, что возможны обвалы. Преданный Томас заявил, что пойдет со мной, мы поможем друг другу перебраться через луга и через ольшаник. Сани и коня оставим здесь, он скажет трактирщику, чем кормить каурого и как за ним ходить. Завтра он вернется сюда за конем. Если мне выезжать спозаранок, я могу взять лошадь в Ротберге, отрядив за ней Готлиба или кого другого, лишь бы господь ниспослал день, когда не страшно выйти под открытое небо.
Пришлось согласиться с доводами Томаса, тем более что мне могли встретиться деревья, которых раньше я не замечал – ведь в обычное время всего не рассмотришь, – да не пришлось бы местами идти в обход, да не потребовалось бы опять повернуть назад, если не удастся пробиться; итак, я разрешил Томасу меня сопровождать – вдвоем идти куда удобнее, общими усилиями легче противостоять всяким трудностям.
У меня всегда припасены в санях железные кошки, ведь мне часто приходится в пути слезать и пешком подниматься на крутые холмы, которых так много в нашем краю. Иные мои пациенты живут на высоких увалах, и в гололедицу к ним либо вовсе доступа нет, либо с величайшим трудом и риском карабкаешься по нехоженым тропам, покрытым льдом и снегом. На всякий случай я беру с собой две пары кошек – одна всегда может выйти из строя. Сегодня они не понадобились мне, идти приходилось по ровному, а я предпочитаю не приучать ноги к подобной опоре. Но сейчас я достал из саней кошки и одну пару отдал Томасу. Затем вынул инструменты и прочее снаряжение, которое завтра потребуется мне для больных. Над полозьями саней, вдоль плетеного кузова, прикреплены у меня ремнями альпенштоки с крепкими железными наконечниками и железным крюком в верхней части, которым врубаешься в лед и на нем повисаешь. Набалдашник мешает альпенштоку выскользнуть из рук. На всякий случай я вожу с собой два таких альпенштока и, когда Томас вытащил их из ремней, вручил один ему, а другой оставил себе. Мы сразу же, не задерживаясь, выступили, ибо в такие дни рано вечереет и ночи стоят темные. Томас ко всему прочему захватил потайной фонарик и запасся для него огнивом.
По открытому полю до окрестностей Таугрунда шли мы без кошек, при помощи одних палок, и это взяло у нас много сил. Когда же мы приблизились к лесу и снова услышали знакомый жуткий гул, то свернули влево, к лугам Мейербаха – лесной прогалине, ведущей напрямки к моему дому.
Мы подошли к лугу, вернее сказать, догадались, что пересекли по насту его границу, ибо ледяная корка начала понемногу опускаться вниз; здесь протекал ручеек, над которым возвышался слой снега сажени в две высотой. Поскольку грунт тут ровный, а снеговой покров и ледяная корка указывали своим блеском на гладкий пологий спуск, мы рискнули спуститься при помощи альпенштоков. И правильно сделали: кошки только задерживали бы нас, а так мы слетели мгновенно, воздух ударял нам в лицо и ерошил волосы. Мы даже подумали, что поднялся ветерок, но нет, – кругом царило такое же невозмутимое спокойствие, какое отличало весь этот день. Тут надели мы кошки, чтобы подняться наверх, переправиться через значительную вершину и выйти к ольшанику. К счастью, я всегда слежу за тем, чтобы шипы кошек были хорошо отточены и отшлифованы, – мы поднялись на высокий холм, теперь походивший на исполинский зеркальный вал, так уверенно, как будто с каждым шагом прилипали к его глади. Став на край горы Геерлес, откуда открываются широкие горизонты, мы решили, что смеркается, так как при взгляде сверху блеск льда приобрел оттенок олова, а там, где сугробы образовали овраги и ямы, лежали сероватые тени: но причины тусклого освещения заключались, видимо, в особенности света; пробивая густую белесую наволочь, он давал этот сумеречный тон. Мы видели и леса, тянущиеся по ту сторону высоких гор; на фоне неба и снега они казались серыми или черными, и наполнявшее их движение – тот самый приглушенный гул – еле-еле доносилось к нам, зато мы ясно слышали, как падают деревья, а следом – протяжное гудение, отдающееся в толще гор.
Мы не стали здесь задерживаться, а устремились вперед, к ольшанику, чтобы как можно скорее сквозь него пробраться. Здесь сняли кошки и повесили их через плечо. С трудом проламывались мы через кустарник, который ощетинился своими сучьями и ветвями, торчащими во все стороны под облепившим их снегом. Подобно бесчисленным копьям и мечам, они нацелились на нас, угрожая изодрать одежду и впиться нам в ноги, – и тут опять пошли в дело альпенштоки. Мы молотили ими по кустарнику, разбивая и кроша лед и дерево, и, поддерживая друг друга в этой борьбе, продирались сквозь колючие заросли. Однако времени это взяло немало.
Когда мы наконец вырвались на волю и, стоя у тальника, глядели вниз на долину, где ютился наш дом, уже и в самом деле смерклось, но это больше не беспокоило нас, мы были почти у цели. Сквозь густой серовато-белый туман увидели мы крышу, над которой вился дымок, – должно быть, экономка Мария готовила ужин. Тут мы опять надели кошки, не торопясь спустились вниз и, добравшись до ровного места, снова их сняли.
Перед дверьми соседних домов стояли кучками люди и глядели на небо.
– Ах, господин доктор, – окликали меня со всех сторон, – откуда вы в такую ужасную погоду?
– Из Дубса и Айдуна, – отвечал я. – Лошадь с санками пришлось оставить там, а сами мы воротились лугами и тальником, потому что лесом ни проезда, ни прохода нет.
Я немного постоял с ними. День и правда выдался ужасный. Из лесов со всей округи уже и сюда доносился зловещий гул и слышался вперемежку грохот падающих деревьев, он все учащался, и даже из высокого бора, не видного за густым туманом, доносился треск и грохот. Небо, все такое же белесое, как и днем, к вечеру даже еще посветлело; воздух был недвижим, и сыпал отвесный мелкий дождь.
– Храни господь путников, что бродят сейчас в открытом поле или, чего доброго, в лесу, – сказал кто-то из стоящих вокруг.
– Небось все они уже под крышей, – отозвался другой. – Сегодня добрый хозяин собаку не выгонит на улицу, не то что человека.
Нас с Томасом сморила тяжелая ноша, и, чувствуя, что силы на исходе, мы попрощались и пошли домой. Каждое дерево черным пятном окружал словно сбитый градом валежник. Деревянная решетка, отделявшая мой двор от будущего сада, сверкала серебром, словно решетка перед церковным алтарем; у старого сливового дерева, принадлежавшего еще старику Аллербу, начисто снесло верхушку. Ель, под которой стоит летняя скамейка, домашние мои спасли тем, что жердями сбивали с нее лед, а когда начало клонить верхушку, Каэтан, мой второй работник, взобрался наверх и осторожно оббил нависшие над головой сосульки. Не ограничившись этим, он привязал к верхним сучьям две веревки, а концы спустил вниз и время от времени встряхивал их. Все они знали, как я люблю это чудесное дерево, его зеленые ветки так густо опушены хвоей, что нависший огромной тяжестью лед непременно расколол бы его или обломил бы сучья. Я поднялся в свою уютную, теплую комнату, сложил захваченные из саней вещи на стол и сбросил платье, чтобы его хорошенько отряхнули и повесили на кухне сушиться.
Когда я переоделся, мне сказали, что Готлиб, предполагая, что я приеду на санях, спустился в Таугрундский лес встречать меня и до сих пор не вернулся. Я послал за ним Каэтана, наказав, чтобы он взял кого-нибудь с собой, лишь бы нашелся охотник, да не забыл бы прихватить фонарь, кошки и горные палки. Когда Готлиба привели, он был покрыт ледяным панцирем повсюду, куда не мог достать рукой, чтобы счистить лед.
Я слегка подкрепился оставленным мне обедом. За окнами стемнело, надвигалась ночь. Уже и в комнату проникал зловещий ропот, и я слышал, как люди мои в беспокойстве расхаживают внизу.
Немного спустя зашел ко мне Томас, успевший тоже переодеться и покушать, и доложил, что перед нашим домом собираются соседи и все они в крайней тревоге. Я надел теплый сюртук и, взяв палку, направился по льду к домам напротив. Сумерки сгустились, и в потемках только смутно отсвечивал лед снежной белизной. Я чувствовал капли дождя на лице и на руке, державшей палку. Гул в темноте усилился, он доносился отовсюду, куда уже нельзя было проникнуть взглядом, словно ропот отдаленных водопадов; треск становился все явственнее, казалось, наступает мощное войско или надвигается молчаливый бой. Подойдя к соседним домам, я увидел на снегу чернеющие кучки людей, они стояли не у дверей и не у стен домов, а в свободном пространстве между ними.
– Ах, доктор, помогите! Помогите, доктор! – послышались взволнованные голоса, едва лишь меня завидели и узнали мою походку.
– Я ничем не могу вам помочь, – отвечал я. – Один бог всесилен, он поможет нам и спасет нас.
Некоторое время мы стояли, прислушиваясь к зловещим звукам. Из разговоров я понял, что эти люди боятся, как бы ночью не раздавило их дома. Тогда я пояснил им, что на всех деревьях, особенно в нашей местности, где преобладает хвоя, на каждой хворостинке, на каждой крохотной хвоинке неустанно собираются капли дождя, они замерзают, и нагнетающий груз оттягивает книзу сучья, ветки и каждую отдельную хвоинку, и в конце концов пригибает дерево к земле и ломает его; что же до крыши, где лежит ровный пласт снега, то вода почти целиком с нее стекает, тем более что гладкая ледяная корка усиливает сток. Пусть попробуют сколоть киркой лед с крыши: они убедятся, как тонка ледяная корка, образующаяся на наклонной плоскости. С деревом дело обстоит так, словно бесчисленные пальцы, ухватившись за бесчисленные волосы и руки, тянут их вниз, тогда как с крыши вода стекает и смерзается в сосульки, которые сами по себе безвредны, – они либо ломаются, либо мы их сшибаем. Так удалось мне успокоить встревоженных людей, которых сбило с толку то, что знакомое явление предстало перед ними с еще неведомой доселе силой.
Я снова вернулся к себе. Сам я отнюдь не был так спокоен, как старался показать, меня трепала внутренняя дрожь: а что, если дождь так и будет лить, а деревья так и будут рушиться, да все чаще и чаще, как сейчас, когда эта неурядица, казалось, достигла высшей точки. Тяжести все нарастали – лишняя унция, лишняя капля могла бы теперь свалить и столетнее дерево. Я зажег свечу и решил не ложиться этой ночью. Готлиб так долго дожидался меня в Таугрунде, что к вечеру у него появился жарок. Я послушал его и послал ему лекарство.
Спустя час ко мне снова явился Томас сообщить, что соседи собрались для молитвы, так как шум становится ужасен. Я сказал ему, что ждать уже недолго, скоро погода переменится, и он ушел.
Я шагал взад и вперед по комнате, куда врывался гул, подобный ропоту морских волн, и, когда прилег на кушетку, меня тут же сморила усталость. Проснулся я оттого, что над крышей дома что-то рвало и бушевало, и спросонья ничего не мог взять в толк. Но затем встал, встряхнулся, подойдя к окну, открыл одну створку и тут обнаружил, что задул сильный ветер. Я решил посмотреть, идет ли дождь, а также холодный или теплый дует ветер. Закутавшись в плащ и взяв свечу, я вышел в переднюю и увидел, что сбоку, из комнатки, где спит Томас, сочится свет. Томаса я устроил рядом, чтобы в случае чего иметь возможность ему позвонить. Войдя к нему, я увидел, что он сидит за столом. Он так и не ложился – из страха, как он мне признался. Я сказал, что хочу спуститься вниз посмотреть, какая погода. Он тотчас же вскочил, взял лампу и пошел следом. Спустившись в прихожую, я поставил свечу в нишу лестничной клетки, а Томас поставил рядом лампу. Я отворил дверь во двор, и, когда мы из сеней вышли наружу, нам пахнуло в лицо теплым воздухом. Странная погода, которую мы наблюдали весь день, наконец сдала. Теплый воздух, поступавший с юга и державшийся в верхних слоях облаков, переместился, как обычно, в нижние слои, и порожденные им воздушные токи превратились в настоящую бурю. Да и в небе, насколько мне удалось разглядеть, произошла перемена. Безжизненная серая его окраска изменилась, я видел тут и там рассеянные темные и черные окна. Дождь уже не моросил, а крупными редкими каплями ударял нам в лицо. Пока я медлил у порога, ко мне подошли какие-то люди, по-видимому остановившиеся поблизости. Дело в том, что мой двор непохож на другие дворы, а в то время он и вовсе стоял нараспашку – заходи кому не лень! Каменные строения, сходящиеся под прямым углом, являются вместе с тем двумя сторонами двора. С третьей стороны он был пока обнесен деревянной оградой, за которой я только еще начинал разводить сад, куда вход был через деревянную же решетку. Четвертая сторона двора, обращенная к улице, была тоже обнесена неплотно пригнанными досками, а деревянные решетчатые ворота в то время, как правило, не запирались. Посреди двора я собирался рыть колодец, но до этого все не доходили руки. Таким образом, любой желающий мог зайти ко мне во двор. Люди стояли за воротами и с великим страхом наблюдали за странностями погоды. Когда они увидели, что свет у меня погас, а потом, спускаясь вниз, замелькал в лестничной клетке, то догадались, что я схожу во двор, и решили подойти поближе. Теперь, когда ко всему прочему сорвался сильный ветер, они боялись, как бы это не повлекло за собой новые опустошения и еще неведомые бедствия. Я успокоил их, пояснив, что ветер к добру и что все худшее уже позади. Теперь, надо думать, холод, державшийся на поверхности земли, окончательно схлынет. Ветер дует теплый, и, следственно, лед не будет прибавляться, скорее наоборот. К тому же от ветра, которого они испугались, не предвидится деревьям такого вреда, как это было при полном безветрии. Едва поднявшись, он, конечно, не так напорист, чтобы сломать и без того перегруженные льдом стволы, и все же достаточно силен, чтобы стряхнуть воду, скопившуюся в хвое в свободном состоянии, и сбросить слабо держащиеся на ветвях сосульки. Дальнейшие, более сильные, его порывы обрушатся на во многом уже освобожденные от льда деревья и еще больше их облегчат. Таким образом, безветрие, при котором незаметно скапливалась и замерзала вода, и было величайшим злом, тогда как ветер, растряхивающий этот груз, несет, по существу, избавление. И пусть даже буря повалит кое-какие стволы, несравненно больше деревьев она спасет от гибели, не говоря уже о том, что дерево, находящееся в угрожаемом состоянии, так или иначе рухнет рано или поздно. Однако ветер не только стряхивает лед, он разъедает его своим теплым дыханием – сначала в нежных, а потом и во все более плотных древесных тканях, причем как талую, так и упавшую с неба воду не оставляет в ветвях, как это было в безветренную погоду. И в самом деле, если завывание бури и скрадывает лесной гул, то отдельные удары мы и сейчас продолжаем слышать, и они раз от разу становятся все реже.
Мы постояли еще немного – ветер тем временем все набирал силу и, как нам казалось, становился теплее. Наконец, пожелав друг другу спокойной ночи, мы разошлись по домам. Я поднялся к себе, разделся, лег в постель и проспал крепким сном до самого утра.
Проснувшись, когда солнце стояло уже высоко, я встал, накинул шлафрок и подошел к окну. Буря тем временем разыгралась не на шутку. По небу мчалась белая пена. Голубой дым, вырывавшийся из хижины Клума, поднимался клубами вверх и разносился по воздуху обрывками вуали. Если из-за леса показывался клочок черной тучи, то буря, подхватив, перекатывала его по небу, пока он не исчезал из виду. Казалось, она сметет всю мглу и вот-вот засинеет чистая лазурь, ан, глядишь, опять стелется белая наволочь, рождающаяся где-то в глубине неба, а в ней переливаются коричневые, серые и красноватые тона. Крыши соседних домов влажно поблескивали; впадины в ледяной корке на снегу налились водой, и эту воду кружило и мельчайшими каплями разбрызгивало в воздухе; остальной влажный лед сверкал, словно на него бросилась вся белизна неба. Сумрачно чернея, вздымались леса, а там, где дерево поблизости раскачивало на ветру свои раскидистые сучья, внезапно вспыхивала длинная молния и мгновенно исчезала, и даже по отдаленным стенам лесов нет-нет перебегало какое-то поблескивание и сверкание. В моем дворе было мокро и хмуро, крупные капли дождя ударялись о смежную стену и окна, тогда как мои окна, глядящие на восток, не были обращены к ветру. К ели, под которой стоит моя летняя скамейка, заваленная теперь сугробом, приставили лестницу, я видел, как Каэтан взбирается на нее и отвязывает от верхних сучьев веревки.
Теперь нам грозила опасность совсем другого рода, не говоря уже о том, что она была куда серьезнее, чем вчера, когда приходилось бояться за сады и леса. Стоит снегу, выпавшему за зиму в несметных количествах, внезапно растаять, как он разорит наши поля и луга и подмоет наши дома. Ветер был еще теплее, чем накануне. Я убедился в этом, открыв в коридоре окно. Если непроницаемую ледяную корку, которая вчера защищала землю, разъест теплом, то снег, эта рыхлая масса из смерзшихся ледяных игл, распадется на отдельные капли воды, и тогда неистовые лесные ручьи обрушатся на долины и с ревом зальют поля и луга, с гор устремятся вниз пенистые потоки; освобожденные воды, срываясь с обрывов и отвесных скал, лавины, несущие с собой камни, снег и деревья, запрудят ручьи, образуя море воды.
Я оделся, позавтракал и приготовился к трудовому дню. Первым делом спустился я к Готлибу, поглядеть, как он себя чувствует; он был совершенно здоров и вид имел свежий и бодрый. Я послал за санями и лошадью к кузену Мартину, ротбергскому трактирщику, так как дорогу через Таугрунд преграждали поваленные деревья, а их, должно быть, нескоро уберут, хотя пребывание в лесу уже не представляло опасности. Дорога же от Ротберга вверх была совсем свободна; пусть крепкие сучья буков и склонили свои перегруженные ветки до самой земли, они устояли и не сломались. Томас не мог отправиться за каурым в Айдун по нашему вчерашнему маршруту, так как лед был уже ненадежен и угрожала опасность провалиться в размокший снег. Он сказал, что попытается к полудню перелезть через поваленные деревья и таким образом доберется до места. Из Ротберга уже утром явился ко мне нарочный от заболевшего там жителя и сообщил, что дорога оттуда наверх через овраг и мимо буковой рощи в порядке.
В ожидании работника, который должен был доставить мне лошадь и сани, я решил обследовать ледяную корку, покрывающую снег. Она была еще цела, но во многих местах поблизости от моего дома так истончилась, что можно было легко смять ее рукой. В канавах и оврагах вода уже прилежно бежала по скользкому дну. Дождь перестал, и только ветер еще брызгал в лицо каплями воды. Да, ветер не унимался; гоняя по поверхности льда тоненькую пленку воды, он отшлифовывал его до тончайших граней и благодаря своей мягкости растапливал все застывшее, оцепенелое, источающее воду.
Наконец прибыл работник ротбергского трактирщика; подобрав полы плаща, я сел в сани. И чего только не повидал я в тот день! Если вчера шумело в лесах и на взгорьях, то сегодня шум стоял по всем долинам; если вчера гриву каурого оттягивало вниз, то гриву моей сегодняшней лошади трепало и раздувало ветром. Когда мы хотели обогнуть сугроб, нас обдало фонтаном. Вода бурлила по оврагам и балкам, роптала и журчала в каждой борозде и канавке. Прекрасные тихие воды Зиллера были неузнаваемы: молочно-белые, цвета снеговой воды, они пенились, вырываясь из темного ущелья леса, где все еще громоздились поваленные накануне деревья и где они перегораживали речное русло. Так как лесом проезду не было, мы взяли проселком через тальник, – кстати, его хорошо накатали хальслюнгцы, предпочитающие из-за снежных заносов возить дрова этим, кружным, путем. Мы ехали по раскисшему снегу, ехали и по воде, сани, можно сказать, плавали, а в одном месте работнику пришлось слезть и, взяв лошадь под уздцы, с величайшей осторожностью повести ее вброд, да и я тащился за ними по грудь в талой воде.
К вечеру похолодало и ветер почти улегся.
Дома, переодевшись во все сухое, я первым делом спросил о Томасе. Он поднялся ко мне и рассказал, что едва-едва успел доставить домой каурого. Ему пришлось перелезать через поваленные деревья, а за ним следовали пильщики, которые убирали с дороги, по крайней мере, самые большие стволы, так что, когда он возвращался в санях, путь был уже сравнительно расчищен. Через небольшие стволы и сучья он кое-как перетаскивал сани, но серьезным препятствием явился таугрундский ручей. Самого ручья, конечно, видно не было, но там, где он течет под снегом или, вернее, лежит скованный льдом, скопилось в канаве много воды. Каурый увяз по шею в мягком зыбуне под водой, Томас еле-еле вызволил его оттуда и сам потом долго искал брода, пока не наткнулся на твердую почву нынешней санной дороги и не вывел на нее сани и лошадь. Спустя немного это бы ему не удалось: в низинах Таугрунда разлилось целое озеро.
Подобные же вести приходили со всей округи; что творилось за ее пределами, мы не знали, никто не отваживался пока забираться в такую даль. Я так и не дождался двух нарочных, которые должны были сообщить мне о здоровье моих больных.
Наступившая ночь скрыла от нас дальнейшие события, мы только слышали, как ветер беснуется над белой, насыщенной влагою землей, угрожая нам тысячей бедствий.
Следующее утро встретило нас голубым небом, лишь отдельные тучки не спеша бороздили ясный небосвод. Ветер почти утих и к тому же изменил направление: вместо востока он слабо дул с запада. Стало заметно холоднее – не так, чтобы замерзала вода, но, по крайней мере, таяние приостановилось. Теперь передо мной были открыты все дороги, за исключением двух мест, где глубина разлившейся бурливой воды и раскисшего снега не позволяла ни проехать, ни пройти. В третьем месте вода была спокойна, но она глубоко и на большом пространстве залила впадину в долине; здесь жители, связав древесные стволы, протащили меня, как на плоту, к одному из моих тяжелобольных. Я был бы рад навестить и остальных, но там необходимость была не столь велика, и я надеялся проведать их завтра.








