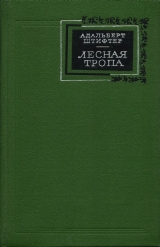
Текст книги "Лесная тропа"
Автор книги: Адальберт Штифтер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 37 страниц)
Тем временем мы достигли одного из беленьких домиков, раскиданных там и сям в зелени виноградников, и женщина обратилась к молодому крестьянину, закутанному, несмотря на теплый июньский вечер, в лохматую меховую шубу и что-то мастерившему перед дверью домика:
– Милош, этот господин еще нынче вечером хочет попасть в Увар. Возьми-ка на выгоне двух гнедых, одного дашь ему и проводишь его до виселицы.
– Ладно, – ответил парень и встал.
– Ступайте с ним, он укажет вам Дорогу, – сказала мне женщина и повернула лошадь, чтобы ехать назад тем же путем, каким привела меня сюда.
Я принял ее за пастушку и хотел дать ей крупную монету в благодарность за оказанную мне услугу. Но она лишь рассмеялась в ответ, обнажив ряд ровных, красивых зубов. Через виноградники она проехала медленно, но вскоре мы услыхали быстрый топот коня, которого она пустила вскачь, едва выехав в степь.
Я сунул деньги в карман и повернулся к Милошу. Он тем временем вдобавок к шубе напялил широкополую шляпу и, пройдя со мною довольно большой кусок по винограднику, до изогнутой лощины, где располагались хозяйственные постройки, вывел из конюшни двух низкорослых лошадок, какие обычно встречаются на здешних пастбищах. Мою он оседлал, на свою же вскочил, не взнуздав ее, и мы тотчас же двинулись в вечерних сумерках навстречу темной восточной стороне неба. Мы, надо полагать, являли собой презанятное зрелище: немецкий путник с заплечным мешком, с узловатой палкой и в берете, верхом на лошади, а рядом стройный венгр в круглой шляпе, с усами, в мохнатой шубе и болтающихся белых шароварах – оба скачут в пустыню и мрак. Миновав виноградник, мы и в самом деле попали в пустыню; сказкой казалось уже человеческое жилье, затерянное в этой глуши. Собственно, вокруг была все та же знакомая мне каменистая равнина, неотличимая от прежней, так что мне почудилось, будто мы едем назад той же дорогой; только темно-багровая полоса, еще пламеневшая в небе за моей спиной, убеждала в том, что мы и верно скачем на восток.
– Далеко ли еще до Увара? – спросил я.
– Еще мили полторы, – ответил мой провожатый.
Я удовлетворился таким ответом и поскакал позади него, стараясь не отставать. Мы ехали меж бесчисленных серых камней, тысячами попадавшихся мне сегодня. Они проносились назад, обманчиво поблескивая на темной земле, и, поскольку скакали мы по высохшим болотам, я не слышал топота копыт, разве что подкова ненароком задевала о камень, – хотя здешние лошади так привыкли к подобным дорогам, что ловко избегают камней. Путь наш лежал по плоской равнине, только раза два-три пересекали мы лощины с застывшими потоками мелкой гальки на дне.
– Кто хозяин того поместья, откуда мы едем? – спросил я Милоша.
– Марошхеи, – ответил он.
Он ехал очень быстро, когда произнес это слово, и я не разобрал, было ли то имя хозяина поместья и правильно ли я его расслышал: ведь на скаку всегда трудно и слушать и говорить.
Наконец взошла кроваво-красная луна на ущербе, и в ее тусклом свете передо мной выросло высокое сооружение, бывшее, как я понял, пределом пути моего провожатого.
– Вот это и есть виселица, – проговорил Милош, – а там, внизу, видите, блестит ручей, возле него – черное пятно, вот на него и идите; это – дуб, на нем когда-то вешали преступников. Теперь уже в нем нет надобности – с тех пор, как поставили виселицу. От дуба ведет торная дорожка, обсаженная молодыми деревьями. Ступайте по этой дорожке, – и часа не пройдет, как вы упретесь в калитку. Там есть рукоятка звонка, не входите, даже если не заперто, – из-за собак, а только дерните звонок. Так, а теперь слезайте, да покрепче запахните сюртук, а то как бы не схватить лихорадку.
Я слез с лошади и, хотя с вознаграждением пастушки попал впросак, все же рискнул предложить его Милошу. Он охотно принял деньги и сунул их в карман шубы. Потом схватил повод моей лошади, завернул ее и умчался прочь, так что я даже не успел передать с ним благодарность хозяину коней за то, что мне не пришлось на ночь глядя тащиться пешком. Милошу явно не терпелось поскорее убраться отсюда. Я огляделся. Передо мной в желтом свете луны высились два столба с перекладиной. Над виселицей торчало нечто похожее на голову. Но на самом деле это могло быть что угодно. Я двинулся вперед; у меня было ощущение, будто степная трава за моей спиной что-то шепчет, а у подножия виселицы кто-то шевелится. Милош уже исчез, словно его здесь и не бывало. Вскоре я подошел к дубу смерти. Ручеек поблескивал и мерцал внизу, мертвой змеей извиваясь среди камышей. Над ним нависла черная громада дуба. Я обошел его кругом, от ствола шла прямая белая дорожка, освещенная луной. Дорожка была утрамбована, по обе стороны ее тянулись канавы и два ряда молодых тополей. Мне стало легче, когда я вновь услышал свои шаги, словно на дорогах моей родины.
Я медленно шел вперед. Луна поднималась все выше и выше и теперь ярко светила в теплом летнем небе. Степь под ее лучами простиралась вдаль огромным белесым диском. Наконец – по прошествии часа, не менее – я приблизился к каким-то черным купам не то леса, не то парка, и очень скоро дорожка привела меня к решетке, врезанной в каменную стену, которая окружала парк; за нею возвышались верхушки гигантских деревьев, застывшие в мертвой неподвижности серебристого ночного воздуха. К решетке была приделана ручка звонка, я дернул ее, и за стеной раздался удар колокольчика. В ответ послышался даже не лай, а мощное, глубокое, решительное, полное любопытства сопение, какое издают собаки хороших кровей, затем – глухой прыжок, и передо мной, по ту сторону решетки, показался пес, больше и красивей всех, каких я видел в жизни. Он встал на задние лапы, передними оперся о железные прутья и смотрел на меня, не издавая ни единого звука, как и свойственно этим исполненным достоинства тварям. Вскоре, ворча и перегоняя друг друга, прибежали еще два таких же пса, только поменьше и помоложе – гладкошерстые бульдоги, – и все трое, не сводя глаз, уставились на меня. Через минуту я услышал приближающиеся шаги, и передо мной возник некто в мохнатой шубе и справился, что мне угодно. Я спросил, в Увар ли я попал, и назвал себя. Он, видимо, получил наказ, ибо тут же несколькими словами, произнесенными по-венгерски, утихомирил собак, после чего отпер решетчатую калитку.
– Хозяин получил ваши письма и уже давно ждет вас, – сообщил человек, идя со мною рядом.
– Я ведь писал, что хочу взглянуть на ваши края, – возразил я.
– Долгонько же вы на них глядели! – сказал он.
– Что правда, то правда. Господин майор еще не лег?
– Он в отлучке, на заседании, и вернется завтра утром. Для вас он велел приготовить три комнаты и проводить вас, ежели вы явитесь в его отсутствие.
– Что ж, отведите меня туда!
– Слушаюсь!
Больше мы ни словом не обменялись за всю долгую дорогу, которая пролегала, казалось, через дремучий лес, а не через парк. Гигантские ели тянулись к небу, со всех сторон над нами нависали сучья дубов, толстые, как стволы. Самая крупная собака спокойно вышагивала рядом с нами, другие то обнюхивали мое платье, то весело гонялись друг за другом. Миновав рощу, мы вышли к безлесному пригорку, на котором стоял замок, – насколько я мог различить в темноте, большое четырехугольное здание. На пригорок вели широкие каменные ступени, залитые ярким светом луны. Дальше шла ровная площадка, за ней – решетка, которой забрана была арка ворот. Когда мы вплотную подошли к решетке, мой провожатый сказал собакам несколько слов, после чего они бегом пустились обратно в парк. Тогда он отпер ворота и повел меня в дом.
На лестнице еще горел свет, озаряя высокие, причудливые каменные статуи в сапогах с раструбами и длиннополых одеяниях. Возможно, то были венгерские короли. На втором этаже мы вступили в длинный, устланный камышовыми циновками коридор. Миновав его, мы поднялись на этаж выше. Здесь был такой же коридор; отворив одну из дверей, мой провожатый сказал, что это и есть мои комнаты. Мы вошли. Он зажег в каждой комнате по нескольку свечей, пожелал мне спокойной ночи и удалился. Вскоре другой слуга принес мне вино, хлеб и холодное жаркое, а потом так же, как и первый, пожелал мне доброй ночи. Из этого, а также из того, что все для меня было приготовлено, я заключил, что больше сюда никто не придет, а потому подошел к двери и запер ее на ключ.
После этого я приступил к еде, одновременно разглядывая свои апартаменты. Первая комната, где на большом столе стояли кушанья, была весьма просторной. Свечи горели ярко и хорошо освещали все вокруг. Убранство здесь было не такое, какое я привык видеть у себя на родине. Посередине стоял длинный стол, за которым я ужинал. Вокруг стола были расставлены дубовые скамьи, более подходящие для зала заседаний, чем для жилого помещения. Кроме этого, тут и там виднелось лишь несколько стульев. На стенах висело оружие всех эпох истории, в том числе, возможно, и венгерской. Даже луки и стрелы были здесь в немалом количестве. Помимо оружия, висела одежда, венгерская, сохраняемая с давних времен, а также развевающиеся шелковые одеяния, которые могли принадлежать турку или татарину.
Покончив с ужином, я осмотрел две соседние комнаты, примыкавшие к большой зале. Они были поменьше и, как я заметил сразу, едва меня сюда ввели, имели более жилой вид. Здесь стояли стулья, столы, шкафы, умывальные приборы и письменные принадлежности, – словом, все, чего только может пожелать одинокий путник. Даже книги лежали на ночном столике, и все они были на немецком языке. В обоих комнатах стояло по кровати, но вместо одеял на каждой была разостлана широкая национальная одежда, которую здесь называют «бунда». Обычно это – сшитый из шкур плащ, причем носят его мехом внутрь, а белой гладкой изнанкой наружу. Часто их украшают полосками и узорами из разноцветной кожи.
Прежде чем лечь в постель, я, как всегда на новом месте, подошел к окну, чтобы обозреть местность. Правда, я мало что разглядел в темноте, но даже при лунном свете можно было убедиться, что ландшафт здесь не похож на немецкий. Подобно гигантской бунде, распростертой в степи, темнел передо мной лес или парк, за ним серебристо отсвечивала степь, а по ней тянулись темные полосы, то ли какие-то предметы на земле, то ли гряды облаков.
Так я некоторое время бездумно блуждал взглядом по окрестностям, потом закрыл окно, разделся и, наудачу выбрав одну из постелей, лег спать.
Я натянул мягкий мех бунды на свое усталое тело, глаза у меня уже начали слипаться, но я еще успел подумать: «Любопытно, что-то ждет меня здесь хорошего или дурного!»
Тут я погрузился в сон, и все исчезло бесследно – и то, что в моей жизни уже было, и то, о скорейшем осуществлении чего я страстно мечтал.
Дом в степи
Сколько длился мой сон, не знаю, но спал я не спокойно и не крепко. Сказалась, очевидно, чрезмерная усталость. Всю ночь я бродил по Везувию и мне виделся майор, то сидящий в Помпеях и одетый паломником, то во фраке, разыскивающий камни среди лавы. Сквозь утреннюю дрему слышалось мне конское ржание и собачий дай, потом я на некоторое время заснул покрепче, а когда проснулся, был уже белый день; я выглянул в залу, где солнце освещало оружие и старинное платье. Темный парк под моими окнами гудел от гомона множества птиц, а когда я встал и подошел к окну, то увидел, что степь вся сверкает в сетке утренних лучей.
Не успел я одеться, как в дверь постучали, – я открыл, и вошел мой друг. Все эти дни я пытался вообразить, каков он у себя дома, но он был именно таков, как должно, то есть вполне гармонировал со всем своим окружением, так что мне показалось, будто я и всегда видел его только таким. На верхней губе у него красовались обычные здесь усы, делавшие еще ярче блеск глаз, голову покрывала широкополая круглая шляпа, с бедер ниспадали широкие белые шаровары. Такое обличие было здесь вполне естественным, иным оно и не могло быть, и я уже не в силах был представить себе майора во фраке; наряд его нравился мне чрезвычайно, и мое немецкое суконное платье, пыльное и потрепанное, которое валялось на скамье под вылинявшим шелковым одеянием какого-то татарина, показалось мне почти жалким. Его сюртук был короче, чем носят в Германии, но великолепно шел ко всему остальному. Мой друг, правда, выглядел постаревшим, в волосах его проглядывала седина, а лицо прорезали тонкие морщинки, которые даже у безупречно сложенных, хорошо сохранившихся людей предательски выдают число ушедших лет. Но майор, на мой взгляд, не утратил своей прежней привлекательности и очарования.
Он поздоровался со мной дружелюбно и приветливо, даже немного растроганно, и после получасовой беседы мы уже чувствовали себя прежними друзьями. Мы будто и не расставались после нашего путешествия по Италии. Я стал одеваться, заметив, что сундук с моими вещами прибудет позднее; и тогда он предложил, чтобы я покуда, а если мне угодно, то и на все время пребывания у него носил венгерское платье. Я согласился, и нужные части костюма были мне тотчас доставлены, причем майор заметил, что в ближайшие же дни сам позаботится о смене. Разговаривая, мы спустились во двор, к одинаково с нами одетым слугам, которые одобрительно посматривали на нас из-под нависших кустистых бровей, пряча улыбку в темных усах. Нам подали лошадей для утренней прогулки; было во всем этом зрелище что-то возвышенное и спокойное, отчего я испытал чувство истинного отдохновения.
Сопровождаемые большим ласковым бульдогом, мы объезжали владения майора. Он показывал мне все, отдавая попутно распоряжения своим работникам и кое-кого похваливая. В первую очередь мы миновали приятный для взора заросший парк, тщательно огороженный, содержавшийся в чистоте и перерезанный дорожками. Потом мы выехали в поле, колыхавшееся темно-зелеными волнами. Только в Англии видел я подобную зелень, но там она, кажется, была нежней и мягче, здесь же – сочней и будто вся пронизана солнцем. За парком мы поднялись по отлогому склону холма, глядевшего в степь; по гребню его тянулись виноградники. Повсюду нас окружала темная, густая листва, посадки занимали широкую полосу земли, там и сям среди лоз стояли персиковые деревья, а местами, как и в Марошхее, из зелени сверкающими точками выглядывали белые домики сторожей. Мы спустились в степь, здесь пасся рогатый скот майора, огромное, далеко рассыпавшееся, почти необозримое стадо. Примерно через час подъехали мы к конюшням и овчарням. Когда мы скакали по степи, мой хозяин указал мне на узкую, темную полосу, далеко на западе перерезавшую распластанную серую степь, и сказал:
– Это уже виноградники Марошхея, где вам вчера дали лошадь.
Назад мы возвращались другой стороной, и тут он показал мне свои фруктовые сады, огороды и теплицы. По пути нам встретилось неприглядное болотистое место, где работало множество народу. На мой вопрос майор объяснил мне, что это нищие, бродяги, – словом, всякий сброд; привлеченные постоянным заработком, они работают здесь, осушая топь и прокладывая дорогу.
По возвращении мы обедали вместе со слугами и служанками в просторных сенях или, вернее, под навесом, близ которого росло исполинское ореховое дерево. У деревянного сруба колодца наигрывали на скрипках остановившиеся здесь проездом цыгане. За столом сидел еще один гость, совсем юноша. Я обратил внимание на его необычайную красоту. Он привез письма из соседнего имения и после обеда тотчас же ускакал. Майор относился к нему очень внимательно, я бы сказал, даже с нежностью.
Жаркие послеобеденные часы мы провели в прохладных комнатах. Вечером мой гостеприимный хозяин решил показать мне степной закат. Мы только за этим выехали из дому, причем он мне посоветовал, по его примеру, надеть шубу во избежание лихорадки, которой грозят вечерние испарения степи, хотя в такую теплую погоду эта предосторожность казалась лишней. Достигнув избранного им места, мы ждали, пока закатится солнце, и вскорости увидели воистину великолепное зрелище: над огромным черным окоемом степи опрокидывается необъятный колокол ярко-оранжевого пламенеющего неба и затопляет нам зрение волнами всепобеждающего света, в котором все предметы на земле кажутся черными и незнакомыми. На фоне раскаленного неба стебель степного бурьяна превращается в бревно, пробегающий мимо зверек оборачивается на золоте заката черным чудищем, а жалкие кустики можжевельника и терновника представляются взору далекими храмами и дворцами. Но спустя несколько мгновений с востока выползает влажная, холодная синева ночи, тусклая, непроницаемая пелена тумана отрезает сверкающий купол неба от земли.
Особенно долго явление это можно наблюдать в июньские дни, когда солнце стоит высоко. Мы уже вернулись домой, поужинали и немного побеседовали, и когда я, удалившись к себе в спальню, стал у окна, на западе, хоть время уже близилось к полуночи, все еще виднелся клочок тускло-желтого света, тогда как на синем востоке уже выплывал красноватый серп луны.
В тот вечер я решил, что завтра или послезавтра, – словом, в один из ближайших дней, как только представится случай, спрошу у майора о цели, которую, как он мне писал, ему удалось, наконец обрести и которая отныне навсегда привязала его к родным местам.
На следующий день он разбудил меня еще до рассвета и спросил, хочу ли я провести день один или предпочитаю составить ему компанию. Выбор и в дальнейшем всецело предоставляется мне. Если я не прочь участвовать в его хозяйственных делах и занятиях, мне надо только в тот день, когда у меня появится такое намерение, при утреннем ударе дворового колокола встать и явиться за общий стол к завтраку. Буде же у меня возникнут иные планы, его людям, если самого его не будет дома, уже дано приказание предоставить мне лошадей, провожатых, вообще все, что бы мне ни понадобилось. Ему было бы приятно, если бы я заранее ставил его в известность о своих намерениях, особенно когда дело идет о более дальних поездках, тогда он мог бы предостеречь меня от окольных путей, затруднений, а подчас и небольших опасностей, какие, возможно, встретятся мне в дороге. Я поблагодарил его за предупредительность, но заверил, что и сегодня, и завтра, и впредь, до тех пор пока мне не придет в голову что-то другое, я хотел бы проводить время с ним.
Поэтому я встал, оделся и отправился под навес, где люди завтракали. Работники уже покончили с едой и расходились каждый по своему делу. Майор был тоже тут, он ждал меня, пока я завтракал. Затем подали оседланных лошадей. Я не спрашивал, что он будет делать, а молча последовал за ним.
Сегодня мы не просто разъезжали, как вчера, когда майор показывал мне свои владения и хозяйство; он заранее предупредил меня, что будет заниматься тем, чего требует от него сегодняшний день, а я, если мне это не наскучит, могу ко всему присматриваться.
Мы прибыли на обширный луг, где убирали сено. Отличный гнедой конь венгерской породы, на котором сидел майор, нес его, приплясывая, по шелковистым скошенным травам. Потом майор спешился, отдал поводья работнику и стал осматривать копны сена. Работник сообщил, что их намерены вывезти сегодня после обеда. Майор распорядился, чтобы на покосе одновременно рыли канавы, где – для стока лишней воды, а где – для сбора ее. Осмотрев луга, мы двинулись к оранжереям, заложенным здесь не как обычно вблизи жилой усадьбы, а в другом, более подходящем месте, на пологом склоне, где их стеклянные кровли глядели на восток и на юг. Возле оранжереи расположилась небольшая чистенькая конюшня, куда майор и его спутники – если ему случалось приезжать сюда не одному – ставили своих лошадей, ибо нередко ему приходилось задерживаться тут надолго, а когда наезжали гости, желавшие осмотреть оранжереи, то и они проводили здесь по нескольку часов. Не расседлывая лошадей, мы отвели их в конюшню, и майор в первую очередь принялся осматривать кусты и саженцы, предназначенные для отправки заказчикам, потом зашел в комнату садовника, где его ждали бумаги, и довольно долго просидел за столом, занимаясь ими. Я тем временем оглядывал оранжерею, хотя и понимал в этом не более и не менее, чем положено человеку, который за время непрестанных путешествий повидал бесчисленное множество оранжерей. Лишь после того, как я в библиотеке майора просмотрел соответствующие труды и рисунки, я понял, как мало я, в сущности, осведомлен по этой части.
– Эти растения чудо как хороши, поэтому каждый рад заняться ими, да только больше спустя рукава, – сказал мне майор. – А если хочешь дождаться плодов, нужно работать основательно, чтобы намного превзойти других, кто занят этим же делом.
Выйдя из комнаты садовника, он несколько минут наблюдал за работой женщин, промывавших и чистивших зеленые листья камелий. Этот цветок в те времена был еще редок и дорог. Майор осмотрел и те, что были уже промыты, и сделал кое-какие замечания. Отсюда мы прошли вдоль гряд из чистого белого песка по стеклянным теплицам; здесь были совсем еще молоденькие ростки; затем подошли к цветам и саженцам, выращиванье которых стало главным делом майора. У противоположного выхода ожидали нас лошади, которых работник подвел тем временем, обогнув постройки. Это было место, где готовили и смешивали землю, доставляя ее круглый год на ослах, в корзинах, из самых различных мест, нередко из весьма отдаленных хвойных лесов. Даже для перегорания удобрений были отведены определенные участки, а рядом выстроили поленницы дубовых дров, предназначенных для отопления зимой.
Поскольку, как я заметил еще вчера, от оранжерей было недалеко до степи, мы направились и туда. Быстрый бег наших резвых лошадей унес нас в глубь однообразной, благоухающей утренней свежестью равнины, так что замок и парк вдали сливались в темное пятно. Тут мы наведались к пастухам майора. Из нескольких жердей, настолько тонких, что они никак не могли сойти за надежное укрытие, было сооружено подобие шалаша, быть может с тем, чтобы он служил вехой, хорошо видимой и легко отыскиваемой в степи. Под ним горел или, скорее, теплился огонек, питаемый твердыми сучьями или корнями можжевельника, боярышника и других мелких кустарников. Здесь пастухи, уже в одиннадцать часов садившиеся за обед, готовили себе еду. Загорелые люди, чьи шубы валялись вокруг на земле, в своих белых испачканных шароварах и рубахах, окружили майора и отвечали на его вопросы. Другие, издалека заметив на плоской равнине скачущего хозяина, один за одним подъезжали на своих низкорослых, неказистых лошадках, на которых не было ни седла, ни попоны, а уздечку и повод нередко заменял кусок веревки. Пастухи, соскочив с лошадей и держа их на поводу, – сгрудились вокруг майора, который тоже спешился и отдал кому-то поводья. Они говорили с ним не только о деле, но и о многом другом. Почти всех майор знал по именам и держался с ними так просто, словно был им ровней, и это, видимо, приводило людей в восхищение. Как и у нас в горах, скот здесь все лето содержится под открытым небом. Это – белые, длиннорогие коровы, какие водятся в здешней стороне, и кормятся они степными травами, до того пряными и душистыми, что нам, жителям Альп, трудно в это поверить. К скоту приставлены люди, они тоже живут в степи и нередко над головой у них нет ничего, кроме неба и степных звезд, и лишь иногда, как мы видели, шалаша из жердей либо землянки. Они стояли перед майором, своим барином, как они его называли, и слушали его распоряжения. Когда он садился в седло, один работник, смуглолицый, со сверкающими из-под черных бровей глазами, придерживал коня, а другой, длинноволосый, с густыми усами, держал стремя.
– Будьте здоровы, ребята! – сказал он, отъезжая. – Я скоро опять наведаюсь к вам, а когда соберутся соседи, мы как-нибудь сделаем привал в степи и у вас пообедаем.
Эти слова он произнес по-венгерски, а потом по моей просьбе перевел их мне.
По пути он сказал:
– Если вам когда-нибудь придет охота поближе познакомиться с моим степным хозяйством и вы захотите приехать сюда один, пожить общей жизнью с пастухами, опасайтесь их собак. Они не всегда такие ручные и спокойные, как сегодня, они могут и наброситься на вас. Предупредите меня заранее, и я вас провожу, а если сам не смогу, пошлю с вами пастуха, которого собаки любят, он вас и отвезет.
И правда; когда мы сидели у пастушьего костра, я не мог отвести глаз от этих огромных, поджарых и лохматых псов, каких мне не приходилось видеть во все время моих многочисленных странствий, они чинно сидели рядом с нами вокруг огня, словно понимали что-то в нашем разговоре и участвовали в нем.
Мы поскакали назад, к замку, ибо время близилось к обеду. Как и вчера, мы проезжали возле того места, где работали люди, осушавшие болото и размечавшие колею дороги; показав мне на диво всколосившееся пшеничное поле, мимо которого лежал наш путь, майор заметил:
– Если эта щедрая земля не обманет наших ожиданий и принесет нам хороший доход, мы сможем с пользой употребить его на улучшения в других местах. Мои люди работают там, на пустошах, круглый год. Они получают поденную плату и готовят пищу под открытым небом, там же, где работают. Ночуют они в хижинах, вон они видны там. Зимой, когда все замерзает, мы перебираемся в низины, куда сейчас не попасть из-за топкой почвы, и забрасываем их щебнем и галькой, от которых очищаем виноградники.
Действительно, оглянувшись на это необычное поле, я увидел упомянутые майором дощатые хижины и заметил во многих местах по степи легкие струйки дыма, указывавшие на немудреные очаги, где эти люди готовили себе обед.
Только мы въехали в парк и вокруг нас заплясали большие и маленькие бульдоги, как в господском доме зазвонил колокол, сзывая нас и работников к столу.
В тот вечер я уже не стал спрашивать моего друга о его цели, как я решил было накануне перед сном.
После обеда мы, как обычно, сидели дома, но около пяти майор уехал – куда, не знаю, – по той же тополевой аллее, по какой я пришел сюда ночью, а я стал перелистывать книги, которые он все в большем количестве присылал ко мне в комнату из своей библиотеки.
На следующий день майор занят был писанием множества бумаг, и я провел целый день, осматривая лошадей, содержавшихся при доме, и знакомясь с работниками.
Наутро посетили мы с ним овчарню, расположенную в двух часах езды от замка, и там провели весь день. В овчарне работали несколько человек, как видно, обладавших незаурядными познаниями и вместе с майором до тонкости вникавших в самую суть любимого дела. Тут довелось мне узнать, что каждая статья его хозяйства имеет собственный бюджет, причем в овчарню он вкладывает суммы, заимствованные из других статей. Все эти расчеты весьма точно и неукоснительно заносятся в книги. Хозяйство его имеет много отраслей, и каждая налажена согласно потребности в ней.
Осмотрел я и конный завод майора; побывал с ним на пастбище, где паслись непородистые жеребята и стригуны, также под присмотром пастухов, как в другом месте рогатый скот.
Так постепенно изучил я весь круг деятельности моего друга, и, надо сказать, круг этот был весьма широк. Я только диву давался, как много внимания и заботы он уделяет своим обязанностям – он, кого прежде я знал как мечтателя и любителя наук, погруженного в изыскания и фантазии.
– Я думаю, – сказал он однажды, – что именно так следует браться за обработку земли в любой стране. У нас есть древнее государственное устройство, тысячелетняя история, но нам еще многое предстоит сделать; мы, народ этой страны, подобны цветку, засушенному в альбоме. Этот обширный край – сокровище большей ценности, нежели мы можем вообразить, но оно требует лучшей оправы. Весь мир стремится работать с наибольшей пользой, и нам нельзя отставать в этом соревновании. Плоть этой земли еще способна расцвести и стать прекрасной – но ради этого нужно потрудиться. Вы, должно быть, сами в этом убедились, когда шли ко мне. Ведь в наших степях – плодороднейший чернозем, в недрах наших холмов, изобилующих сверкающими минералами – вон до тех голубых гор, что виднеются вдали, – дремлет река искрометного вина, под ними мерцает укрытый зеленью блеск металла. Две полноводные реки протекают по нашей земле, воздух над ними, если можно так выразиться, еще мертв, он ждет, когда в нем заполощутся бесчисленные пестрые флаги, много различных народов населяют нашу страну, иные из них еще не вышли из детского возраста, им еще надо подавать пример, указывая, что и как делать. С той поры, как я живу среди своих людей, над которыми у меня, в сущности, больше власти, чем вы себе представляете, с той поры, как я ношу то же платье, что и они, разделяю их обычаи и заслужил их уважение, у меня такое чувство, будто я достиг счастья, которое когда-то искал где-то в далеких краях.
Мне уже незачем было спрашивать у этого человека, в чем цель его жизни, о которой он упоминал в своем письме.
Особенное внимание майор уделял сортам злаков. Хлеба у него и правда стояли пышные и богатые, и я, одержимый любопытством, не мог дождаться, когда же эти колосья созреют и мы свезем хлеб в закрома.
Одинокая и деятельная жизнь майора напоминала мне порою жизнь древних, могучих римлян, так же приверженных земледелию и, по крайней мере в раннюю пору своей истории, тоже предпочитавших одинокую и деятельную жизнь.
Как прекрасно и естественно призвание земледельца, если он постигнет его и возвысит, думал я. В изначальной близости к бесстрастной природе живет он жизнью простой и вместе сложной, ближе всего к жизни, о которой повествуется в сказании о рае.
И вот, чем дольше оставался я во владеньях майора, чем подробнее обозревал их и постигал каждую мелочь, чем пышнее все росло и расцветало у меня на глазах и даже при моем участии, тем больше увлекало меня это однообразное и спокойное течение дней и трудов, заставляя меня забыть о наших городах и счесть ничтожным то, ради чего суетятся и хлопочут в них.
Как-то раз, когда мы снова приехали к табунам лошадей в степи и к охранявшим их пастухам присоединились люди, ухаживавшие за рогатым скотом, вокруг нас сошлось довольно много народу; на обратном пути майор заговорил со мною – на этот раз он велел заложить в коляску пару великолепных степных лошадей, и мы катили в ней по степи, оставляя на траве четкий, широкий след.
– Этих людей я мог бы заставить без колебаний пролить кровь, стоит лишь мне их возглавить. Они мне преданны безгранично. И остальные слуги и работники у меня на усадьбе дали бы скорее отсечь себе руки и ноги, чем допустить, чтобы хоть один волос упал у меня с головы. Если же добавить к ним тех, кто зависит от меня как от землевладельца и все же привязан ко мне всем сердцем, в чем я не раз имел случай убедиться, я мог бы, думаю, собрать под своим началом довольно большое число людей, которые меня любят. Сами посудите – ведь я пришел к ним лишь после того, как голова моя поседела, после того как я на долгие годы позабыл о них. А каково же это – вести сотни тысяч людей и направлять их к добру; ибо в большинстве своем, доверяя человеку, они становятся сущими детьми и готовы идти за ним и к добру и к злу. – Когда-то, – продолжал он, помолчав, – я думал, что стану художником или ученым. Но вскоре убедился, что и тот и другой должны сказать людям проникновенное, веское слово, которое воодушевило бы их и сделало благороднее, или, если это ученый, то он по меньшей мере обязан создавать и изобретать нечто такое, что умножило бы земные блага и давало бы людям средства достичь их. Но в обоих случаях прежде всего необходимо, чтобы такой человек сам обладал открытым и большим сердцем. И поскольку я не мог этим похвалиться, я поставил на этом крест, и теперь все это в прошлом.








