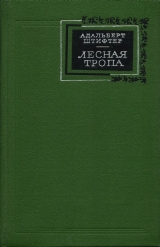
Текст книги "Лесная тропа"
Автор книги: Адальберт Штифтер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 37 страниц)
Следующей весной он вместе с Бригиттой и ребенком отправился в путешествие, а когда они к осени вернулись домой, предложил ей переехать на постоянное жительство в деревню, в одно из их поместий; ведь в деревне гораздо живописнее и приятнее, чем в городе.
И Бригитта последовала за ним в имение.
Он принялся за хозяйство, произвел много перемен, а свободное время проводил на охоте. И здесь волею судьбы попалась ему навстречу женщина, нисколько не похожая на ту, которую он привык видеть рядом. Он заметил ее во время одной из своих одиноких охотничьих вылазок, какие совершал все чаще, шагая с ружьем по окрестностям или объезжая их верхом. Однажды он медленно вел лошадь по склону степного буерака и вдруг сквозь чащу кустарника увидел глаза, испуганные и прекрасные, будто глаза чужеземной газели, и среди зеленой листвы – щеки, пылавшие нежнейшим румянцем утренней зари. Это длилось одно мгновение; он не успел рассмотреть ее, как всадница, остановившаяся в зарослях, повернула лошадь и умчалась сквозь редкие кусты вдаль по равнине.
То была Габриэла, дочь престарелого графа, жившего по соседству, – дикое создание, воспитанное в деревне на полной свободе отцом, считавшим, что только так она будет развиваться естественно и не превратится в одну из тех кукол, каких он терпеть не мог. Габриэла славилась на всю округу своей красотой, и только до слуха Мураи молва о ней еще не дошла, потому что он до сих пор никогда не жил в этом поместье и последнее время долго находился в путешествиях.
Спустя несколько дней они вновь встретились почти на том же месте, а потом эти встречи становились все чаще и чаще… Они не спрашивали друг друга, кто они и откуда, просто девушка, олицетворение непринужденности, шутила, смеялась, дразнила его, побуждала скакать с нею наперегонки, очертя голову, мчалась рядом с ним – прелестная, сумасбродная, жгучая загадка. Он отвечал на ее шутки и позволял ей обгонять себя. Но однажды она, задыхаясь от усталости, стала молча хвататься за его поводья в знак того, что просит его остановиться, а когда он снимал ее с лошади, томно шепнула ему, что признает себя побежденной, – тогда, поправив сбившийся на ее стремени ремешок и увидев, как она, вся пылая, прижалась к стволу дерева, он внезапно привлек ее к себе, прижал к сердцу и, не успев даже взглянуть, сердится она или торжествует, вскочил на коня и умчался прочь. Это была дерзость, но хмель неописуемого наслаждения завладел им, и все время, пока он скакал домой, он чувствовал ее нежную щеку и сладостное дыхание, видел перед собой ее светящиеся глаза.
С того дня они больше не искали встреч, но как-то раз, столкнувшись в гостиной у одного из соседей, оба вспыхнули до корней волос.
Вскоре Мураи отправился в одно из своих отдаленных поместий, чтобы переделать там все по-своему.
Но сердце молодой супруги было уже разбито. Безбрежное море стыда бушевало в ее груди, когда она молча, мрачной тучей бродила по комнатам. Но в конце концов она стиснула руками наболевшее, кричащее сердце и раздавила его.
Когда Мураи, закончив свои преобразования в отдаленном имении, вернулся домой, она вошла к нему в комнату и тихо попросила развода. Он страшно перепугался, умолял, оправдывался, но она повторяла все одно и то же:
– Я говорила тебе, что ты раскаешься, я говорила тебе, что ты раскаешься!
И тогда он вскочил, схватил ее за руку и сказал вне себя от гнева:
– Женщина, я ненавижу тебя беспредельно, беспредельно!
Она не возразила ни слова, лишь смотрела на него сухими, воспаленными глазами, но когда он спустя три дня уложил и отправил вперед свои чемоданы и сам, переодевшись в дорожное платье, к вечеру ускакал, она, терзаемая нестерпимой мукой, лежала на ковре в своей спальне, как лежала на траве когда-то в детстве, выкрикивая кустам вымыслы своей души, и из глаз у нее лились такие жгучие слезы, что, казалось, они прожгут ее платье, ковер и доски пола, – то были последние слезы, посланные ею вдогонку все еще горячо любимому мужу. Больше она уже никогда не плакала. Он между тем мчался по вечерней равнине, сотни раз в голове у него мелькала мысль – выхватить пистолет, притороченный к седлу, и разнести в куски пылающий мозг. Еще засветло он проезжал мимо дома Габриэлы, она стояла на балконе, но он, не поднимая глаз, промчался дальше.
Спустя полгода он прислал жене согласие на развод и уступил ей ребенка: то ли он считал, что в материнских руках сыну будет лучше, то ли старая любовь подсказывала ему, что нельзя лишать ее всего, ибо она осталась совсем одна, тогда как перед ним открыт весь широкий мир. Он и в отношении имущества позаботился о ней и о мальчике столь щедро, как только было возможно, одновременно прислав ей все касающиеся этого дела документы. То была первая и последняя весть, полученная от Мураи, в дальнейшем не приходило ни одной, и сам он больше не появлялся. Необходимые ему деньги отсылались в один из антверпенских банков, о чем позднее рассказал его управляющий, чьи сведения, однако, этим исчерпывались.
В те годы Бригитта за короткое время потеряла отца, мать и обеих сестер. Отец Мураи, в то время уже глубокий старик, тоже вскоре скончался.
Бригитта со своим ребенком осталась в полном смысле слова одна на целом свете.
У нее был дом в степи очень далеко от столицы; здесь ее никто не знал. Имение называлось Марошхей, отсюда и фамилия семьи. После развода она приняла свою девичью фамилию и уехала в этот степной дом, чтобы спрятаться там от людей.
Бывало, когда ей из сострадания дарили красивую куклу, она, поиграв с нею недолго, отбрасывала ее прочь и снова принималась таскать в свою кроватку всякий хлам: камушки, кусочки дерева и тому подобное; так и теперь она взяла с собой в Марошхей свое величайшее богатство – сына – и стала холить и беречь его, не спуская глаз с детской кроватки.
Когда он подрос и его мир и сердечко расширились, то же самое произошло и с ней: она увидела окружающую ее степь и ей захотелось возделать пустыню вокруг себя. Она надела мужское платье, снова, как в юности, села на лошадь и явилась перед своей челядью. Как только мальчик научился держаться на лошади, он стал повсюду ездить с матерью, и ее деятельный, созидающий, ищущий дух постепенно передался ему. Дух этот домогался все большего, небо благословило ее на дело созидания; холмы в пустыне зазеленели, потекли ручьи, зашелестели виноградные лозы, в бесплодном каменистом поле рождалась могучая, героическая песнь. И это созидание принесло свои благословенные плоды. Бригитте стали подражать, возник союз, привлекавший все более отдаленных соседей; тут и там пустынная слепая степь как бы прозрела благодаря свободной человеческой деятельности.
На шестнадцатом году хозяйничанья Бригитты в Марошхее здесь появился майор, поселившийся в своем имении Увар, где он до тех пор никогда не бывал. У этой женщины, как он сам мне сказал, он научился работать и хозяйничать и к этой женщине воспылал той глубокой, запоздалой любовью, о которой было рассказано выше.
Сообщив, как было обещано в начале главы, о прежней жизни Бригитты, я могу вернуться к своему повествованию с того места, на котором мы его прервали.
Настоящее в степи
Мы ехали верхом в Марошхей. Бригитта и вправду оказалась той женщиной, что дала мне тогда лошадей. С дружеской улыбкой вспомнила она наше первое знакомство. Я невольно покраснел, вспомнив о чаевых. У нее не было в тот день других гостей, кроме майора и меня. Он представил меня как своего знакомого, с которым он часто встречался в пору своих странствий, добавил, что льстит себя надеждой, что отныне я из знакомого превращусь в друга. Я испытал, не скрою, большую радость от того, что ей было известно почти все, касающееся нашего прежнего знакомства с майором, что он, как видно, много рассказывал ей обо мне и еще сейчас с удовольствием вспоминает те дни, и что она сочла эти подробности достойными своего внимания.
Она сказала, что не собирается водить меня по замку и показывать поля, я увижу их попутно, когда мы будем гулять и когда я буду почаще приезжать к ней из Увара, на чем она любезно настаивала.
Майора она упрекнула в том, что он совсем ее позабыл. Майор извинился, сославшись на занятость делами, а главное – на то, что без меня не хотел ехать, а приезжать со мною не рисковал, не присмотревшись ко мне поближе и не решив, годится ли мое общество для его приятельницы.
Мы вошли в большую залу, где немного отдохнули. Майор достал грифельную доску и стал задавать ей вопросы; она отвечала на них просто и ясно, некоторые ее ответы он записывал. Бригитта тоже немало расспрашивала его о соседях, о нынешних делах, о предстоящем заседании сейма. Я имел при этом случай наблюдать, с какой серьезностью они говорили обо всем и с каким вниманием майор прислушивался к ее мнению. Сомневаясь в чем-нибудь, она открыто в этом признавалась и просила майора ее поправить.
Мы отдохнули, майор спрятал грифельную доску и все встали, чтобы прогуляться по имению. Они много говорили о переделках, только что законченных в ее доме. Когда же речь зашла о доме майора, мне почудилось, что заботливость, с которой она говорила о его делах, не чужда нежности. Бригитта показала ему новую деревянную галерею, опоясывающую нижний этаж замка, и спросила, стоит ли увить ее виноградом; по ее мнению, у его окон, выходящих во двор, тоже следовало бы построить такую, на ней приятно было бы посидеть в солнечные дни поздней осени. Она повела нас в парк, десять лет тому назад бывший запущенной дубовой рощей; теперь через него шли дорожки, виднелись огороженные источники, бродили лани. С неимоверным терпением обнесла она огромное пространство парка высокой каменной оградой для защиты от волков. Деньги для этого она по крупицам собрала из доходов, приносимых полями кукурузы, которую она выращивала с особым рвением. Когда ограда была готова, ловчие сомкнутой цепью, шаг за шагом прочесали все уголки парка, чтобы убедиться, что в нем не осталось ни одного волка, который мог бы принести приплод. К счастью, не нашлось ни одного. Только тогда со множеством предосторожностей в ограду запустили ланей. Животные словно понимали, что о них пекутся, и платили за это благодарностью: когда мы проходили мимо них, они нисколько не пугались и смотрели на нас темными, блестящими глазами. Бригитта охотно водила гостей и друзей по парку, так как очень его любила. Увидели мы и фазаний питомник. Пока мы прогуливались и сквозь ветви дубов на нас глядели легкие облачка, я успел рассмотреть Бригитту. Ее глаза, казалось мне, были еще черней и ярче блестели, чем у ланей, а может быть, это сегодня они сияли так ярко, оттого что рядом с нею шел человек, умевший оценить ее дела и замыслы. Зубы у нее были ослепительной белизны, а гибкий для ее возраста стан говорил о несокрушимом здоровье. Визит майора не был неожиданным, и Бригитта надела женское платье и отложила все дела, чтобы посвятить этот день нам.
Так, беседуя о самых разнообразных предметах, – о будущности края, о подъеме жизни и просвещения простых людей, об обработке и использовании земель, о регулировании вод Дуная и ограждении реки дамбами, о заслуженных и славных друзьях отечества, – мы обошли большую часть парка, поскольку Бригитта, как я уже сказал, не имела намерения показывать нам свое поместье, а просто хотела побыть в нашем обществе. Когда мы вернулись домой, наступил час обеда. К столу пришел и Густав, сын Бригитты, дочерна загорелый, приятный, стройный юноша, цветущего здоровья. Он сегодня вместо матери объезжал поля и распределял работы и теперь коротко доложил ей обо всем. За столом он сидел, скромно прислушиваясь к нашей беседе; его красивые глаза сияли восторженным ожиданием будущего и безоговорочным приятием настоящего. Здесь, как и у майора, слуги обедали вместе с господами, и я увидел среди них Милоша, который поздоровался со мной как со старым знакомым.
Большую часть времени после обеда мы посвятили осмотру хозяйственных новшеств, еще незнакомых майору. Затем прошлись по саду, побродили и по виноградникам.
К вечеру мы распрощались. Когда мы стали надевать верхнее платье, Бригитта начала выговаривать майору за то, что он недавно уехал вечером от Гёмера очень легко одетый – разве он не знает, как коварны росы этой равнины, зачем же подвергать себя опасности?! Он не оправдывался, сказал только, что впредь будет осторожнее. Но я-то знал, что в тот раз он заставил Густава надеть свою бунду: юноша не взял с собой ничего теплого, а майор его уверил, что у него имеется еще одна в конюшне. На сей раз, однако, мы уехали, снабженные всем необходимым. Бригитта сама заботилась о каждой мелочи и только тогда вошла в дом, когда мы после восхода луны, закутанные с ног до головы, уже сели в седла. Она дала майору несколько поручений, а затем попрощалась с нами со свойственными ей благородной простотой и дружелюбием.
Разговаривали эти двое весь день спокойно и весело, но мне казалось, что в голосе их трепещет тайная нежность, которой оба они стыдятся дать волю, считая себя слишком старыми. Но на обратном пути, когда я не мог удержаться от искренних и заслуженных похвал этой женщине, майор сказал:
– Друг мой, многие женщины в моей жизни страстно домогались меня; не знаю, любили ли меня столь же страстно; но общество и уважение этой женщины стали для меня величайшим счастьем на свете, в сравнении с которым ничтожно все, что я почитал счастьем прежде.
Он произнес эти слова без особой горячности, но с такой спокойной уверенностью, что я не мог усомниться в их правдивости. В ту минуту я испытал чувство, обычно мне не свойственное, а именно: я почти завидовал майору, имевшему такого друга, завидовал его хозяйственной деятельности; ведь у меня в ту пору не было, пожалуй, во всем мире ничего более надежного, нежели мой дорожный посох, который я беру в руки, когда хочу повидать ту или иную страну, но который все же не может служить твердой опорой.
Мы вернулись домой, и тут майор предложил мне провести у него еще лето и зиму. Он относился ко мне теперь с гораздо большим доверием и разрешил мне глубже заглянуть в свою жизнь и сердце, что пробудило во мне искреннюю любовь и сочувствие к этому человеку. Я обещал ему остаться, и тогда он сказал, что хочет поручить моему попечению какую-нибудь отрасль своего хозяйства, – я об этом, по его словам, не пожалею и такой опыт мне в будущем пригодится. Я согласился, и моя деятельность воистину пошла мне на пользу. Если у меня теперь свой дом, милая жена, для которой я тружусь, если я могу отвечать добром на добро и делом на дело, то всем этим я обязан майору. Раз попав в круг целеустремленной деятельности, развернутой моим другом, я старался выполнять свою долю работы как можно лучше, и чем больше я набирался опыта, тем лучше ее выполнял; я приносил пользу и научился уважать себя; познав радость труда, я понял также, насколько более ценно то, что умножает наличные блага, чем все мои прежние странствия под предлогом накопления опыта; так приучился я к труду.
Шло время, и я с огромным удовлетворением продолжал жить в Уваре.
В силу обстоятельств я теперь часто бывал в Марошхее. Меня там уважали, я стал почти членом обеих семей и все глубже проникал в их взаимоотношения. О необузданной страсти, о лихорадочном влечении, а тем более о магнетизме, о котором я слышал, тут не было и речи. Напротив, отношения между майором и Бригиттой были совсем особенного свойства, я таких еще не наблюдал. Слов нет, то было чувство, какое мы, когда дело касается отношений между людьми разного пола, называем любовью, но выглядело оно совсем иначе. Майор выказывал этой стареющей женщине такую нежность, такое почитание, что оно напоминало поклонение высшему существу; ее же дружба с ним переполняла нескрываемой, искренней радостью, и эта радость, словно поздний цветок, расцветала на ее лице и набрасывала на него не только отблеск неожиданной красоты, но и зажигала в нем румянец счастья и здоровья. Она отвечала другу тем же уважением, тем же почитанием, разве что примешивалась к этому забота о его здоровье и повседневных нуждах, что опять-таки свойственно женщине и любви. Этих границ в своих отношениях они не преступали ни на волос – и так продолжали жить рядом.
Майор как-то рассказал мне, что они однажды говорили о себе с полной откровенностью, как это редко бывает даже между близкими людьми, и тогда решили, что между ними будет царить только самая возвышенная дружба и взаимная искренность, что при единстве своих стремлений они будут всем делиться друг с другом, но не больше; остановившись у этого нерушимого нравственного порога, они, быть может, счастливо доживут так до конца своих дней – они не отваживаются искушать судьбу, ибо она может показать свое жало и снова проявить коварство. Так длится уже несколько лет, и так останется навсегда.
Вот что рассказал мне майор, но вскоре после этого судьба, не спросясь, сама дала ответ, решительным и неожиданным образом разрубив этот узел.
Стояли последние дни осени, можно даже сказать, начиналась зима, густой туман лег на крепко подмороженную землю; мы ехали с майором верхом по недавно проложенной, обсаженной молоденькими тополями дороге, собираясь поохотиться, когда вдруг сквозь туман к нам донеслись два глухих выстрела.
– Это мои пистолеты, не иначе! – воскликнул майор.
Прежде чем я успел что-нибудь понять и задать ему вопрос, он ринулся вперед по аллее, погнав лошадь с невиданной мною быстротой; я поскакал следом, чуя беду; когда я настиг его, предо мной предстало зрелище, такое жуткое и прекрасное, что и сейчас душа моя трепещет от ужаса и восторга: там, где стоит виселица и в камышах серебрится ручей, майор нашел Густава, который, уже изнемогая, боролся с целой стаей волков. Двух он застрелил, от третьего, прыгнувшего на его лошадь спереди, он отбивался саблей, остальных он в то же время удерживал пронзительным взглядом своих сверкающих от страха и ярости глаз; но они обступили его, голодные и упорные; достаточно было поворота головы, движения ресниц, самого ничтожного пустяка, чтобы они всей сворой набросились на него – и тут, в минуту крайней опасности, появился майор. Когда я подоспел, он уже вертелся среди волков, как разящее чудо, как метеор – на этого человека было страшно смотреть; он бросался на них, не щадя себя, сам похожий на хищного зверя. Как он соскочил с лошади, я не видел, ибо подоспел позднее; я только слышал выстрел из обоих стволов его пистолета, а в момент моего появления его охотничий нож сверкал среди волков и сам он был на ногах. Прошло всего несколько секунд, я успел только разрядить в волков свое охотничье ружье, и свирепые твари исчезли, словно поглощенные туманом.
– Заряжайте! – крикнул майор. – Они сейчас вернутся!
Он подобрал брошенные пистолеты и стал совать в них патроны. Мы зарядили и свои и, постояв немного, услышали бешеную рысь вокруг дуба смерти. Было ясно, что голодные, напуганные звери рыщут вокруг нас, собираясь с мужеством для нового нападения. По сути, эти животные, если их не подстегивает голод, весьма трусливы. Мы не были снаряжены для охоты на волков, злосчастный туман густо застилал все вокруг, а потому мы пустились в обратный путь к замку. Гонимые страхом лошади мчались во весь дух, и по дороге я не раз замечал преследующую меня тень, серую в сером тумане. С неописуемым терпением стая летела рядом с нами. Приходилось быть настороже. Майор выстрелил на всем скаку, но мы ни о чем не могли его спросить – для разговоров не было времени. Наконец мы достигли решетки и едва лишь въехали в парк, как породистые, красивые собаки, проскочив мимо, вырвались за ограду и с бешеным лаем погнали волков в степь.
– Скорее на коней! – крикнул майор спешившим навстречу слугам. – Спускайте волкодавов, чтобы не пострадали мои бедные бульдоги. Созовите соседей, и пусть облава длится хоть несколько дней – сколько потребуется. Я заплачу двойную награду за каждого мертвого волка, исключая тех, что лежат под дубом, тех мы убили сами. Возле дуба лежит, наверное, и пистолет, что я в прошлом году подарил Густаву, а то я вижу у него только один, другая кобура пуста; поглядите хорошенько!
– Вот уже пять лет, – сказал он, обернувшись ко мне, когда мы скакали по парку, – ни один волк не отваживался подходить к нам так близко, да и вообще здесь было спокойно. Надо полагать, зима будет суровой, и в северных областях она уже наступила, вот почему они забрались так далеко.
Слуги выслушали приказание своего господина, и спустя короткое время, прежде чем я успел этому поверить, целый отряд охотников был уже снаряжен для облавы; за ним мчалась свора лохматых собак, живущих в венгерских степях и столь здесь необходимых. Люди сговорились, как собрать соседей, и уехали, чтобы начать охоту, с которой они вернутся не раньше, как через неделю-две, а то и больше.
Все мы втроем, не слезая с коней, наблюдали за большей частью этих приготовлений. Но, повернув от хозяйственных построек к замку, вскоре убедились, что Густав все же ранен. Когда мы проезжали под аркой ворот, чтобы направиться к себе, ему стало дурно, и он едва не упал с лошади. Кто-то из слуг подхватил и снял его с седла; тут мы увидели, что бок лошади в крови. Мы внесли юношу в одну из комнат нижнего этажа, выходящих в сад, майор тотчас же распорядился разжечь огонь в камине и приготовить постель. Обнажив больное место, он сам осмотрел рану. Это был легкий укус в бедро, неопасный – только потеря крови и пережитое волнение были причиной того, что юноша то и дело терял сознание. Густава уложили в постель и немедленно послали одного гонца за врачом, другого – к Бригитте. Майор остался у постели больного, заботясь о том, чтобы обмороки не повторились. Приехал врач, дал юноше укрепляющего и объявил, что опасности нет и что потеря крови сама по себе – целительное средство, ибо она ослабляет воспаление, обычно наступающее после таких укусов. Единственную опасность представляет перенесенное юношей потрясение, но несколько дней покоя снимут лихорадку и усталость. Мы успокоились и обрадовались, и врач уехал, напутствуемый изъявлениями благодарности, ибо не было человека, кто бы не любил мальчика. К вечеру приехала Бригитта, она успокоилась не прежде, чем с присущей ее нраву решительностью не ощупала каждую косточку сына и не убедилась, что, кроме укуса, нет ничего, что грозило бы опасностью. Закончив обследование, она осталась у постели больного и давала ему предписанное врачом лекарство. На ночь пришлось наспех приготовить ей постель в комнате больного. На другое утро она снова сидела возле юноши, прислушиваясь к его дыханию, а он спал, спал таким крепким, освежающим сном, словно не хотел просыпаться. И тут произошла потрясшая мне сердце сцена. Она по сей день у меня перед глазами. Я спустился вниз, чтобы справиться о самочувствии Густава, и вошел в комнату, соседнюю с той, где лежал юноша. Я уже говорил, что окна ее выходили в сад; туман рассеялся, и багровое зимнее солнце светило в окна сквозь голые ветви деревьев. Майор был уже здесь, он стоял у окна, словно что-то рассматривая в парке. В комнате больного, куда я заглянул через дверь и где на окнах были задернуты легкие занавеси, сидела Бригитта и смотрела на сына. Вдруг из уст ее вырвался радостный вздох, я посмотрел внимательней и увидел, что взгляд ее с нежностью устремлен на лицо юноши, лежавшего с широко открытыми глазами; он проснулся после долгого сна и бодро осматривался вокруг. С места, где стоял майор, тоже послышался шорох; оглянувшись, я увидел, что майор повернул голову и на ресницах у него повисли две крупные слезы. Я подошел к нему и спросил, что с ним. Он тихо ответил:
– У меня ведь нет сына…
Острый слух Бригитты, должно быть, уловил эти слова; в тот же миг она очутилась у двери комнаты и робко взглянула на него, – взгляд ее я не в силах описать, он словно в оцепенении страха не решался на просьбу; она произнесла всего одно слово: «Стефан».
Тут майор совсем отвернулся от окна, оба секунду смотрели друг на друга – всего лишь секунду, – но что-то неудержимо толкнуло его в ее объятия, сомкнувшиеся вокруг него с безмерной силой. Я ничего не слыхал, кроме глубоких, тихих всхлипываний мужчины, тогда как женщина все крепче обнимала и прижимала его к себе.
– Но уж теперь мы никогда больше не расстанемся, Бригитта, и в этой жизни, и в вечности.
– Никогда, мой дорогой друг!
Я был в величайшем смущении и хотел тихонько выскользнуть за дверь, но она подняла голову и сказала:
– Оставайтесь здесь, не уходите!
Женщина, которую я всегда видел серьезной и строгой, плакала у него на груди. Она подняла еще залитые слезами глаза и – таково очарование самого прекрасного, чем владеет слабый, несовершенный человек на земле, – прощения – что черты ее светились неповторимой красотой, и я был глубоко растроган.
– Бедная, бедная жена моя! – проговорил майор удрученно. – Пятнадцать лет я был лишен тебя, пятнадцать лет ты приносила себя в жертву.
Она сложила руки и умоляюще взглянула на него:
– Да, пятнадцать лет я ошибалась, прости мне, Стефан, этот грех гордыни, я и не подозревала, как ты добр, – все это так естественно, все мы бессильны перед нежной властью красоты.
Он закрыл ей рот рукой и возразил:
– Ну как ты можешь говорить такое, Бригитта! Да, мы бессильны перед властью красоты, но мне пришлось обойти весь свет, чтобы узнать, что она скрыта в сердце и что я оставил ее дома – в единственном сердце, жившем для моего блага, в сердце стойком и надежном; я считал его утраченным и все же пронес с собой через все эти годы и чужие края. О Бригитта, мать моего сына! Днем и ночью стояла ты перед моими глазами!
– Я не была утрачена для тебя, – возразила она, – я прожила грустные годы раскаяния! Какой ты стал добрый, теперь я узнала тебя, теперь я знаю, какой ты стал добрый, Стефан!
И они снова бросились друг к другу в объятия, точно не могли насытиться, точно не могли поверить во вновь обретенное счастье. То были люди, с чьих плеч сняли огромную тяжесть. Перед ними снова открылся мир. В них ключом била радость, какую можно видеть только у детей, они и были в эти мгновения невинны, как дети; ибо самый чистый, самый прекрасный цветок любви, притом любви возвышенной – это прощение, почему мы и находим его всегда у бога и у матерей. Благородные сердца прощают часто, низкие – никогда.
Супруги опять забыли обо мне и вошли в комнату больного, Густав, уже смутно догадавшийся обо всем, лежал рдея, как пунцовая роза, и смотрел на них, затаив дыхание.
– Густав, Густав, он – твой отец, а ты этого и не знал, – воскликнула Бригитта, переступив порог полутемной комнаты.
Я же удалился в сад и думал: «О, как священна, как священна должна быть супружеская любовь, и как ты нищ, ты, по сей день ее не знающий, ибо сердце твое в лучшем случае бывало охвачено лишь нечистым пламенем страсти».
Я вернулся в замок очень поздно, здесь царило полное умиротворение. Деятельная радость, подобно солнечным лучам, пронизывала все комнаты. Меня, как свидетеля прекрасного события, приняли с распростертыми объятиями. За мною уже послали людей на поиски, ибо, занятые собой, супруги не заметили, как я исчез. Потом они рассказали мне – отчасти в тот же день в несвязных выражениях, отчасти в дальнейшем более последовательно – обо всем, что произошло и о чем я уже рассказал выше.
Итак, мой друг оказался Стефаном Мураи. Путешествовал он под фамилией Батори, принадлежавшей одному из его предков по материнской линии. Под этим именем я и знал его, но он всегда просил звать его майором – чин этот он получил на испанской службе, везде его так и называли. Объездив весь свет, он, по зову сердца, под тем же именем отправился в свое затерянное в степи поместье Увар, где он никогда дотоле не бывал и где его никто не знал. Там, как ему было доподлинно известно, жила по соседству его разведенная жена. Он ни разу не поехал к ней в Марошхей, где она так славно хозяйствовала, пока до него не дошел слух о ее смертельной болезни. Тогда он, не задумываясь, помчался к ней, вошел в ее комнату, но она в бреду его не узнала; ни днем, ни ночью майор не отходил от ее постели, неусыпно ухаживал за Бригиттой, пока она не выздоровела. Тогда, растроганные этой встречей, побуждаемые затаенной любовью, но все же страшась будущего – ведь теперь они не знали друг друга и боялись, как бы опять не стряслось что-нибудь ужасное, – заключили они тот странный договор о дружбе и только дружбе; долгие годы оба соблюдали его и ни один не осмеливался его нарушить, пока судьба, поразившая их сердца, не расторгла его и не соединила их в более прекрасный, естественный союз.
Теперь все было хорошо.
Две недели спустя новость получила огласку и докучливые поздравители стали стекаться из ближних и дальных мест. Я еще целую зиму оставался у этих людей, а именно в Марошхее, где пока они жили всей семьей, – и откуда майор даже не собирался увозить Бригитту, ибо здесь было средоточие ее деятельности. Но счастливее всех был Густав, который слепо боготворил майора, считая его лучшим человеком на свете, и которому теперь было дозволено видеть в нем отца.
В ту зиму я узнал два сердца, только сейчас расцветшие для полного, хотя и запоздалого счастья.
И никогда, никогда я эти сердца не забуду!
Весной я вновь переоделся в немецкое платье, взял в руки мой немецкий посох и направился в свое немецкое отечество. По дороге увидел я могилу Габриэлы, она скончалась еще двенадцать лет тому назад в расцвете юной красоты. На мраморе красовались две большие белые лилии.
Исполненный смутных, нежных мыслей, пошел я дальше, переправился через Лейту, и милые сердцу голубые горы моей родины выросли у меня перед глазами.
1843








