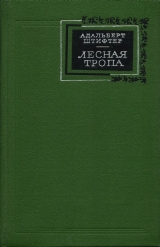
Текст книги "Лесная тропа"
Автор книги: Адальберт Штифтер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 37 страниц)
Авдий мало-помалу освоился с мыслью, что дочка у него слепая и навсегда останется слепой.
Вместо того чтобы заняться ее воспитанием и развивать ее духовные и жизненные силы – в той мере, в какой они поддавались развитию, – Авдий задался совсем другой целью – собрать для девочки большое богатство, чтобы после его смерти она могла купить себе и руки, которые бы ей служили, и сердца, которые любили бы ее. Он хотел собрать для нее такое богатство, чтобы ей были доступны любые услады для всех остальных чувств, раз уж она лишена одного из них.
Приняв это решение, Авдий стал очень расчетлив. Он отпустил всю челядь, оставив только одну служанку – няню Диты и сторожа при доме. Себе он отказывал решительно во всем, носил худую одежду, скудно питался и, вспомнив пятнадцатилетний срок своего обучения, на старости лет наново учился добывать деньги и добро, гонялся за барышами, собирал проценты, под конец стал давать деньги в рост, и все это с алчностью и опаской хищного зверя, снедаемый мыслью о старости и близкой смерти. Он не позволял себе передышки, снова занялся торговым промыслом, который был хорошо знаком ему и в Африке обогатил его. При этом он сохранил те же навыки: ночью в бурю и непогоду, когда и пес забивается в конуру и хорек в нору, и снаружи не видно было ни души, по полям пробиралась сгорбленная черная тень еврея, а когда ему случалось заблудиться, он стучался в убогое оконце, прося ночлега, и ему открывали с неохотой, а чаще не впускали вовсе; он теперь много сталкивался с людьми, и, узнав его, они стали питать к нему ненависть и отвращение.
Несчастье, на которое обречена была его дочь, толковали как праведный суд божий, покаравший вопиющую скаредность отца. Работники, которых он брал из своих единоверцев, не считали зазорным воровать у него, они еще не так бы обкрадывали его, если бы он не был начеку.
Покончив с расчетами и делами, он дома неотступно сидел в комнате у Диты. Ей полюбилось креслице с опорой для ее прелестной головки, она охотно сидела в нем и теперь, хотя оно стало тесно для ее расцветающего, тянущегося ввысь тела. А отец пристраивался на скамеечке возле нее и без конца что-нибудь говорил ей. Он учил ее произносить слова, смысл которых был для нее закрыт – она повторяла эти слова и придумывала другие, отвечавшие ее внутреннему состоянию, их, в свою очередь, не понимал он и обучался им. Так они часами разговаривали между собой, и каждому было ясно, что подразумевает другой. Пошарив в воздухе своими изощренными руками, она быстро находила и гладила его жесткие щеки и прямые, начинавшие редеть волосы. Иногда он вкладывал ей в руки подарок, кусок ткани на платье, о качестве которого она могла судить на ощупь, в особенности любила она льняное полотно и умела оценить, насколько оно гладко, мягко и ровно, ей нравилось носить его, потому что на людях она не бывала, в нарядах не нуждалась, а льняное белье прилегало прямо к телу, зачастую же платьице из льняного полотна служило ей единственной одеждой. Надев его, чтобы ходить в нем дома, она так красиво собирала его складки и скрепляла спереди пряжкой, что зрячие люди непременно решили бы: это сделано перед зеркалом. А потом она проводила ладонью по ткани, мяла ее между большим и указательным пальцем и говорила:
– Отец, эта еще мягче прежней.
Она ставила обутые в туфельки ноги на скамеечку и ощущала мягкость ее обивки. Иногда отец приносил ей съестное, фрукты и другие лакомства, она брала пальцами косточку или что-нибудь еще, чего не едят, и клала в стоящую под рукой чашку, чтобы не насорить на полу.
Росла она высокой и складной, и, когда ее белая фигурка мелькала в саду, на лужайке, или возле белой садовой стены, она производила впечатление девушки-подростка.
Из зрячих тварей к Авдию больше всего был привязан пес Азу. Потому, что его мать убили, когда он был еще слепым щенком, Авдий подобрал и вырастил его. Став взрослым псом, он всюду сопровождал хозяина, и когда тот по полдня просиживал в комнате у Диты или же на садовой лужайке, пес сидел рядом и не сводил глаз с обоих, будто понимал, о чем они говорят, и любил их обоих. Вечером, придя спать к себе в комнату, Авдий устраивал под столом подстилку для пса и старался, чтобы она была помягче.
И с псом у Авдия вышла незадача, словно так уж было суждено, чтобы для этого человека все оборачивалось непредвиденной и жестокой досадой.
В окрестностях обнаружились случаи собачьего бешенства, Авдий же на ту пору возвращался домой верхом на муле и в сопровождении неизменного Азу. Выехав из рощи, расположенной в нескольких милях от его дома и упиравшейся одним краем в упомянутый выше сосновый бор, Авдий заметил у пса непривычное беспокойство, которое, при всем его невнимании, бросилось ему в глаза. Пес рычал, забегал наперерез мулу, поднимался на задние лапы, а увидев, что Авдий остановился, он круто повернул и стрелой помчался назад по дороге.
Как только Авдий тронулся снова, пес сразу же воротился и повторил все то же. При этом он так жутко сверкал глазами, что у Авдия зародились самые неприятные опасения. В скором времени они достигли мелководного ручейка, через который надо было перебираться вброд. Пес заупрямился, не желая идти в воду, изо рта у него показалась легкая пена; хрипло скуля, он норовил укусить мула за передние ноги, когда тот собрался ступить в ручей. Авдий достал из кобуры берберийский пистолет, на мгновение придержал мула и выстрелил в пса. Сквозь пороховой дым он увидел, как обагренное кровью животное зашаталось; не дав воли замешательству, он перебрался через ручей и продолжал путь. Проехав с полчаса, он вдруг заметил, что пояс с серебряными монетами, который он всегда носил на себе, куда-то исчез, и тут осознал свою чудовищную ошибку в отношении собаки.
Остановившись в роще на отдых он снял пояс и теперь понял, что забыл его там. Он тотчас поспешил назад. Вскоре достиг он ручейка, но на том месте, где Азу был застрелен, его не оказалось, остались лишь следы крови. Авдий поехал дальше и по всей дороге видел кровь. Наконец он добрался до рощи, нашел пояс, а рядом, при последнем издыхании, лежал пес Азу. Обратив на хозяина стекленеющие глаза, животное сделало беспомощную попытку завилять от радости хвостом. Авдий бросился к нему, называл его ласковыми именами, пробовал осматривать рану, а пес в ответ силился непослушным языком лизнуть ему руку, но не смог и через несколько мгновений испустил дух. Авдий вскочил, начал рвать на себе волосы, выл и выкрикивал страшные проклятия – кинулся к мулу, выхватил из кобуры второй пистолет и стиснул его пальцами. Минуту спустя он швырнул пистолет на траву. Пояс он то брал, то бросал снова, топтал его ногами. Наконец, уже к ночи, – а собака была убита среди дня, – он поднял пояс с деньгами, принадлежащими Дите, и надел его на себя. Отыскав в траве пистолет, он сунул его в кобуру. После этого он сел на мула и отправился домой.
Рассвет уже брезжил над безлюдной долиной, когда он подъехал к своему дому, весь в крови убитого животного, – обследуя рану, он брал его на руки. Правда, он почти не надеялся спасти Азу, зная как метко научился стрелять, когда жил в пустыне. В первый день после возвращения он позволил себе отдохнуть, но на второй нанял двух мужчин, отправился с ними в рощу, чтобы они у него на глазах зарыли пса в землю.
Воротясь домой, он продолжал заниматься делами, как занимался ими доселе.
Вскоре после этого события он занемог. Неизвестно, то ли причиной болезни было пережитое волнение, то ли непривычный, неблагоприятный для него климат, так или иначе болезнь оказалась опасной, и он долго не мог от нее оправиться.
Но именно в эту болезнь, когда, казалось бы, все должно идти своим естественным порядком, свершился один из тех поворотов в судьбе этого человека, какие за его жизнь нам уже не раз приходилось наблюдать.
Произошло сверхъестественное событие, такое событие, которое не перестанут считать сверхъестественным, пока не познают те великие, всепроницающие силы природы, в кои погружена наша жизнь, и пока не научатся бережно скреплять и расторгать любовные узы между этими силами и нашей жизнью. Доселе они чуть ли не всегда представляются нам необъяснимыми, и о существе их у нас, пожалуй, нет еще даже догадок.
Дита стала почти взрослой девушкой, стройной, цветущего телосложения и, по всей видимости, обещала превратиться в настоящую красавицу. За свою болезнь Авдий ни разу не входил к ней в комнату; да и она в эту пору была нездорова – ее трясла непонятная дрожь, то пропадая, то возвращаясь надолго и в разное время, чаще всего в жаркую и душную погоду. Врач не мог определить ее недуг и предполагал, что происходит это от роста, – она особенно вытянулась за последнее время, конечности удлинились свыше меры, что и обессилило ее. Когда они начнут округляться, болезненные явления исчезнут. Авдий был на той ступени выздоровления, когда уже можно ходить по комнатам в пределах дома, но не далее, а возвратиться к делам еще нельзя. Будучи в таком состоянии, он однажды сидел у себя в комнате, занимался подсчетами и выкладками и ломал себе голову над тем, каким манером восполнить время болезни, чтобы оно в целом не оказалось убыточным, и тут-то надвинулась гроза. Он не обратил на нее особого внимания, ибо грозы, свидетелем которых он был здесь, по силе и неистовству даже отдаленно не шли в сравнение с теми, какие он видывал в родном городе посреди пустыни и вообще в Африке.
Но тут, когда он сидел над своими подсчетами, а дождь пока что тихонько капал по крыше, вдруг раздался оглушительный удар, и огненная вспышка слепящим светом озарила весь дом. Авдий сразу же понял, что молния попала в его дом. Первая его мысль была о Дите. Несмотря на слабость в ногах, он бросился к ней в комнату. Молния ударила именно сюда, пробив потолок и пол, так что комната была застлана толстым слоем пыли, железные прутья птичьей клетки расплавились, но сидевшая в ней черногрудка, чье пение так радовало Диту, осталась невредима и как ни в чем не бывало сидела на жердочке. Не пострадала и сама Дита – она сидела в постели. Сегодня дрожь совсем измучила ее, и ей захотелось полежать.
Авдий, искушенный в грозах обитатель пустыни, одним взглядом охватил всю картину, сразу же распахнул окно, чтобы выветрился резкий противный запах фосфора, потом посмотрел на Диту, взгляделся пристальнее и увидел, что у нее на лице написано страшное волнение, близкое к ужасу, к смертельному страху. Когда он подошел ближе, желая понять, что с ней, она закричала так, будто на нее надвигается чудовище и, отстраняясь, замахала руками – впервые она протягивала руки в определенную точку. Безрассудное подозрение вспыхнуло у Авдия: он бросился к очагу, где был разожжен огонь, выхватил горящую головешку, бегом вернулся к Дите и потряс ею перед глазами девочки. Она опять вскрикнула, на лице ее выразилось мучительное старание сделать что-то непривычное, – наконец, будто внезапно сообразив, она стала водить взглядом вслед за огненными кругами от головешки. Врача в доме не было, Авдий кинулся за сторожем, пообещал ему сто золотых, если он во всю мочь доскачет верхом до врача и привезет его. Сторож вывел из конюшни лошадь, спешно оседлал ее и поскакал. Авдий следил за ним из раскрытого окна. Но пока сторож седлал коня, Авдий надумал затворить все ставни на окнах у Диты в комнате и вдобавок задернуть занавески, чтобы ее глаза для начала оставались в своей благодатной темноте и не пострадали от внезапно хлынувшего света. Когда он это проделывал, Дита сидела спокойно, затем он поспешил в галерею и, как мы сказали, распахнув окно, ждал, чтобы сторож уехал, после чего бесшумно воротился к Дите, сел у ее постели и немного погодя заговорил с ней. Голос – это для нее было самое достоверное в отце. Постепенно голос возымел обычное действие. Испуганное дитя мало-помалу успокоилось и в темноте потихонечку позабыло жестокое великолепие впервые хлынувшего в глаза света. Немного погодя Дита заговорила и сама рассказала о том, как сначала были отдаленные скрежещущие звуки, а потом в комнате встал столбом гулкий тупой грохот.
Отец на все давал ей ответ, прибавляя самые ласковые слова любви. Когда разговор на время прерывался, он вставал в темноте, заламывал над собой руки или до хруста стискивал пальцы, как впиваются в дерево или железо, чтобы утишить внутреннюю бурю. Но потом опять садился около постели и сидел как можно дольше, приучаясь обуздывать себя.
Желая добавить к голосу еще одну примету, Дита ловила его руки и, поймав, гладила их, чтобы проверить, он ли это. Теперь он сидел около нее, не отходя ни на минуту, и она постепенно заговорила о каждодневных обычных событиях своей жизни. При этом видно было, что она очень устала, особенно после того, как на его расспросы ответила, что дрожь, к счастью, совсем прошла. Немного спустя, она замолчала окончательно и, доверчиво пролепетав какие-то несвязные слова, поудобнее положила голову на подушку и уже во сне опустила веки на обретенные внове и еще не познанные ею сокровища. Видя, что она спит крепким сном, Авдий осторожно высвободил свою руку и пошел в сад взглянуть, что сейчас творится снаружи. Уже вечерело. Та же гроза, которая сделала Диту зрячей, насквозь продырявила крышу на его доме, а у соседей побила урожай, но он ничего этого не заметил. Теперь, когда он стоял в мокрой траве, все уже кончилось. Кругом царила глубокая тишина, солнце садилось на западном краю неба, раскинув на востоке, куда только что ушла гроза, над всем темнеющим здесь небосводом широкий сияющий полукруг радуги.
После полуночи явился наконец долгожданный врач. Однако, по его мнению, не следовало будить сладко спящую девушку. Он считал более целесообразным произвести обследование при дневном свете. В остальном же одобрил все, что сделал Авдий.
На другое утро, когда взошло солнце, комнату Диты осветили лишь настолько, чтобы можно было определить, видит она или нет; впускать полный свет сочли для нее вредным. После краткого осмотра, врач заявил, что она видит. Решено было держать ее в комнате и лишь постепенно усиливать освещение, чтобы она исподволь привыкла к выступающим из темноты предметам и чтобы глаза у нее не воспалились от слишком резкого и непривычного света.
Ей сказали, что она нездорова и должна побыть в комнате, но болезнь скоро пройдет, а тогда глаза ее будут видеть. Она не понимала, что значит – видеть, однако покорно уселась на свое креслице, откинула голову на его спинку и только хваталась за зеленый щиток, который прикрепили над ее глазами. С окон сдергивали одну драпировку за другой, и окружающее мало-помалу вырисовывалось перед ней, но оно было ей незнакомо; ставни постепенно раскрывали и наконец на окнах раздвинули последние занавески, и огромная земля и необъятное небо разом ворвались в крошечный человеческий глаз… Она же не понимала, что это не она сама, а нечто находящееся вне ее, до чего она частично дотрагивалась раньше и чего сможет коснуться полностью, если через все пространства за много-много дней доберется туда.
Авдий учил теперь Диту видеть. Он брал ее за руку, чтобы она узнала в его руке ту самую, которая водила ее по комнатам, или по саду. Он поднимал ее с креслица. Врач и все трое слуг стояли тут же.
Он отводил ее на шаг от креслица, требовал, чтобы она взялась за его спинку, которая так полюбилась ей, потом за локотники, за ножки и все остальное – и объяснял, что это и есть ее креслице, в котором ей всегда нравилось сидеть. Потом поднимал скамеечку, давал Дите потрогать ее и объяснял, что сюда она ставила ноги. Потом показывал ей собственную ее руку, пальцы, кончик ноги, протягивал палку, которая бывала ей помощью в осязании, смотрел, чтобы она не только взяла ее, но и плотно обхватила пальцами – требовал, чтобы она прикоснулась к его одежде, давал ей кусок полотна, проводил по нему ее рукой и говорил, что это и есть то самое льняное полотно, которое было ей так приятно на ощупь.
Потом опять сажал ее в кресло, присаживался перед ней на корточки, обоими указательными пальцами показывал на свои глаза и объяснял, что этими штуками можно видеть все то, до чего дотянуться не хватило бы и сотни приставленных друг к другу рук.
Он требовал, чтобы она закрывала глаза и сквозь опущенные веки прикасалась пальцами к глазным яблокам. Она слушалась, но тотчас же отнимала пальцы и открывала глаза. Пока она сидела, он показывал на все хорошо знакомые ей предметы в комнате и объяснял, как она ими пользовалась. Хотя она и сопротивлялась из страха обо что-нибудь стукнуться, он ходил с ней по комнате, желая дать ей понятие о пространстве, подводил ее к различным предметам и пояснял, что добраться до каждого нужно время, хотя взгляд обнимает их все разом.
Он провел у нее в комнате целый день. Выводить ее в сени и в сад и показывать то, что там находится, он пока не решался, боясь избытком впечатлений повредить ей. За столом он называл ей кушанья; показал ложку; ножом и вилкой она никогда еще не пользовалась, а ко рту подносила еду так же неловко, как в ту пору, когда была слепа.
К вечеру у девочки открылся сильный жар. Ее уложили в постель.
Когда стало смеркаться и наконец совсем стемнело, Дита решила, что она опять ослепла и сказала об этом отцу. Он возразил ей, что это и есть ночь, когда, как она знает, все ложатся спать, потому что кончился дневной свет, при котором глаза только и могут видеть, и вернется он спустя некоторое время, а пока люди закрывают глаза и спят. А что она не ослепла, он может сейчас же доказать ей. Он зажег большой светильник и поставил на стол. Все предметы сразу стали видны, но по-иному, нежели днем, – они резко выступали из больших черных теней, занимавших все промежутки. Пламя светильника напомнило Дите молнию, вчера точно так же что-то зашипело, сказала она, а потом раздался ужасный грохот и отец подбежал к ее постели. Авдий тотчас же погасил светильник, сел около постели, взял руку Диты, как в те времена, когда она была слепой, и говорил с ней до тех пор, пока она не задремала, как обычно.
На другой день она проснулась успокоенной и окрепшей, с уже гораздо меньшим волнением, чем вчера, смотрела на окружающие предметы; видя это, отец велел ее одеть и ближе к полудню, когда трава просохла от росы, вывел ее не только в сад, но и за пределы сада, в долину. Тут он показал ей небо, безбрежную синь, по которой плыли серебристые материки, и объяснял, что это синее, а это белое. Потом показал ей вниз на долину, на пологую мягкую ложбинку, идущую от них вдаль, и объяснил, что это земля, по которой они ходят, мягкий ковер у них под ногами – это зеленая трава, а то сверкающее, чего не переносят ее глаза и что ослепляет сильнее вчерашнего светильника, это солнце – светильник дня, оно всегда приходит после сна, приносит с собой день и дает глазам силу все видеть.
Потом он повел ее во двор к фонтану, у нее на глазах подергал металлическую ручку, пока струя не взметнулась вверх, и показал ей неизменно великое для него чудо – простую воду, и дал ей отхлебнуть светлой, прозрачной и прохладной влаги, которую зачерпнул стаканом. В течение дня он показал ей деревья, цветы, объяснил разницу в красках, что было для нее совсем внове, и при пересказе она не только все путала, но и неправильно толковала, особенно, если в голове у нее теснились вместе краски и звуки. В траве часто сновали зверушки, которых он спешил ей показать, а когда в воздухе мелькала птица, он старался направить на нее взгляд Диты. Когда они вышли за пределы сада, на пустынную поляну, оказалось, что Дите прежде всего надо приучиться ходить, – она как щупальцами вцеплялась в землю ступнями и не решалась быстро и уверенно переставить кончик ноги вперед, на траву, не зная, как велика пропасть между этим шагом и следующим, и оттого, став зрячей, ходила гораздо неувереннее, чем раньше, будучи слепой; тогда она спокойно переставляла ноги, потому что безошибочно попадала на твердую землю и не подозревала, сколько всякой всячины встретится на следующем шагу. Она радовалась всему, что видела, непрерывно смотрела по сторонам и больше всего восторгалась домом, в котором они живут, единственной диковиной такого рода на всем пустынном лугу. Она еле согласилась вернуться к себе в комнату, ей не хотелось расставаться с синевой небес, которая особенно ее пленила, и с уходящей в неоглядную даль зеленью долины. Она смотрела во все глаза и не могла постичь, как это одно дерево, край садовой ограды или развевающаяся пола отцовской одежды сразу отнимают у нее такую большую часть мира и как она сама, приложив ладошку к переносице, сразу закрывает все-все вокруг…
Вечер, как и предыдущий, принес с собой полное изнеможение, и отец по-вчерашнему убаюкал дочку, чтобы назавтра продолжать начатое.
Авдий забросил торговые дела, которыми недавно занимался с таким рвением, и всецело посвятил себя Дите, преподавая ей новую науку видения.
Что для других родителей раздвигается в длинные промежутки, дробится на миллионы мгновений, то на него свалилось разом. Одиннадцать лет на глазах Диты лежала пелена, одиннадцать лет жила она на свете, дожидаясь того, чтобы увидеть этот свет, а тем временем он открывался ей с другой стороны, со стороны ограниченного, обособленного осязания вслепую: но то, что говорят о сказочном цветке, который годами прорастает из унылого серого кустика, потом за несколько дней выбрасывает вверх стройный стебель и с треском распускается в целую башню великолепных цветов, то же случилось и с Дитой: едва раскрылись два цветка у нее во лбу, вокруг с молниеносной быстротой расцвела еще невиданная весна; но ей был дарован не только внешний мир, душа ее тоже настраивалась на более высокий лад. Подобно тому как на глазах растут крылья у птенцов, еще сидящих на том месте, где они вылупились из скорлупы, столько времени мешавшей крылам развернуться, так у Диты в душе они впервые расправлялись во всю ширь, ибо каждый миг прилетал с бесценными дарами, каждое мгновение несло с собой целые миры и день кончался усталостью от накопленного в течение него груза. Так чудодейственна сила света, что за короткий срок Дита изменилась даже телом; щеки зарумянились, губы расцвели и спустя несколько недель развились и окрепли все ее члены. У Авдия волосы совсем побелели, почерневшее лицо вдоль и поперек пересекали рубцы и в чертах залегла печать измождения. Таким он бродил рядом с дочерью, которая выступала теперь грациозно и уверенно; для них что ни день, то был праздник, и это очень нравилось Дите, а ему не менее.
Лицо девочки не только стало красивее, оно ожило, все явственнее открывая самое лучшее, чем владеет человек, – красоту души.
Много лет назад Авдий превратился в жестокого скрягу, зато теперь никто не узнавал его. Он всегда был подле Диты. И те, что ненавидели его, с явной приязнью смотрели на невинное личико его дочери.
Ее глаза, прежде пугавшие своим безучастием, теперь обрели живую человеческую прелесть, они заговорили, как говорят глаза человека, они выражали то веселость, то любопытство, то изумление, выражали они и нежность, когда она, болтая и ласкаясь, смотрела на лицо Авдия, ей одной оно не казалось безобразным, ибо то, чем внешний мир был для ее глаз, тем он, отец, был для ее души; нет, он был для нее даже больше, нежели внешний мир, ведь она не сомневалась, что он-то и подарил ей весь этот внешний мир.
Так прошло лето и за ним очень тоскливая для девочки зима, потом опять лето и опять зима. Дита росла, расцветала и становилась все прекраснее.
Но были две странности, отличавшие ее от других людей.
Одна относилась к тем загадкам природы, которые встречаются, порой, хотя и крайне редко. Была эта странность в молодости и у Авдия, однако с годами она пропала. С того дня, как молния ударила в комнату Диты и вызвала у девочки такую нервную встряску, все стали замечать, что в грозовую погоду или же в такую, когда грозовые тучи бродят на горизонте, девочка была особенно оживленна и даже радостно возбуждена, меж тем как девушки и женщины обычно боятся грозы. Она же любила грозу, и когда где-нибудь на небе собирались грозовые тучи, она выбегала посмотреть, надвигаются ли они. В один такой мглистый, душный, предгрозовой вечер Дита стояла у отворенного окна и смотрела на отдаленные вспышки молний, и тут сидевший позади Авдий увидел, как вокруг ее головы появилось легкое, слабое, тусклое свечение, а кончики шелковых лент, вплетенных в косы, растопырились и встали стоймя. Авдий не испугался, ибо то же самое бывало и у него когда-то в молодости, зачастую без всякого повода, и в зрелые годы – при сильном волнении, о чем ему не раз рассказывала мать. По словам матери, это совпадало с радостным оживлением или с бурным ростом, но его телесному здоровью никогда не вредило. Авдий продолжал спокойно сидеть позади Диты, не говоря ей о том, что видит. Он и так перенес спальню Диты в другое место на следующий же день после того, как молния ударила к ней в комнату. Теперь же, заметив это явление, поспешил поставить на крыше громоотводы, какие видел во многих местностях Европы. Припомнил он еще, что слышал однажды на востоке, будто ночью, когда в небе полыхают молнии, а гроза все не может разразиться, – внизу, на земле, из чашечки иных цветов подымается легкое пламя или же стоит над ними равномерным тихим сиянием, не исчезая, но и не сжигая ни листьев, ни нежных тычинок. Наоборот, такие цветы потом бывают прекраснее всех других.
Авдий стал пристальнее следить за Дитой и в то лето дважды заметил такое же явление. Зимой замечать было нечего.
Второе, что отличало Диту от других людей, было, надо полагать, следствием самой ее жизни, ни в чем не похожей на то, как живут обычные люди, следствием прежнего ее состояния и одиночества, в котором она росла.
У других людей день и ночь, явь и сон были раздельны, для нее же они не разграничивались. У других день – это правило, ночь – исключение; для нее скорее день был чем-то исключительным. Ее прошлая долгая привычная ночь захватывала и дневную ее жизнь, и созданные прежде по прихоти воображения непонятные другим людям образы ее внутреннего мира ныне примешивались к внешним картинам, что в итоге составляло мечтательно-вдумчивый склад характера, способный, однако, на порывы деятельной решимости, унаследованной от отца. Отсюда проистекало такое своеобразие мыслей и речей, что людям, не знавшим ее, могло показаться, будто перед ними говорящий цветок.
Освоившись с одиночеством вечной ночи, она и теперь охотно бывала одна или с отцом, который умел ее понять. Возможно, все из-за той же нескончаемой ночи она предпочитала ярким краскам холодные блеклые тона, а среди них любимым ее цветом был голубой.
Однажды, уйдя довольно далеко от дома, они с отцом пересекли сосновый бор, о котором речь была выше, и, когда очутились по ту сторону его, на обширном поле цветущего льна, Дита воскликнула:
– Посмотри, отец, все небо звенит на кончиках этих прямых зеленых нитей.
Она пожелала унести кусок этого чуда домой. Тогда отец подвел ее поближе, сорвал несколько нитей, показал ей отдельные мелкие цветочки и объяснил, что нельзя унести эту голубизну целым куском. Зато он обещал ей, что скоро у нее дома будет такое же голубое поле.
Толковала она и о фиолетовых звуках и говорила, что они ей приятнее тех противных, что стоят торчком и похожи на раскаленные прутья. В последнюю пору слепоты она предпочитала петь, а не говорить, и голос ее рано выработался в нежный и звонкий альт.
Так создала она себе мир зрения и слепоты, и синева ее глаз, подобно нашему небу, была соткана из света и мрака.
Когда она обрела зрение и Авдий, как было сказано выше, перестал тратить время на торговлю и разъезды, он затеял нечто новое. Заодно с местом, на котором был расположен дом и сад, он приобрел немалую часть бесплодной долины. До сих пор он не пытался извлечь пользу из этой земли и, только ходя по ней, думал про себя: она принадлежит мне. Теперь же он принялся за обработку этого участка, намереваясь постепенно превратить его в плодородные поля, подобно тому как в городе среди пустыни, позади засохших пальм, у него тоже было поле, где водились кое-какие овощи и жидкий низкорослый маис. Он нанял работников, закупил нужный инструмент и взялся за дело. Чтобы вскопать и расчистить землю под первый сев, он вытребовал поденщиков из дальних селений. Одновременно он начал постройку амбаров и других хранилищ для урожая.
Когда все было достаточным образом подготовлено, Авдий отпустил чужих поденщиков, и дело продолжали его постоянные работники. В саду он ради тени с самого начала насадил деревья, теперь же добавил различные кустарники, взрыхлил часть луговины, поросшей одной лишь травой, и разбил там цветник. По другую сторону дома землю вскопали под огород.
Уже в первую весну после того, как Дита стала зрячей, пышная зеленая нива заколыхалась там, где росла лишь низкая блеклая трава да серые камни торчали из земли. Когда стебли пожелтели, из них перед взором Диты выглянули синие васильки. Авдий обходил все эти угодья и нередко, когда созревающие колосья серебряными волнами колебались под утренним ветерком, над камышовыми зарослями появлялась его фигура; смуглый лоб был обвит белым тюрбаном, темный кафтан развевался на ветру, а большая борода, ниспадавшая на грудь, казалась белее тюрбана.
В первое же лето часть пашни была отведена под лен. Когда он зацвел, Диту повели туда, и Авдий сказал, что все небо, звенящее на кончиках этих прямых зеленых нитей, принадлежит ей. И Дита теперь частенько стояла и смотрела на голубое покрывало, раскинутое по этому полю. Возвращаясь домой, она собирала пучок васильков, растущих во ржи.
В середине того же лета, груженный до верху желтым зерном воз направился во вновь отстроенный Авдием амбар, опровергая нелепое убеждение живущих поодаль соседей, будто зеленая, усеянная камнями ложбина – бесплодна. За первым возом последовал второй, потом третий; возы нагружались до тех пор, пока весь урожай но был свезен в амбары. А в другом месте уже готовили новину под пахоту будущего года.
Итак, Авдий предался совсем новой, доселе чуждой ему деятельности и продолжал усердно развивать ее. Прошло несколько лет, и он вскопал уже всю принадлежавшую ему землю и собирался написать тому же знакомому купцу, желая через его посредство приобрести для возделывания еще один участок земли. Сад он расширил и новый кусок тоже обнес оградой. Прежние хозяйственные постройки стали малы, и он все время что-то пристраивал к ним. А сам уже думал о новых предприятиях, ломал голову над новыми сооружениями и усовершенствованиями.








