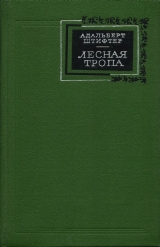
Текст книги "Лесная тропа"
Автор книги: Адальберт Штифтер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 37 страниц)
6
Стрелковый праздник в Пирлинге
Немало дней пришлось мне провести в страхе и трепете, то и дело обращаясь к богу. Шагая взад и вперед по комнате, я прижимал руки к груди, чтобы успокоить мятущееся сердце. Какие трудности возникают порой в жизни человека! Ко мне привезли красивого сильного юношу, и я оставил его у себя. Он случайно поранил грудь, рана была незначительная, но ходившие за ним люди прикладывали к ней пластыри из смолы и других клейких веществ и чуть не свели беднягу в могилу. Когда же наконец их взяло сомнение, они в великой тревоге привезли его ко мне издалека, из поселка по ту сторону высоких лесов, где я еще не бывал. Я положил его в зеленую комнату рядом с моей. Удалил ложные образования, гнойники и пораженные ткани; я столько резал и кромсал, что меня самого била дрожь. Родителей я к нему не пустил, чтоб они не уморили его своими воплями и причитаниями – наука все более требовала решительного вмешательства ножа, – я вручил душу богу и делал то, что диктовала необходимость. Когда я кончил, там уже мало что оставалось, а в одном месте так и вовсе ничего – я видел, как тоненькой пленкой вздувается и опадает легкое. Я ничего никому не сказал и, выйдя из кабинета, отослал родителей домой. А потом вернулся к больному, чтобы продолжать начатое. Я был совсем один, подле меня не было никого, кто мог бы оказать мне малейшую помощь. Из боязни вызвать воспаление, есть я давал ему самую малость, лишь бы сохранить в нем дыхание жизни. Он терпеливо лежал, и когда, проходя мимо, я встречался с испытующим взглядом его спокойных невинных глаз, мне становилось ясно, как много зависит от моего собственного выражения лица, и я лишь молил бога, чтоб оно меня не выдало. Ни один человек не догадывался, что здесь поставлено на карту, и только полковника я как-то привел и показал ему, как обстоит дело. Он лишь серьезно на меня поглядел. Так как юноша на редкость здоров и хорошо сложен, то уже спустя несколько дней появились признаки выздоровления, а через короткое время он стал быстро поправляться. И тогда все вернулось ко мне вновь: деревья, леса, небосвод, весь внешний мир. Так все отступает перед требованиями долга! Не успели мы оглянуться, как он снова стал на ноги, и я мог с легким сердцем отослать его домой, к родителям, за высокие леса…
Вскоре после этого произошло в моей жизни нечто поистине светлое и прекрасное.
Уже созревала рожь и горячее лесное солнце, всегда об эту пору стоящее над нашими домами, начинало понемногу остывать; ячмень, который особенно хорошо родится в наших местах, лежал скошенными рядами, словно золотыми строчками; пшеницу, которая с легкой руки полковника стала у нас чуть ли не излюбленным хлебным злаком, свезли в амбары; я объезжал своих больных, которые в это время года не задают мне больших хлопот; мы с полковником часто захаживали друг к другу; приближалась первая кроткая осенняя пора. Однажды довелось нам с полковником стоять на дороге в Таугрунд. Он обратил мое внимание на то, что местные жители, следуя его примеру, стали так печься о дорогах, что они уже напоминают шоссейные; так, дорога, пролегающая через Таугрунд, имела сводчатое покрытие и была с обеих сторон обрыта канавами – а ведь десять лет назад здесь стояла непролазная грязь – и тут он мимоходом поинтересовался, собираюсь ли я в Пирлинг на стрелковый праздник – сам он намерен там быть. Я сказал, что не прочь поехать, если меня пригласят. И тут, кстати, сообщил ему, что до стрелкового праздника мы не увидимся, так как я приглашен на консилиум к больному, который живет далеко, поездка займет два-три дня.
О Пирлинг, прелестный городок, я всегда питал к тебе нежность; но кто бы подумал, что ты станешь мне так дорог! Сердце радуется, как вспомню твою красоту: ты высишься в приятном одиночестве на своем зеленом холме, твои белые домики глядят вниз на реку, что омывает край его бархатной одежды и прилежно стремит свои воды под деревянный мост, где стоит красная башенка с изображением святого Иоанна: будь же благословен и здравствуй во веки веков.
Я все запишу в свою книгу.
В наших местах Зиллер еще только горный ручей, но постепенно он расширяется и течет по усыпанному галькой ложу. Дальше он выходит на широкий простор, где тянутся зеленые луга, усеянные купами лиственных деревьев. У Айдуна он огибает лесистый мысок, а там течение становится более плавным и, войдя в колыбель, образованную двумя широкими волнистыми лесными массивами, не спеша достигает Пирлинга. Здесь кромка зеленого холма, на котором стоит город, смотрится в его воды, здесь перекинут первый большой мост, и отсюда возмужалая река, прихотливо петляя, выходит на еще более обширные, еще более ровные места, и ручьи, текущие из лесных долин, и сбрасываемые холмами воды спешат принести ей свою дань.
Средь пирлингских полей, что раскинулись по левому берегу Зиллера и, если смотреть из домов Пирлинга, обращены на восток, выступает причудливая скала. Она как-то совсем неожиданно вырастает из волнующихся нив. По склонам ее кое-где разбросаны деревья и кусты, зато ее макушка ощетинилась лесом: тут тебе и ели, и сосны, и березы, много и других деревьев. Когда поднимаешься на вершину, видишь, что это – большая скала, а не малый утес, как кажется издалека, что она раскинулась во все стороны и что на ее хребте можно долго бродить под сенью дерев, где то тут, то там вас манит присесть какой-нибудь камень, или торчащий кверху утес, или небольшой пригорок. Есть здесь и незащищенные лесом места, это – наиболее высокие выступы скалы, откуда открываются богатейшие виды на окрестности. Та скала зовется Штейнбюгель. На ее вершине стоит красивый деревянный павильон, представляющий собой обширный зал, где за столом может разместиться много народу. В лесу повсюду разбросаны столики, лавки и зеленые лужайки. Бернштейнер, нижний трактирщик, еще прошлым летом вырубил в скале погреб в месте, отведенном ему городскими властями. Здесь имеется также тир для стрельбы, и поскольку от каменистой стены его отделяет лишь небольшая поляна, а за поляной поднимается к лесу лужайка, то по ту сторону поляны и лужайки на темной лесной опушке расставлены белые мишени. Рядом с тиром, отделанным щедрой резьбой, стоит выкрашенная в зеленый цвет сторожка с оконцами, а в ней для секретаря стрелкового общества приготовлен столик. К этой так разнообразно изукрашенной скале, отстоящей в пятнадцати минутах ходу от Пирлинга, ведет полями живописная тропинка, которая, петляя, взбирается на вершину. Причудливый ландшафт скалы, а также ее гостеприимные устройства сделали Штейнбюгель излюбленным местом народных гуляний. Летом здесь каждое воскресенье толкутся горожане. Когда в тире стреляют по мишеням, в воздухе стоит ружейная пальба, а нередко вы услышите звуки охотничьих рогов, а также и другую музыку. На ветру треплются пестрые вымпелы стрелков, на сером камне и темной зелени деревьев светятся белые платья пирлингчанок – юных девушек и зрелых матрон. Иногда здесь устраиваются официальные празднества Общества стрелков; тогда из окольных деревень собирается народ, а многие даже приезжают издалека, чтобы принять участие в соревнованиях.
По возвращении из поездки к больному, к которому я был вызван на консультацию, я как раз за день до годичного стрелкового праздника поехал в Пирлинг. На рыночной площади заметно было оживление, жители готовились к завтрашнему дню. Когда я верхней дорогой, ведущей от Айдуна, въехал в городские ворота и достиг рыночной площади, где стоит верхний трактир, вороные, привыкнув, что я их здесь оставляю, сами, по своему почину, свернули к трактиру и стали перед ним. Я вылез из коляски, наказав Томасу никуда не отлучаться, так как вороные еще молоды и пугливы. Он отвел жеребцов и коляску в переулок, к боковой стене дома, где они обычно меня дожидаются. Трактирщика в его неизменном зеленом берете я заметил еще на площади. Он наблюдал за тем, как трое работников отмывают мылом красивого белого козла с длинным шелковистым руном. Увидев меня, трактирщик, сорвав с головы берет, учтиво меня приветствовал.
– С благополучным возвращением, господин доктор, хорошо ли съездили? А я, как видите, навожу лоск на свое добро. Ведь нынче за соревнование стрелков отвечаю я, и козел будет у нас первым призом. Танцевальный вечер состоится у нижнего трактирщика. Вам ведь известен обычай: когда один трактирщик отвечает за соревнование, другой устраивает у себя танцы. Так мы и чередуемся. Вчера я начищал талеры мылом и зубной щеткой, а потом надраивал шерстянкой и мелом, и сегодня их вставляют в оправу. Надеюсь, и вы, господин доктор, пожалуете на Штейнбюгель, окажете нам такую честь?
– Если я приглашен, разумеется.
– Приглашения уже, должно, разосланы. Глядите, нижний трактирщик тоже времени не теряет.
Я посмотрел, куда он указывает, и увидел серьезного благообразного старика Бернштейнера, въезжавшего по верхней дороге с целым возом елового лапника, очевидно, предназначенного для украшения триумфальных арок, колоннад и прочего убранства. Завидев меня, он приветливо мне поклонился, и трое его сыновей, вышагивавших рядом с возом с топорами и ножами в руках и с веселой улыбкою глядевших по сторонам, тоже почтительно меня приветствовали.
Подкрепившись стаканчиком вина, который, по установившемуся обычаю, поднесла мне на тарелке младшая дочурка трактирщика, я откланялся и, взяв из коляски медицинскую трубку и другие инструменты, поспешил к больным, которые меня ждали.
Среди моих здешних пациентов не было ни одного серьезного случая и как раз те, за кого я тревожился, чувствовали себя сегодня лучше. Но как-никак пришлось обойти весь город, и это дало мне возможность увидеть, как народ готовится к празднику. Местный лавочник – самый состоятельный человек в Пирлинге, уже в летах – стоял на углу и то и дело снимал берет, приветствуя прохожих. Я заглянул к нему домой, хотя особой надобности в этом не было – все у него находились в добром здравии. Здесь спешно шили наряды для молодых девиц, мужчины на черной лестнице чистили ружья. В соседнем доме рыночный писец вывесил на деревянное крылечко просушить свою праздничную пару, а заодно выставил и башмаки. Перед столярной мастерской были свалены дощатые мишени – фигурки зверей и другие изображения. В колоннаде ратуши писец, ведающий состязаниями, отсчитывал вместе с помощниками железные шомпола, употребляемые при стрельбе; в глубине галереи отчищали древки знамен, а также раскрашивали и склеивали бумажные фонари, куда будут вставлены лампы. Кто чистил и чинил чехол для ружья, а кто – самое ружье. Перед нижним трактиром визжали пилы и стучали молотки, здесь сбивали помост; а проходя мимо школы, я услышал звук охотничьих рогов, репетировавших какой-то мотив. И даже те, кто не принимал участия в приготовлениях к завтрашней стрельбе, были настроены празднично и норовили то здесь, то там пропустить лишний шкалик. Женщины укоряли мужчин в ребячестве, но и сами готовили к завтрему праздничную сдобу. Когда я воротился к верхнему трактиру, чтобы сесть в коляску, ко мне вышла на порог трактирщица пожаловаться на мужа.
– Поезжайте с богом, доктор, – напутствовала она меня, – но так и знайте: когда колеса вашего экипажа обогнут последний дом на верхней дороге, единственный разумный человек, побывавший у нас сегодня, покинет Пирлинг. Нам уже много недель как заказано угощать палкою небезызвестного вам козла, а сейчас, когда его отчистили и отмыли, хозяин с радостью уложил бы его в супружескую постель, кабы эта животина способна была улежать в ней. Приезжайте завтра пораньше, доктор! Я привезу вам ваш графинчик и бокал, а вино припасу то самое, что вы всегда пьете, и поставлю его на лед.
Все это я записал потому, что у меня теплеет от этого на душе. Ведь все это мне близко и дорого с младенческих лет. Если бы праздничные приготовления делались с княжеским размахом, они бы нимало не выиграли от этого в моих глазах.
Когда я на обратном пути вновь выехал на простор полей и ко мне из хлопотливого Пирлинга уже не долетало ни зова, ни перестука молотков, а только плывущий в воздухе колокольный перезвон, меня охватило чувство, близкое к печали. Я отложил книгу, которую обычно читаю в дороге, откинулся на сиденье коляски и поднял глаза ввысь. Кристально-чистое небо с каким-то неописуемым блеском простиралось над лесами, что безмятежно нежились в лучах полуденного солнца; впереди, в широкополой шляпе, повернувшись ко мне спиной, неподвижно сидел Томас и только временами чуть трогал вожжи, меж тем как вороные радостно выплясывали на вольном воздухе, и их шерсть отливала на солнце каким-то почти сверхъестественным блеском. Ах, эти добрые, преданные, послушные создания, они, в конце концов, единственные, кто на этой земле по-настоящему любит меня. Так думал я про себя. Поля по обе стороны, мелькая, бежали вспять, это были частью яркие зеленя, частью желтеющее жнивье, но нигде не видно было ни души. Тишина царила вокруг, и даже полуденный звон Пирлингской башни уже не доносился ко мне. Впереди мягко вырисовывались очертания лесной колыбели, и в глубине ее только еле заметная дымка тумана указывала на течение Зиллера. Бывают погожие осенние дни, когда в поле и лесу что-то ткется в воздухе, словно сон какой, сном казались мне эти поля и просторы – я видел их еще в раннем детстве, когда мне, счастливому мальчику, дозволялось отправиться на стрелковый праздник в сопровождении отца, а когда и сестер. И вот я и сейчас проезжаю здесь – уважаемый деятельный муж, погруженный в раздумье о тех далеких временах.
Меж тем въехали мы в лесную колыбель, овеянную тенистой прохладой. Оставив ее позади, очутились мы на айдунских полях и здесь опять повстречались с Зиллером, который в эти часы сверкает, словно ломаная серебряная молния, брошенная в долину чьей-то мощной рукой. Мы ехали среди стоящих вразброс айдунских домов по направлению к родным лесам. Лошади, почуяв дом, прибавили рыси. Мы оставили за собой справа хвойный лес, откуда три года тому назад, зимой, впервые услышали тот зловещий грохот и уже приближались к Таугрунду. Едва мы въехали в лес, коляска покатила быстрее хорошо утрамбованной по милости полковника дорогой, а когда перед нами расступились последние деревья, невдалеке засветился мой дом, и я увидел за ним сад, который словно дожидался, чтобы я навестил каждое его дерево и проверил, не сломан ли где какой сучок. Лошади мчали зеленой подъездной дорогой и спустя несколько мгновений колеса заскрежетали по гравию двора. Я соскочил с коляски, потрепал вороных по шее и похвалил их. Умные животные, ластясь, закивали головами, словно поняв меня, – впрочем, они и вправду меня понимали. А потом начали стричь ушами и косить глазом, радуясь, что они уже дома и что их сейчас поведут вдвоем обедать. Я поднялся к себе, где меня ждал накрытый стол: бутылка, стакан и прибор. Сверху лежал прибывший в мое отсутствие большой запечатанный конверт с приглашением на стрелковый праздник.
Пообедав, навестил я нескольких человек, которые, правда, не нуждались в помощи, зато нуждались в утешении.
Наутро выехал я спозаранок, чтобы совершить свой объезд и не слишком опоздать на праздник, ибо рисковал обидеть этим гостеприимных хозяев. Я также помнил свое обещание составить компанию полковнику. Покончив с делами к двум часам, благо не случилось ничего чрезвычайного, я уже на полях, ведущих к Айдуну, пустил своих приуставших лошадок до самого Пирлинга шагом. Протрусив по верхней дороге, лошади снова по своему почину свернули к трактиру, видимо, обрадовавшись роздыху. Я, собственно, собирался проехать через город и оставить лошадей на проселке у подножья скалы, но та уверенность, с какой они свернули туда, где их ждал желанный отдых, а также накопившаяся у них за утро усталость не могли оставить меня равнодушным, и я предложил Томасу развернуться и въехать в переулок. Так он и сделал, но никто – ни сам хозяин, ни хозяйка не вышли к нам навстречу; рыночная площадь пустовала – хоть шаром покати, не залаяла ни одна собака – здесь все и вся перекочевало на Штейнбюгель. Я помог Томасу распрячь лошадей и отвести их в конюшню, где у меня имелось свое стойло, куда не ставят других лошадей во избежание заразы, и поручил вороных попечениям Томаса, наказав ему, буде он вздумает сходить на Штейнбюгель, запереть их на замок и взять с собой ключ. Захватив палку и книгу и заперев все хранилища в коляске, отправился я на состязание, объединившее сегодня весь Пирлинг. Казалось, город вымер. К обычной воскресной тишине прибавилась тишина необычная. Только кое-где на скамейке перед домом посиживал дряхлый старик – лучи ясного осеннего солнышка согревали его больше, чем согрела бы суета на Штейнбюгеле. Хоть сегодня пирлингские больные не входили у меня в программу, я все же кое-кого проведал, поскольку уже был здесь; нынче их оставили на попечение дряхлых старушек.
Покончив с делами, я уже с другого конца города вышел на волю, сразу же увидел примечательную скалу, возвышающуюся среди полей, и благодаря своему неплохому зрению различил между деревьев раскинутый павильон: в темной зелени сосен сверкало что-то празднично белое. Я направился туда полями, это были преимущественно жнивья, не убран был одни овес, но и он уже начал золотиться и склонять к земле свои зерна, висящие на длинных волосках. Подойдя поближе, я увидел над верхушками деревьев развевающийся вымпел стрелков, длинный красно-белый лоскут, живописно выделявшийся на темной лазури неба. Над кронами деревьев то и дело взвивались голубоватые и белые дымки; слышались отдельные выстрелы.
Дойдя наконец до подножья скалы, я не спеша поднялся по петлистой тропе, по которой вынужден был спускаться ребенком, под опекою взрослых, но которой горделиво пренебрегал студентом, предпочитая карабкаться напрямки.
Добравшись до тира, я не преминул туда зайти. Только что, по-видимому, был сделан удачный выстрел. О нем возвестила полевая мортира, поставленная здесь для этой цели, а также ликующий возглас стрелка. Тир выглядел как обычно. Впереди лежали двое, поставив ружья в упор, и ждали; за ними стояла следующая пара, готовая их сменить, когда они отстреляются и уйдут, дальше – следующая и так далее. Последние проверяли исправность своих ружей. Старик Бернштейнер тщательно протирал свое плохонькое ружьишко, после чего отбросил замасленную тряпку. Если бы он даже не сообщил мне, что ему покуда принадлежит самый удачный выстрел, я угадал бы это по его довольному виду. Тут же находился и верхний трактирщик, а также лесничий, рыночный писец и другие мои знакомцы.
Отовсюду ко мне приветственно тянулись руки, многие, как это у нас принято, с бокалами, я кланялся во всe стороны и чокался. Когда же мне предложили присоединиться к состязанию – еще, мол, не поздно, – я сразу же отказался, пояснив, что я уже не тот лихой стрелок, каким был в годы учения, ибо у меня нет времени упражняться в этом искусстве. Поздоровавшись со всеми, я стал осматриваться. Деревянные столбы тира были увиты канителью, над крышей парило большое знамя стрелков, в отличие от длинного узкого вымпела, развевающегося над верхушками деревьев. Над знаменем трудились иголки и пальчики всех пирлингских дев, пожертвовавших для него свои огненно-красные ленты. Задняя стена тира была увешана прославленными мишенями прошлых лет. Чуть ли не с бьющимся сердцем узнал я несколько знакомых мне с детства фигур, а также такие, которые в свое время довелось пробить моим пулям. Под отслужившими мишенями пили и закусывали – но только мужчины, – женщинам и девушкам во время стрельбы вход возбранялся. Рядом с будкой писца, на выкрашенном светло-зеленой краской помосте, защищенном перилами, стоял белоснежный долгошерстый козел верхнего трактирщика. Кончики его рогов были позолочены, и на них торчал венок из цветов, перевитых лентами, а в венке сверкали семь вставленных в оправу талеров. С головы животного свисали ленты и бахрома, в гладко расчесанной гриве и бороде красовались алые банты. Из-за козла выглядывал второй приз, прикрепленный к столбу: два связанных крест-накрест небесно-голубых флажка, затканных золотыми. Тут же был букет из серебряной мелочи; он стоял на столике в вазе. Последним призом был украшенный накладной костью и перламутром рожок для пороха, он висел на суку, перевязанный изящной лентой. Перед дверью тира толпились мальчишки, им, как и женскому полу, вход был заказан, и они, как и я в свое время, глазели с порога на козла, на стрелков и другие чудеса. Подальше, в ветвях густо растущих сосен, был устроен помост, где, скрытый густой хвоей, расположился роговой оркестр и время от времени исполнял разученные мотивы. В тире имелись и трубы, при каждом удачном выстреле игравшие туш.
Наглядевшись на все это, я снова вышел в лесок. Мне захотелось – еще до того, как зайти в павильон и поискать там полковника, – взобраться на самую вершину скалы, откуда открывается обширный и живописный вид на окрестности. Я давно там не был, и меня потянуло снова полюбоваться чудесным зрелищем. Я вышел под сень дерев, и в лицо мне пахнуло душистым лесным воздухом, особенно упоительным после порохового дыма. Я прошел мимо стайки молоденьких девиц, бросавших в цель деревянным голубем, висящим на шнурке, а потом мимо двух незнакомых женщин, сидевших на дерновой скамейке, по-видимому приезжих, – павильон и деревянная сторожка остались слева и позади, – миновал несколько торчащих ввысь каменных глыб, а там деревья и кусты исчезли, и я по дерну поднялся на плоскую вершину скалы. Здесь не было ни единой души, вся публика толпилась внизу, в кустарнике и лесочке, и каждый развлекался как мог.
Солнце заметно опустилось, оно находилось почти посредине последней четверти своего дневного пути. Подо мной на скошенных полях расстилались однотонные желтоватые жнивья, по другую их сторону высилась колокольня и стояли покинутые жителями дома Пирлинга, а дальше тянулись синие благоухающие леса, где находится Айдун и моя родина. В долине можно было разглядеть Зиллер, косые лучи солнца превращали реку в расплавленное серебро.
Я все еще был поглощен этим зрелищем, когда ко мне наверх поднялся полковник. Он шел сюда обычной дорогой, и я увидел его, только заслышав шаги. Я повернулся и сердечно приветствовал его. Он поднялся еще на несколько шагов и поблагодарил меня за столь горячий привет.
– Мне сказали, что вы здесь, – продолжал он, – и я отправился вас искать. Должен сообщить вам нечто важное. Раньше это было невозможно, вы отсутствовали целых три дня, а спустившись к вам вчера после обеда, я уже вас не застал. Приехала Маргарита. Это я ее вызвал и принял все меры для ее приезда, но точного дня ее прибытия я не знал. И вот она приехала, когда вас тут не было, и я ничего не мог вам сообщить. Маргарита сейчас здесь, в павильоне, вместе с другими женщинами и девушками, они ее не отпускают. А я тем временем решил вас поискать, чтобы сообщить вам эту новость.
– Огромное вам спасибо, – отвечал я. – Вы доставили мне большую радость. Я все это время не переставал думать о ней.
Полковник помолчал с минуту, а потом сказал:
– Знаю, все знаю! Добивайтесь же ее, милый, юный друг! Помните, что я говорил вам в те злополучные дни? Пройдет время, и все уладится. Так оно и случилось. Оба вы мне дороги, и вам это, разумеется, известно. Ради вашего общего счастья я, не пожалев себя, услал Маргариту. Ведь у меня и без того времени в обрез, да я еще отнял у себя три года радости. Я хотел поглядеть, что из этого выйдет. А вышло, как я и предвидел. Маргарита вернулась таким же ангелом, каким была, уезжая, – я бы даже сказал, она стала еще лучше. Ее первый вопрос был о вас. Она радовалась вашему свиданию и просила, чтобы я никогда больше не усылал ее из дому. За те дни, что вас здесь не было, мы побывали с ней во всех исхоженных вами вместе местах, мало того – открою уж вам секрет, – побывали и у вас. «Я заставила его страдать, – сказала она, – мне надо загладить свою вину». Поскольку я вас вчера не застал, я решил ничего не передавать через ваших слуг, и мы с Маргаритой условились побывать у вас сегодня пораньше, еще до вашего отъезда, чтобы пожелать вам доброго утра. Мы вышли из коляски, которая должна была доставить нас в Пирлинг, предложили кучеру тихонько следовать дальше до Таугрунда, а сами спустились к вам. И опять не застали вас дома. Мы обошли все кругом, причем Маргарита замечала всякие новшества и перемены куда лучше моего. Побывали во всех покоях, и только домашнюю часовню я не решился ей показать. Водила нас повсюду старая Мария. За последнее время никто из Дубков, видимо, не спускался к вам, поэтому Мария не слыхала о приезде Маргариты, и как же она обрадовалась! Хоть выпала сильная роса, Маргарита и в сад к вам заходила, чтобы поглядеть цветы, а также что у вас посажено и в каком порядке. Потом мы собрались уходить, вышли во двор и не спеша зашагали по удобной дороге в Таугрунд, где ожидала нас коляска. Как видите, доктор, меня восхищает доброе сердце моей дочери. Пожалуй, я даже слишком ее люблю, и это греховная любовь, но природа сыграла со мной такую штуку, что только диву даешься. Я уже рассказывал вам: в день погребения ее матери мне бросилось в глаза, что ротик моей трехлетней дочурки точь-в-точь бутон той розы, которую мы в тот день предали земле, и что на ее личике светятся глаза матери. С годами она становилась все больше на нее похожа, а с тех пор как уехала, стала совсем как мать. Когда мы эти дни бродили с ней по лугам и лесам, я заметил, что у нее такая же походка, и что произносит она те же слова, и при случае так же протягивает руку и нагибается всем телом, – я так и вижу перед собой ее мать. Я даже поглядел на свои морщинистые руки, чтобы разувериться в том, что я снова молод и что рядом со мной моя жена, что это она собирает для меня цветы и рвет орехи, как когда-то – в другом лесу. Вот почему мне так дорого мое дитя. Сегодня мы обходили ваши покои, и она оглядывала их убранство, вашу мебель и всю вашу домашность с тем же прелестным выражением, какое я подмечал у своей супруги, когда она почувствовала себя хозяйкой в доме с правом решать и распоряжаться по-своему. И это сказало мне, что Маргарита чувствует в эти минуты то же самое, что чувствовала тогда ее мать. Так обстоит дело с Маргаритой. Я знаю так же, как обстоит дело с вами, да и все время знал. Мне выдало это ваше молчание; есть такая черта у мужчины: чем жаловаться и сетовать – замкнуться в себе и всецело отдаться своему делу, своему призванию. Я знал это, хоть и держал про себя. И как я уже говорю с вами начистоту, то не могу не признаться в своей слабости: как-то, уходя от вас, я не мог сдержать слезы, увидев, что вы поставили себе в утешение на домашний алтарь статуэтку святой Маргариты, а ведь я не хуже вашего знаю, чему она служит эмблемой… Помните, в тот печальный день, когда я поведал вам историю своей жизни, я сказал, что вам принадлежит в извилине долины чудесный уголок, что вы еще молоды и, если постараетесь, создадите отличное владение, которое будет радовать своих хозяина и хозяйку, когда она однажды войдет в ваш дом?.. Помните? Так пусть же этой хозяйкой станет Маргарита, которая была вам всегда мила. Должен также оговорить, дорогой доктор, раз у нас зашел такой разговор: Маргарита небогата, ведь я всю жизнь был бедняком; и все же она не нищей войдет в ваш дом. Под старость я стал так же бережлив, как был расточителен в юные годы, и то немногое, что досталось мне от предков, сумел удержать. А когда-нибудь она унаследует Дубки со всем, что там есть, – картины, книги и все то, что удалось мне сберечь; ведь, кроме вас обоих, у меня нет никого на свете.
– Не надо, полковник, – прервал я его, – я не хочу этого слышать. Но как мне возблагодарить вас за вашу любовь? И чем заслужил я такую доброту и великодушие?
– Какая уж там доброта, – отмахнулся он, – Вы для меня источник радости. Ведь мы теперь будем неразлучны. Вы поселитесь в верхнем или в нижнем доме, а может быть, Маргарита переедет к вам, что было бы всего естественнее, а я останусь у себя наверху. Но я буду вашим частым гостем, как и вы моими, наша дружба станет еще неразрывнее и крепче. Однако скажу: вы приобретете в Маргарите чудесную жену и станете ее уважать, как она того заслуживает. Она будет так же счастлива в вашем доме, как моя жена была счастлива в моем, и да ниспошлет ей бог более своевременную и обычную кончину, нежели та, что постигла ее мать. Но, доктор, пора нам присоединиться к тем, кто ожидает нас внизу. Они уже знают, что вы здесь, уделите же им немного времени, ведь вы, как человек занятой, всегда опаздываете на такие сборища.
– Еще минуточку, полковник! – сказал я. – Вы, конечно, знаете, что я всегда почитал и любил вас. Но вы все больше и больше одариваете меня своим расположением, какого я отнюдь не заслужил. Позвольте же выразить вам мою величайшую благодарность и сказать, что с тех пор как вы здесь, я чувствую, что вновь обрел отца и что моему одиночеству пришел конец.
– И чувство не обманывает вас, я и есть ваш отец, – отвечал он, – а в будущем стану им еще в большей мере. А теперь давайте спустимся, нас ждут, как бы они не сочли за обиду, что именно мы двое не оказываем чести их празднеству.
Это соображение заставило нас повернуться и начать спуск по тропе, вьющейся меж камней и серых утесов. Здесь, наверху, до нас едва-едва долетало царившее внизу радостное оживление. Слышались только приглушенные выстрелы, а если из лесочка и доносились отдельные выкрики, то, увлеченные беседой, мы не замечали их. Но по мере того как мы спускались вниз, к нам все больше приближался праздничный шум, хлопанье выстрелов, рев лесных рогов, перекличка мальчиков и девочек, а также однозвучный ропот многих голосов, перебрасывающихся приветствиями и шутками. Спустившись ниже, мы уже другой дорогой – не той, которой я поднялся, – подошли к деревянной хижине, к павильону и тому месту, где собралось особенно много народу.
Снова замелькали перед нами прогуливающиеся компании и играющие дети. На зеленой лужайке под деревьями стоял ларек, где торговали пряниками, а неподалеку от него устроился Йози-разносчик, разложивший вокруг себя свои товары. Он, разумеется, выставил здесь все то, что соответствовало нынешнему праздничному дню. Мы с ним были особенно близко знакомы, так как, блуждая по округе, часто встречались в пути, и я подошел к нему первому, чтобы обменяться несколькими словами. Полковник занялся детьми и щедро раздавал гостинцы, которыми были набиты его карманы.








