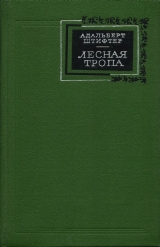
Текст книги "Лесная тропа"
Автор книги: Адальберт Штифтер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 37 страниц)
– Нет, матушка, на после ничего не осталось, я со всем управился, – ответил он.
– Да? – сказала мать. – Ну-ка, дай посмотрю.
С этими словами она потрогала его лоб. Он слегка нагнулся к ней, она откинула с его лба растрепавшуюся во время работы прядь волос.
– Как ты вспотел, – сказала она.
– Уж очень жаркий день, – ответил он.
– Нет, нет, и от работы тоже. Если ты все уложил, то сегодня и завтра тебе уже придется ходить в дорожном костюме. Чем же ты теперь займешься?
– Пойду вверх по ручью, вдоль букового леса и вообще поброжу. Переодеваться не стану. Но я, матушка, пришел не за тем и очень бы хотел с вами поговорить, только, боюсь, вы рассердитесь.
– Не пугай меня, сынок, говори, в чем дело. Тебе еще что-нибудь нужно? Чего-то не хватает?
– Нет, всего хватает, скорей даже лишнее есть. Сегодня утром не все ваши слова дошли до моего сознания, а вот сейчас они не идут у меня из головы.
– Ты это о чем, Виктор?
– Вы сказали, что вам ежегодно выплачивали известную сумму на мое содержание… Вы сказали, что вы получали эту сумму… а потом сказали, что клали ее на проценты и проценты каждый год тоже добавляли к ней.
– Да, я это сказала, так я и делала.
– Видите ли, матушка, совесть не позволяет мне принять от вас эти деньги, я не имею на них права, они не принадлежат мне. Вот я и пришел – ведь лучше сразу по-хорошему поговорить с вами, чем потом отказаться от денег и прогневить вас… Вы сердитесь?
– Нет, не сержусь, – сказала она, глядя на него просиявшими от радости глазами. – Но ты же не наивный мальчик, Виктор! Надеюсь, ты понимаешь, что я взяла тебя не из выгоды – из выгоды я бы никогда не взяла в дом ребенка, – значит, деньги, что ежегодно оставались, по праву твои. Выслушай меня, сейчас я тебе все объясню. Одежей тебя снабжал опекун, на стол лишних расходов из-за тебя не было – ел-то ты как птичка, а овощи, фрукты и остальное, чем ты пользовался, у нас ведь свое. Теперь ты со мной согласен? А вот полюбить тебя так, как я полюбила, этого твой отец с меня не требовал, и в завещании этого не было, тут уж ты ничего не поделаешь. Теперь понимаешь?
– Нет, не понимаю, и совсем это не так, вы слишком добры, и я просто сгораю от стыда. Если бы после вычета всех расходов у вас действительно каждый год что-то оставалось и вы откладывали бы эти деньги для меня, то и это уже свидетельствовало бы о вашей любви и доброте; а вы говорите, что у вас оставалась вся сумма… слышать это мне просто больно… Вы и без того столько сделали, что я перед вами в неоплатном долгу: вы дали мне прекрасную комнату, мало того – поставили туда как раз самые приятные и дорогие для меня вещи, вы кормили и поили меня, а сами работали не покладая рук. И сейчас вы купили мне все дорожные вещи; вы отказывали себе в плодах ваших полей и садов ради того, чтобы у меня в ящиках лежало прекрасное полотняное белье и еще многое другое… и хотя я ни в чем не терпел недостатка, вы приходили и приносили мне еще что-нибудь – да еще что ни день потихоньку совали мне то одно, то другое, если думали, что это меня порадует… Вы любили меня больше, чем Ганну!
– Нет, Виктор, тут ты не прав. Это чувство тебе еще непонятно. Что не от сердца, то и не по сердцу. Ганна мне родная дочь, я носила ее под сердцем, и оно радостно билось, ожидая ее появления на свет, – я родила ее. Это счастье выпало мне на долю в пожилом возрасте, я могла бы уже быть ей бабушкой… Я оплакивала в ту пору смерть ее отца, но родила я Ганну с радостью, потом я воспитала ее, и она стала мне еще дороже. Но и тебя, Виктор, я очень любила. С тех пор как ты появился в моем доме и вырос в нем, я очень тебя полюбила. Иногда мне казалось, будто я и вправду носила тебя под сердцем… Собственно, я и должна была бы носить тебя под сердцем; да получилось иначе, на то была божья воля… когда станешь постарше, я тебе расскажу. И чтобы не погрешить против бога и истины, скажу тебе, что в конце концов вы оба стали мне одинаково дороги… А насчет денег мы, Виктор, поладим вот на чем: я больше настаивать не буду, нельзя заставлять человека идти против совести. Пусть деньги лежат там, куда были положены, я напишу распоряжение, чтобы их выдали вам с Ганной, когда вы достигнете совершеннолетия; вы можете поделить их и вообще распорядиться по своему усмотрению. Так ты согласен, Виктор?
– Да, тогда я могу отдать ей все.
– Сейчас не будем об этом говорить. Придет время, тогда и решишь, что делать с деньгами. А теперь мне хочется ответить на другие твои слова. Я баловала потихоньку не только тебя, но и Ганну. На то я и мать. С тех пор как ты поселился у нас, на наш дом словно сошло божие благословение. Каждый год я умудрялась отложить на приданое Ганне больше, чем раньше. Забота о двоих требует от человека и изобретательности, и умения, а где бог посылает на двоих, там он посылает и на третьего. Ах, Виктор, время пролетело так быстро, с тех пор как ты у нас! Оглянусь я назад, на минувшую молодость, и думаю: куда же ушли эти годы и когда это я успела состариться? Мир еще так же прекрасен, как и вчера, – горы все еще тут, солнце сияет над ними, а годы ушли, промелькнули, будто один день… Если ты, как собирался, сегодня к вечеру или завтра с утра еще раз подымешься в лес, отыщи там одно место – пожалуй, его даже отсюда можно увидеть, вон там в ложбинке, где свет струится на зелень буков… Запомни это место. Там выбивается из-под земли родник и ручейком стекает в ложбинку, на роднике лежит большой плоский камень, а рядом растет старый бук, на его нижнюю длинную ветку можно повесить шаль или женскую шляпу.
– Я не знаю, о каком месте вы говорите, но, если вам угодно, я подымусь туда и поищу.
– Ах, Виктор, тебе ведь оно не такое родное, как мне… ты, должно быть, знаешь другие, в твоих глазах куда более красивые… ну, довольно об этом. Не беспокойся ни о чем, не думай больше об этих деньгах и не грусти. Я понимаю, горечь разлуки уже снедает тебя, и потому все кажется тебе серьезнее, чем оно есть на самом деле. Ты сказал, что хочешь подняться вдоль опушки букового леса, а ты заметил, что в саду не шелохнется ни одна веточка и верхушки деревьев словно замерли в воздухе? Не ходи слишком далеко, как бы не было грозы.
– Далеко я не пойду и при первых же признаках приближающейся грозы вернусь домой.
– Если так, значит, все в порядке. Пойдешь вместе со мной домой? Скоро обедать пора – или еще здесь побродишь, пока не подадут на стол?
– Я еще побуду в саду.
– Хорошо, побудь в саду. Я пока подтяну петли и посмотрю, не напачкала ли мне птица на холсты.
Минутку он постоял еще с ней, посмотрел, что она делает. Затем пошел в сад, а мать поглядела ему вслед.
Потом она проверила петли, закрепила одну, другую, смела с холста землю – след, оставленный гусем или какой другой птицей. Приподняла то здесь, то там холст, слишком плотно прильнувший к траве. И каждый раз, как она подымала голову, она искала глазами Виктора и видела, что он бродит по саду, или стоит где-нибудь около куста, или глядит через изгородь вдаль. Но вот в неподвижном знойном воздухе раздался чистый звук колокола, который призывал церковную общину к полдневной молитве и, по издавна сложившемуся обычаю, собирал вокруг обеденного стола всех домашних. Мать увидела, как при звуке колокола Виктор повернул к дому. Она последовала за ним.
В доме Виктор увидел, что пришли гости – опекун с семьей. Как часто бывает в подобных случаях, они хотели сделать Виктору сюрприз и в то же время провести день на воздухе.
– Видишь, дорогой Виктор, – сказал опекун удивленному юноше, – какие мы хорошие. Решили тебя еще раз повидать и приехали отобедать с вами на прощанье. Ты можешь послезавтра, а если еще не соберешься в дорогу, то позднее пуститься в путь прямо через горы, не заходя, как мы раньше условились, в город, чтобы попрощаться с нами. Воспользуйся в свое удовольствие немногими оставшимися днями свободы, пока ты еще не надел ярма трудной службы.
– Здравствуй, сынок, – сказала супруга опекуна и поцеловала Виктора, склонившегося к ее руке, в лоб.
– Ну, вот как все хорошо складывается, правда? – сказал Фердинанд, сын опекуна, и пожал Виктору руку.
Дочка, Розина, действительно очень красивая двенадцатилетняя девочка, стояла в сторонке, приветливо все оглядывала и ничего не говорила.
Приемная мать Виктора, должно быть, ожидала в гости опекуна со всей семьей, потому что стол был накрыт как раз на столько человек. Войдя, она радушно поздоровалась и рассадила всех за столом.
– Ты видишь, Виктор, – сказала она, – как тебя все любят.
Подали на стол, и трапеза началась.
Опекун с супругой сидели во главе стола, рядом с ними – Розина с Ганной, напротив – молодые люди, а в самом конце стола – мать, потому что ей, как хозяйке, приходилось часто выходить на кухню и следить за порядком.
Все принялись за деревенские кушанья.
Опекун рассказывал о дорожных приключениях, случившихся с ним самим, когда он еще учился, рекомендовал Виктору умеренно пользоваться житейскими радостями и поучал его, как себя теперь вести. Супруга опекуна заговаривала о будущей невесте, а Фердинанд давал слово собраться в гости к другу, как только тот устроится. Виктор был молчалив и обещал в точности следовать советам и наставлениям опекуна. Данное ему опекуном письмо он обещал бережно хранить и сразу по прибытии вручить его дядюшке, к которому отправлялся пешком, согласно настойчиво выраженному странному и несколько взбалмошному требованию последнего.
С наступлением вечера горожане стали собираться домой. Экипаж, который был оставлен на постоялом дворе, они отправили вперед, приказав дожидаться их в том месте, где узкая долина расширяется и куда они пошли пешком в сопровождении хозяйки, Ганны и Виктора.
– Прощайте, фрау Людмила, – сказал опекун, садясь в экипаж, – прощай, Виктор, и в точности следуй всем моим наставлениям.
Он сел в экипаж, Виктор еще раз поблагодарил его, все распрощались, и лошади тронулись.
Идти в лес было уже поздно. Виктор остался дома, побродил еще по саду и снова пересмотрел пожитки, которые уложил в ранец.
3
Прощание
Следующий день, последний, который Виктор проводил дома, мало чем отличался от остальных. Что-то еще уложили, что-то, уже прибранное, прибрали еще раз и, как это часто бывает в подобных случаях, делали вид, будто не предстоит ничего особенного. Так прошло утро.
После обеда, встав из-за стола, Виктор сразу отправился вверх по ручью, чтобы побродить в одиночестве по буковому лесу и его каменистым обрывам.
«Пусть идет, пусть идет, – подумала старушка, – на сердце-то у него, верно, не легко».
– Мама, а где же Виктор? – спросила Ганна.
– Попрощаться пошел, – ответила мать, – с родными местами попрощаться пошел. Господи боже мой! Только это у него и есть. От опекуна, хоть тот человек достойный и заботливый, он далек, да и от домашних опекуна тоже.
Ганна ничего не ответила, не ответила ни единого слова и, раздвинув кусты, пробралась к сливовым деревцам.
Конец дня прошел как обычно. Обитатели дома занимались каждый своим делом, птицы щебетали на деревьях, куры бродили по двору, трава и растения выросли чуть побольше, а горы украсились закатным золотом.
Когда солнце уже скрылось за горизонтом и над долиной раскинулся бледно-золотой, исполненный ожиданий небосвод – да, исполненный ожиданий, потому что завтра утром над долиной будет тот же бледно-золотой небосвод и он позовет вдаль того, кого все тут так любят, – когда этот небосвод своим тихим светом озарял долину, Виктор вернулся с прогулки, на которую поспешил сразу же после обеда. Он прошел вдоль забора к калитке за лужайкой, где белят холсты. Белые полосы холстов уже не устилали ее, только более влажная и зеленая трава указывала, что днем они лежали здесь… Некоторые грядки были прикрыты стеклами, так как ясное небо предвещало прохладную ночь… над домом подымалась струйка дыма: верно, мать уже готовила ужин. Виктор обратил взоры к вечернему небу, мягкий отсвет лег на его лицо, прохладный воздух овевал ему волосы, и небо отражалось в его опечаленных глазах.
Ганна стояла в огороде у забора и видела, как он прошел совсем рядом, но она не решилась его окликнуть. Она снимала с куста, который топорщился всеми своими обрезанными ветками, распоротое шелковое платье, перекрашенное и для просушки провисевшее весь день на кусту. Она брала материю кусок за куском и складывала в стопку. Оглянувшись через минуту, она увидела, что Виктор стоит у живой изгороди из шиповника.
Спустя немного она снова увидела его, теперь он стоял у кустов бузины, которая уже зацветала. Бузина была значительно ближе. Потом Виктор подошел еще ближе и в конце концов оказался совсем рядом.
– Я помогу тебе отнести все домой, – сказал он.
– Нет, нет, Виктор, спасибо, – возразила она, – тут всего несколько кусков легкой материи, я ее перекрасила и здесь высушила.
– А она не выгорела на солнце?
– Нет, этот синий цвет от солнца только красивее становится, особенно от весеннего.
– Ну и как же, цвет стал красивей?
– Вот, взгляни.
– Я в этом ничего не смыслю.
– Шелк не вышел таким красивым, как в прошлом году ленты, но все же и на этот раз получилось отлично.
– Какой хороший шелк.
– Да, очень хороший.
– А бывает шелк еще лучше?
– Да, бывает еще гораздо лучше.
– А тебе бы хотелось, чтобы у тебя было много-много красивых шелковых платьев?
– Нет, шелк – это для праздничных нарядов, а много праздничных нарядов мне ни к чему, вот мне и не хочется шелковых платьев. Простые тоже хороши, а шелк – это для парада.
– А тебе не жалко шелковичных червей?
– Почему, Виктор?
– Ведь червя убивают, чтобы получить кокон.
– Правда?
– Да, кокон прогревают паром или окуривают серой, чтобы уморить червяка, иначе он прогрызет кокон и вылетит из него бабочкой.
– Ах он, бедненький.
– Да, а в наши дни, знаешь, Ганна, его еще разлучают с родными местами, где он может ползать по пропитанным солнцем шелковицам, и кормят его в помещении листьями, что растут у нас и совсем не такие сочные, как у него на родине. А ласточки и аисты и другие перелетные птицы улетают от нас, может быть, далеко-далеко в чужие края, но весной они возвращаются. Земля-то, должно быть, такая огромная, такая ужасно огромная.
– Виктор, бедный ты мой, к чему такие речи!
– Ганна, я хотел тебя о чем-то спросить.
– Ну так спроси, Виктор.
– Еще раз очень, очень благодарю тебя за то, что ты вышила мне такой чудный кошелек. Материя такая тонкая и мягкая, краски так красиво подобраны, я его спрятал и не буду класть в него деньги.
– Ах, Виктор, не стоит благодарить, я уже так давно подарила тебе кошелек. Клади в него деньги. Когда этот истреплется, я вышью другой и потом буду вышивать, чтобы всегда у тебя был новый. Я тебе еще что-то приготовила, куда красивее кошелька, но мать велела отдать только сегодня вечером или завтра утром.
– Я рад, Ганна, я очень рад.
– Где ты ходил весь день, Виктор?
– Мне было очень тоскливо, вот я и пошел вверх по ручью. Смотрел на воду, как она неустанно спешит в нашу деревню, то темнеет, то светлеет, как обегает камни и песок, чтобы быстрей добраться до деревни, хотя потом не задерживается там. Я смотрел на нависшие над водой камни, что все время глядятся в ручей. Потом я пошел наверх в буковый лес, где деревья будут так же прекрасны и через год, и через два, и через десять лет. Мать рассказала мне, что там есть место, где на роднике лежит плоский камень, а рядом стоит старый бук с низким длинным суком. Я не отыскал этого места.
– Это Буковый родник в Оленьей ложбине. Там растет вкусная ежевика, я отлично знаю это место, если хочешь, я тебя завтра туда сведу.
– Завтра, Ганна, меня уже здесь не будет.
– Ах да, завтра тебя уже здесь не будет. Мне все кажется, что ты всегда будешь здесь.
– Нет, милая Ганна… Дай мне часть материи, я помогу тебе нести.
– Какой ты, право, сегодня, Виктор. Ребенок и тот может поднять в десять раз больше. Это же совсем не тяжело.
– Да я не потому, что тяжело, просто мне хочется сделать это для тебя.
– Ну, тогда бери, я сейчас сложу как следует. Ты сразу хочешь домой, тогда давай быстро соберем то, что еще осталось, и пойдем.
– Нет, нет, я не хочу домой – еще не поздно, лучше побыть еще в саду… Я ведь хотел сказать тебе не только про кошелек.
– Ну так скажи, в чем дело?
– Те четыре голубя, что я кормил… не такие уж они красивые, это верно, но мне все-таки будет жалко, если никто не позаботится о них.
– Я присмотрю за голубями, Виктор. Утром открою, а вечером закрою голубятню. Насыплю песок, дам корм.
– Потом мне надо еще поблагодарить тебя за белье, что я беру с собой.
– Ради бога, Виктор, не я его тебе дала, а матушка, – у нас его в шкафах еще много, нам хватит.
– Серебряную шкатулочку с ключиком, которая досталась мне от покойной матери, знаешь, ту, филигранной работы, что похожа на ларчик и что так тебе нравилась, я не беру с собой, я оставляю ее тебе в подарок.
– Нет, я не возьму, слишком она богатая.
– Прошу тебя, Ганна, сделай мне такое одолжение, возьми.
– Хорошо, раз ты говоришь, что это одолжение, тогда возьму и спрячу, пока ты не вернешься, сохраню для тебя.
– И за гвоздиками, бедными моими цветами, поухаживай, знаешь, за теми, что у забора, и шпица не забывай; он хоть и старый, а верный пес.
– Не забуду, Виктор, не забуду.
– Только знаешь, все это не то, я, собственно, хотел сказать совсем не то… мне надо сказать совсем другое.
– Ну, так скажи же, Виктор!
– Матушка просила, чтобы я сказал тебе сегодня ласковое слово… потому что мы часто ссорились… чтобы я поговорил с тобой по-хорошему, раньше чем навсегда покину наш дом… вот я и пришел, Ганна, попросить, чтобы ты на меня не сердилась.
– Что ты, что ты, Виктор, да я никогда на тебя не сердилась, за всю жизнь ни разу.
– Да, теперь-то я это прекрасно знаю, я тебя обижал, а ты терпела.
– Виктор, не пугай меня, что это с тобой сегодня?
– Да, да, ты всегда была добрая, только я этого не знал. Выслушай меня, Ганна, я выскажу тебе все, что у меня на сердце; я ужасно несчастен.
– Господи боже! Виктор, милый! Что у тебя за горе?
– Знаешь, весь день сегодня мне на глаза навертываются слезы, я, того и гляди, расплачусь. После обеда я отправился вверх вдоль грустящего ручья и в буковый лес не с тоски, а чтобы никто меня не видел, – вот тогда я и подумал: нет у меня никого на всем белом свете, ни отца, ни матери, ни сестры. Дядя грозится отнять последнее мое достояние, потому что отец остался ему должен, и мне приходится расставаться с вами, а ведь только вы и были ко мне добры.
– Виктор, милый Виктор, не расстраивайся так. Ты, правда, остался без отца и матери, но это было так давно, можно сказать, ты их и не помнишь. Зато ты нашел другую мать, и она любит тебя, как родная… ты ведь никогда не жаловался на то, что твоя родная мать умерла. То, что нам теперь приходится разлучиться, очень, очень грустно, но, Виктор, не греши против господа бога, пославшего нам это испытание. Покорись его воле и не ропщи… я тоже покорилась и не возроптала за весь день ни разу, даже если бы ты не пришел поговорить со мной, не возроптала бы.
– Ах, Ганна, Ганна!
– Когда ты будешь далеко, мы все равно будем думать, что бы послать тебе, заботиться, молиться о тебе, а я каждый день буду выходить в сад и смотреть на горы, за которыми ты скроешься.
– Нет, не надо, это слишком грустно.
– Но почему?
– Потому что это ничему не поможет… Дело не только в том, что я должен уйти и мы разлучимся.
– А в чем же?
– В том, что все кончено и я самый одинокий человек на земле.
– Но, Виктор, Виктор…
– Я никогда не женюсь… это невозможно… и не будет возможно. Значит, у меня не будет своего очага, не будет родных, чужие меня забудут… да так оно и лучше… Понимаешь?.. Раньше я этого не знал, но теперь это ясно, совсем ясно… Разве это не так?.. Ганна, почему ты замолчала?
– Виктор!
– Что, Ганна?
– А ты подумал?
– Подумал.
– Ну и что же?
– Ну и что же… ну и что же… все бесполезно, все напрасно…
– Виктор, останься ей верен!
– Навеки, навеки останусь; но все напрасно.
– Почему же?
– Я же сказал тебе: дядя отбирает имение, единственное мое достояние. Она привыкла к достатку, я беден и еще долго, очень долго не смогу прокормить жену. К ней посватается другой, кто может ее прокормить, купить ей красивые платья, осыпать подарками, и она пойдет за него.
– Нет, нет, нет, Виктор, она не пойдет, ни за что не пойдет. Она будет любить тебя всю жизнь, как и ты ее, и не покинет тебя, как не покинешь ее и ты.
– Ганна, моя любимая!
– Любимый мой, Виктор!
– Придет время, и я, конечно, вернусь… Я буду терпеливо ждать, и мы будем жить, как брат и сестра, и любить друг друга больше всего-всего на свете, и всю жизнь, всю нашу жизнь останемся верны друг другу.
– Всю жизнь, всю жизнь, – повторила она, быстро схватив протянутую Виктором руку.
И оба залились слезами.
Виктор ласково привлек ее к себе, Ганна не воспротивилась. Она спрятала лицо у него на груди, и слезы неудержимым потоком хлынули из ее глаз, словно внутри у нее открылись все шлюзы, словно сердце надрывалось при мысли о разлуке с ним. Он обнял ее за плечи, точно хотел защитить и успокоить, и прижал к сердцу. Он прижимал ее все крепче, будто она беспомощная девочка. Ганна прильнула к нему, как к брату, в эту минуту такому доброму, такому бесконечно доброму. Он гладил одной рукой ее кудри, разобранные на пробор, потом нагнулся и поцеловал в волосы, но она подняла к нему лицо и поцеловала его в губы так горячо, как и помыслить никогда не могла.
Они молча простояли еще сколько-то времени.
Потом пришел сынишка работника и сказал, что мать послала звать их ужинать.
Они все еще держали куски распоротого шелкового платья, но уже помятые, смоченные слезами Ганны. Кое-как они собрали их и, взявшись за руки, пошли по дорожке к дому. Увидя, как они идут, какие у них красные, заплаканные глаза, мать улыбнулась и позвала их в столовую.
На стол уже было подано, мать положила каждому то, что, как она думала, было ему особенно по вкусу. Она не спросила, о чем они говорили в саду, и ужин для всех троих прошел так, как обычно проходил все эти годы.
На большие карие глаза Ганны то и дело без всякого повода навертывались слезы.
Окончив ужин, раньше чем идти спать, Ганна принесла свой подарок – портфельчик на белой шелковой подкладке, мать уже положила туда деньги, предназначенные на дорогу.
– Деньги я выну, – сказал Виктор, – а портфельчик спрячу.
– Нет, нет, оставь деньги там, – возразила мать, – посмотри, как красивы на белом шелку изящно напечатанные кредитные билеты. Ганна по мере надобности будет снабжать тебя бумажниками.
– Я буду очень бережно с ними обращаться, – сказал Виктор.
Мать крохотным ключиком заперла то отделение портфельчика, где лежали деньги, и показала Виктору, куда надо прятать ключик.
Потом она велела идти спать.
– Полно уж, полно, – сказала она, заметив, что Виктор хочет поблагодарить ее за деньги. – Ступай спать. В пять утра тебе уже надо подняться в горы. Я приказала работнику разбудить нас, если я просплю. До ухода тебе еще нужно сытно позавтракать. Ну, детки, спокойной ночи, спите хорошо!
Говоря так, она, как делала это каждый вечер, зажгла для них две свечи. Почтительно пожелав матери спокойной ночи, каждый взял со стола предназначенную ему свечу и отправился к себе в спальню.
Виктор не мог сразу лечь. Стоявшие всюду вещи отбрасывали беспорядочные тени, и комната была какая-то неуютная. Он подошел к окну и посмотрел в сад. Куст бузины превратился в черный ком, а воды совсем не было видно: на месте ручья была темная полоса, и только вспыхивавшие по временам искорки подтверждали, что там по-прежнему протекает ручей. Когда же в доме и на деревне замолкли все звуки, чуть слышное журчание, долетавшее в открытое окно, тоже подтвердило, что старый друг, столько лет струившийся так близко от его ложа, никуда не делся. На небе мерцали мириады звезд, но не светил даже тоненький серпик луны.
Наконец Виктор лег в постель, чтобы проспать здесь последнюю ночь и дождаться утра, которое, возможно, навсегда разлучит его с домом, где, с тех пор как он себя помнил, он провел всю жизнь.
Утро это наступило очень скоро! Виктору казалось, будто он только-только погрузился в живительный сон, а в дверь кто-то уже легонько стукнул, и раздался голос матери, которая проснулась, не дожидаясь работника.
– Четыре часа, вставай, Виктор, посмотри, не забыл ли ты чего, и приходи вниз. Слышишь? – сказала она.
– Слышу, матушка.
Она спустилась вниз, а Виктор вскочил с кровати. Он одевался с гнетущим чувством подавленности, вызванным и болью расставания, и ожиданием предстоящего пути. Еще чуть светало, а на столе уже был приготовлен ранний завтрак – никогда еще они не завтракали так рано. Ели молча. Мать почти не отводила взгляда от Виктора; Ганна не решалась поднять глаза. Виктор быстро поел. Встал из-за стола и, чтобы взять себя в руки, прошелся по комнате.
– Матушка, теперь пора; я пойду, – сказал он.
Виктор надел ранец, подтянул ремни, чтоб он не болтался. Затем взял шляпу, пощупал карман на груди, лежит ли там портфельчик, и проверил, не забыл ли чего. Потом подошел к матери и Ганне, которые тоже встали.
– Благодарю вас за все, милая матушка, – сказал он.
Больше он не мог произнести ни слова, да мать и не дала ему говорить. Она подвела его к святой воде у двери, окропила, перекрестила ему лоб, рот и грудь и сказала:
– Так, а теперь, сынок, ступай. Будь таким же хорошим, каким был, и сохрани свое сердце кротким и отзывчивым. Пиши почаще и не скрывай, если в чем будет нужда. Бог да благословит пути твои, потому что ты всегда был покорным сыном.
При этих словах из глаз ее закапали слезы, она ничего уже не могла сказать и только шевелила губами.
Но скоро она опять приободрилась.
– Когда доберешься до места своего назначения, ящики, что наверху, и чемодан уже будут ждать тебя там. Береги деньги и рекомендательные письма, которые дал опекун, не пей, когда вспотеешь, холодной воды. Все будет хорошо. Оторваться от дома не так уж плохо, повсюду есть добрые люди, которые примут в тебе участие. Будь я не так привязана к здешним горам и к нашей яблоне, я бы с радостью отправилась в чужие края. Ну, прощай, сынок, прощай!
С этими словами она поцеловала его в обе щеки. Молча подал он руку горько плачущей Ганне и вышел. У дверей стояли домочадцы и садовник. Виктор молча пожимал руки направо и налево. Затем домочадцы разошлись, а он направился по узкой дорожке к садовой калитке.
– Какой он красивый, – громко всхлипывая, молвила мать, вместе с Ганной смотревшая ему вслед, – какой красивый, – каштановые волосы, красивая походка. Ах боже мой, боже мой! Милая, неопытная юность!
Она закрыла лицо и глаза руками, и слезы стекали по ним.
– Ты как-то говорила нам с Виктором, что никто больше не увидит тебя плачущей с горя, – и вот ты все же плачешь с горя, – сказала Ганна.
– Нет, дитя мое, это слезы радости, что он вырос таким, – ответила мать. – Удивительное дело, он совсем не знал своего отца, а сейчас посмотрела я, как он идет, ну, весь в отца – и лицом, и походкой, и всей статью. Он будет хорошим человеком, и слезы мои, доченька, слезы радости.
– Ах, а мои слезы не слезы радости, нет, не слезы радости, – сказала Ганна, снова утирая платком горестно льющиеся из глаз слезы.
Виктор меж тем вышел за калитку. Миновал большой куст бузины, перешел через оба мостика и мимо издавна знакомых плодовых деревьев поднялся на луга и поля. Забравшись наверх, он на минуту остановился и дал волю слезам, различив в долетавших сюда из деревни слабых, неясных звуках яростный вой шпица, которого пришлось поймать и посадить на цепь, чтобы он не увязался за Виктором.
– Где я найду такую мать и таких любящих друзей? – воскликнул он. – Третьего дня я спешил покинуть город, чтобы провести еще несколько часов здесь в долине, а сегодня я навсегда, навсегда ухожу отсюда.
Поднявшись почти до самого гребня гор, он еще раз, последний раз, оглянулся назад. Дом, а также сад и забор еще можно было различить. Среди зелени виднелось что-то такое же красное, как Ганнин платок. Но это была просто черепичная крыша над трубой.
Потом он поднялся еще выше к самому гребню… и опять оглянулся назад… Над долиной сиял чудный солнечный день. Виктор сделал несколько шагов, огибая круглую горную вершину, и все, что он оставил позади, скрылось из глаз – перед ним лежала новая долина, веял новый воздух. Солнце меж тем взошло уже довольно высоко, осушило росу на траве и слезы на его глазах; оно слало на землю уже теплые лучи. Виктор продолжал подыматься наискосок по горному склону, и, когда спустя некоторое время он посмотрел на часы, было половина восьмого.
«Теперь, верно, уже убрали с кровати постель – последнее, что еще оставалось от меня в комнате, – подумал он. – Простыни, должно быть, сняты и наружу вылез негостеприимный деревянный остов кровати. А может быть, в моей спальне уже трудятся служанки, переделывают ее на иной лад», – размышлял он, продолжая свой путь.
Он подымался все выше. Расстояние между Виктором и покинутым домом все удлинялось, и время между его теперешними размышлениями и сказанными им дома словами тоже все удлинялось. Дорога – то вверх, то вниз, но в общем все выше в горы – пролегла по склону, по которому он раньше не хаживал. Он был рад, что не надо идти в город прощаться, сегодня ему не хотелось видеть знакомых. То справа, то слева от дороги попадались мызы или скотные дворы, иногда проходил человек, но внимания на Виктора никто не обращал.
Наступил полдень, а он по-прежнему шел и шел.
По мере того как он подвигался вперед, мир становился все величественнее, все ярче, горизонт все расширялся – и всюду, куда ни взглянешь, ликовали тысячи живых тварей.








