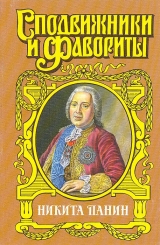
Текст книги "Граф Никита Панин"
Автор книги: Зинаида Чиркова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 34 страниц)
В это утро Аннушка проснулась с ощущением неизбывной радости. Сегодня день ее рождения, сегодня ей, наконец, отрежут эти опостылевшие крылышки, свидетельствующие о том, что она еще младенец. Она вскочила с постели и затормошила Машеньку.
– Вставай, соня, давно пора, день белый на дворе, – притворно сердилась она, то дергая сестру за нос, то трепля маленькое розовое ушко. Машенька недовольно отворачивалась, старалась спрятаться под одеяло, увертывалась.
Утро и в самом деле начиналось радостно. Косые лучи солнца били в прямоугольные рамы окон, желтели в фигурных стеклах листья деревьев, трава на клумбах и лужайках казалась такой свежей и молодой… Анна распахнула окно, свежий ветер ворвался в комнату, парусом поднял легкие занавеси, отдул край пухового одеяла Маши. Она заныла с еще большим недовольством и, ворча, натягивала на себя все, что только попадало под руку.
Спавшие в той же комнате фрейлины косо поглядывали на девочек, но не мешали им шуметь и разговаривать. В одной комнате их было почти два десятка, и за ночь все помещение пропахло запахами сна и лени, испарениями человеческих тел, скученных на крохотном пространстве.
– Закрой окно, дура, – крикнула одна из фрейлин, постарше Анны, но та только еще шире раздвинула створки, с наслаждением вдыхая чистый осенний воздух.
Ворча и кутаясь, фрейлины поднимались, и скоро в комнате стоял гам от утренних разговоров и суета, предшествующая новому дню.
– Забыли, каков сегодня день, – громко кричала Анюта, – крещение, крещение великого князя. – А должно быть, он хорошенький, я у акушерки спрашивала. Говорит, носик приплюснутый и коротенький, вздернутый, а щечки такие пухленькие, а ручки как ниточками перевязаны. Должно быть, красавец будет, дай Бог ему здоровья, нашему дорогому любимчику…
Она болтала и болтала, пока фрейлины, молоденькие девушки, лет восемнадцати, не выбрались, наконец, из постелей, побежали умываться, а потом засели за туалет перед единственным в комнате большим потускневшим зеркалом.
– А вот слушайте, что «Ведомости» написали.
Анна взяла с окна листок, в котором помещался астрологический прогноз на младенца Павла и зачитала его: «Родившийся между 15 дня сентября до 13 октября бывает часто флегматик, мужественного нрава, имеет высокий лоб и широкие брови, в плечах силен. Скор к гневу, но скоро и отходит. Охотно слышит о себе похвалы. Смирен, но если кто‑то его озлобит или крайне обидит, против того бывает злопамятен. Смерть ему последует от злой женщины. И если благополучно переживет 42–й год, то будет жить до 99 лет»…
– Так это же не о великом князе, – вскричала одна из фрейлин, – а это вообще обо всех, кто родился в этот срок…
– А он родился 20 сентября, в среду, – бойко парировала Анюта.
– А ты поменьше бы болтала, – кинул ей кто‑то из угла – не ровен час, услышит Александр Иванович, несладко придется.
Анюта прикусила язык. Изменила своему правилу – всегда держать язык за зубами, потому что сегодня у нее радость, – сегодня она стала совершеннолетней, и после крещения – великого дня – на балу ей должны отрезать крылышки, и она станет взрослой…
Но соседка по комнате права, даже в этот день нужно сдерживаться и не горланить, не то придется плохо. Ведь о каждом неверном шаге фрейлин старшая над ними – статс–дама всегда докладывала самой императрице. И она уже хмуро стала торопить Машу.
К великому Празднику крещения великого князя приготовлены были фрейлинам изящные белые платья с воланами и сборками, с фижмами небольшого размера, чтобы не помялись в тесноте праздника.
Каждой хотелось принарядиться, и Маша с Анютой не отставали от своих товарок. Анна приколола к платью большую янтарную брошь, подаренную Никитой Ивановичем Паниным, а Машенька бережно опустила на белую шейку тоненькую золотую цепочку с куском янтаря, в котором заснула крохотная мушка.
Они любили эти уборы гораздо более других – дорогих, потому что никто из товарок не таил зависти к дешевым безделушкам, а янтарь словно согревал кожу и смотрелся легко и красиво.
Едва вышли девочки на широкий дворцовый двор, весь заставленный гипсовыми статуями и строго разделенный клумбами и цветниками на правильные квадраты, как увидели множество карет. К десяти утра к дворцу начали съезжаться все, принадлежащие к первым пяти классам табели о рангах. Первыми прибыли кареты и возки победнее, потом начали заполнять двор экипажи с гербами и знаками отличия. Ливрейные слуги в белых перчатках и париках, обсыпанных мукой, соскакивали с запяток, опускали подножки и распахивали дверцы. Тяжело вылезали дородные вельможи, дамы в мехах и теплых шалях. Свежий, морозный не по–осеннему воздух заставлял их кутаться.
Скидывая шубы и шали на руки лакеям в ливрейных костюмах, несмотря на холод не надевших верхнего платья, они важно поднимались по крыльцу Летнего дворца, стараясь не шуметь, проходили в крытые галереи, ведущие к домовой церкви государыни.
Через два часа убралась в торжественные наряды царица, приготовили младенца к обряду крещения.
Украшенная по случаю великого праздника венками, золотыми гербами, лентами и свежими зелеными ветками, зала сияла в отсветах тысяч зажженных свечей, хотя на дворе стоял ясный солнечный день. Огни огромных паникадил спорили своим блеском с лучами солнца и затмевали его.
Елизавета вышла в залу, сопровождаемая княгиней Настасьей Ивановной, вдовой генерал–фельдмаршала Гессен–Гомбургского. Кормилицы и мамки передали ей сверток с великим новорожденным, и Настасья Ивановна, гордая своей ролью в этой церемонии, важно выступала за государыней.
По случаю великого праздника императрица дольше обычного делала свой туалет. Ее белокурые с рыжинкой волосы на этот раз были зачесаны высоко, увиты бриллиантами, а локоны спускались на обнаженные плечи. Громадные уборы из бриллиантов почти полностью закрывали шею, уже изрядно потускневшую и постаревшую. Алмаз с голубиное яйцо, в пятьдесят шесть каратов, радугой искрился в ее ожерелье. Его поднесли ей совсем недавно в Москве купцы. Императрица освободила их от внутренних таможенных сборов, и благодарное купечество не поскупилось на подарок. Купеческий корпус собрал средства на этот камень и подарил его Елизавете на золотой тарелке замечательной работы. Стоил он пятьдесят три тысячи рублей. А на трех серебряных блюдах купцы преподнесли матушке десять тысяч иностранных червонцев да пятьдесят тысяч рублевою монетою на таких же серебряных тарелках.
Елизавета милостиво приняла дары купечества – она понимала, сколь многим купцы ей обязаны. Теперь они могли свободно проезжать по всему громадному пространству России без всяких сборов и выплат. А до этого высочайшего указа каждый собственник имения, дороги или межи имел право взыскивать с торговцев таможенную пошлину за проезд. Отмена пошлины и запрещение взыскивать с купцов деньги открыли торговле широкую дорогу.
Алмаз очень нравился Елизавете. Она приказала оправить его в золото и с тех пор надевала в дни самых больших торжеств.
Голубое платье, под цвет ее все еще красивых больших и ясных глаз, все переливалось. Затканное серебром, оно блестело в свете свечей, глядеть на него было больно. Но Аннушка и Машенька, шедшие в стайке фрейлин за самой императрицей, и не глядели на уборы и наряд государыни. Их интересовал маленький сверток на руках Настасьи Ивановны. Тоже в широчайших фижмах, в лиловом платье блестящего шелка, она бережно держала новорожденного.
Под руки вели гофмейстерину два сановника – обер–гофмаршал и кавалер ордена Святого Апостола Андрей Шепелев и обер–гофмейстер и кавалер того же ордена барон фон Миних.
Следом за ними выстроилась праздничная блестящая вереница придворных. Великая свита сопровождала царственную бабушку в домовую церковь.
Аннушка и Маша вытягивали шейки, стараясь разглядеть в толпе знакомые лица. Но все физиономии были так неприступны, что они перестали вертеться и молча, важно следовали за серебряно–голубым платьем императрицы.
В домовой церкви негде было повернуться. Стоящая посреди церкви у аналоя крещальня отблескивала серебром, весело горящие паникадила переливались блеском в парадных платьях собравшихся, а старый священник с длинной седой бородой, в парчовых золоченых ризах, с огромным золотым крестом на груди громко возглашал слова церемонии. Когда он взмахнул крестом, благословляя народ, все повалились на колени, певчие императорской капеллы ангельскими голосами запели «Тебя, Бога, хвалим», и обряд начался. Разом смолкли певчие, в церкви наступила тишина.
И в этой тишине священник и гофмейстерина раздевали младенца. Внезапно раздался характерный звук, младенец заурчал, и пеленки его закоричневели…
– Слава тебе, Иисусе, – громко возгласил священник, – добрый знак…
Елизавета заулыбалась, а Аннушка поежилась. Не только не осудили младенца за то, что позволил себе справить естественную нужду в церкви, но еще и радуются все…
Пеленки, тончайшие, кружевные, вышитые, тотчас заменили, священник взял под мышки младенца, показал его всему народу, возгласил слова, полагающиеся при обряде крещения, и окунул в огромную купель.
Потом раздались песнопения, началось торжественное завертывание младенца в чистые пеленки и одеяла, помазание елеем, и Аннушка все смотрела и смотрела на это крохотное тельце, обнаженное, красное, сучащее ножками, и недоумевала. И это великий князь – младенец с большим красным узлом пуповины на животе, кривыми ножками и почти лысой головой с большим вытянутым лбом.
Она почувствовала к нему отвращение и тихонько взглянула на сестру. Та стояла, благоговейно вытянув шейку. В глазах ее плескались восторг и умиление…
Мимоходом посмотрев в сторону, Аннушка заметила, как беспокойно переходил с места на место великий князь Петр Федорович. Он протискивался в толпе придворных, и ему удивленно и подобострастно уступали дорогу, теснясь и толкаясь. Он быстро перекрестился при звуках особенного громкого возглашения, но, внимательно глядя на него, Анна заметила, как Петр высунул язык и покривился в сторону священника. Анна с ужасом видела, что отца великого князя и будущего царя коробило от всей церемонии.
Долго длился молебен по случаю крещения великого князя Павла Петровича. Все это время младенец спокойно лежал на руках гофмейстерины. Изредка вздрагивал, заливался тонким писком, но, получив в укромном местечке здоровую, наполненную сладким молоком грудь кормилицы, затихал и опять продолжал спать на руках Настасьи Ивановны.
Аннушка и Машенька устали стоять на коленях, подниматься, бормотать слова молитвы и снова опускаться на колени и бить лбом о пол. Но выстояли длинную службу, не смея жаловаться, не смея даже тихонько вздохнуть.
Устала и сама императрица. Она тоже переходила с места на место, зорко следя, чтобы никто больше из приближенных не смел этого делать. Петр давно ушел, церковная служба его утомляла и не интересовала.
Служба закончилась, и усталые придворные оживились, забродили по храму, перебрасываясь словами.
Тем же ходом, так же церемонно вышла из храма пышная свита, направилась к обеденному столу, накрытому на четыреста персон в главной столовой зале Летнего дворца.
И в это время загремели пушки. Весь день в городе не смолкал шум: сначала веселый перезвон колоколов возвестил о крещении младенца, новорожденного великого князя Павла Петровича, а теперь с Петропавловской крепости и из Адмиралтейства бухали пушки. 301 выстрел сделан был с равными промежутками между залпами.
Императрица, успев переодеться в сиреневое, затканное золотом парадное платье с Андреевской лентой через плечо, вышла к приглашенным, выпила за здоровье новорожденного князя, за здоровье его родителей и свое и сразу же ушла. Ее ждал кружок близких людей, а она очень устала.
А пушки все били и били. Вздрагивали и звенели стекла в окнах дворцов, крестились горожане при каждом залпе.
Целую неделю продолжались в Санкт–Петербурге торжества по случаю рождения и крещения последнего в этом столетии русского царя. Город весь был празднично изукрашен. Из окон свешивались национальные флаги, ковры, а на дворцовой площади сияла огнями, затмевая звезды, праздничная иллюминация. Окруженная колоннами, высилась здесь гора, а на ней – символическое изображение Российской империи. На храме красовалось и переливалось всеми цветами радуги гигантское «Е» – вензель императрицы. И громадный глаз сиял над вензелем – Око Божия Провидения.
Перед входом в храм золотом горел герб Российской империи. А по сторонам герба – статуи, восхваляющие ея императорское Величество. Великими делами обновила, украсила и укрепила Елизавета свою империю. И в знак ее дел высились статуи – Премудрость, Храбрость, Установление законов, Распространение наук, художеств и купечества, великое приращение государственной силы – все эти символы славили великую царицу, ее императорское величество.
Колонны обрамляли всю площадь. Между колонн – лавровые деревья, осеняющие бюсты вечнодостопамятных российских самодержцев: Петра Великого и супруги его Екатерины, Алексея Михайловича и Михаила Федоровича, Иоанна Грозного и деда его Ивана Васильевича. В ряд выстроились бюсты Дмитрия Донского, Александра Невского, Владимира Мономаха, Ярослава Мудрого, Владимира Святого, Святослава, Ольги, Рюрика.
Десятки тысяч ламп освещали эту картину. Все горело, сияло, блестело, пламенело…
Уже под вечер, освободившись от всех фрейлинских дел, Аннушка и Машенька побежали поглядеть на иллюминированную площадь. Дивились, проталкивались сквозь тысячные толпы народа, сбежавшегося рассмотреть невиданное зрелище, останавливались возле бюстов, глазели на слепые очи древних царей, их косо обрезанные плечи и гранитные подставки.
Все праздничные дни сопровождались зрелищами отменными, было на что поглядеть и что потом обсудить…
Поздним вечером Аннушка рыдала в подушку. Никто и не вспомнил, что сегодня у нее день рождения, что ей должны обрезать младенческие девчачьи крылышки. Никому не оказалось дела до маленькой фрейлины, и горькая обида грызла сердце девочки. Машенька успокаивала ее, как могла, но совсем не понимала, почему плачет сестра, ведь во дворце и на площади все так красиво и пышно. А Анна запомнила этот день на всю жизнь. Младенец отнял у нее праздник. Никто не пришел поздравить ее, никто и не вспомнил о том, что богородицына дочка сегодня стала совершеннолетней…
Впрочем, не вспомнили при дворе не только об Анне. Не вспомнили и о самой виновнице торжества – матери новорожденного Екатерине Алексеевне, великой княгине…
Когда издала она первый стон при начинающихся схватках, фрейлины тут же побежали известить императрицу. Суетилась акушерка, статс–дама наблюдала за тем, чтобы роженицу перенесли на пол, на приготовленную родовую постель.
Забежал даже великий князь в голштинском мундире, при всех регалиях и шпаге. Он осведомился о здоровье супруги и тут же убежал, сказав, что у него полно дел. Он не хотел встречаться с тетушкой у родовой постели жены. Елизавета ненавидела голштинский мундир, и ему приходилось надевать его украдкой. А мундир голштинский был самой любимой формой великого князя.
Прибежала Елизавета, неприбранная, в халате, безо всяких украшений. Наконец исполнялась так долго лелеемая мечта. Девять лет ждала Елизавета, чтобы у молодой четы появился наследник.
Наследник – укрепление трона. Она до сих пор страшилась лечь в одну и ту же постель две ночи подряд – помнила, как сама подняла Анну Леопольдовну среди ночи и отняла корону у младенца Иоанна. Потому старый Чулков всегда спал у ее ложа, примостясь в изножье кровати со своим матрасом и подушкой. И по утрам она будила его, вытаскивая подушку из‑под головы и ласково пеняла:
– Так‑то ты меня сторожишь…
– Да мимо меня и мышь не проскочит, белая ты лебедушка, – говаривал Чулков, поглаживая ее белое тело. Даже тогда, когда Елизавета делила ложе с Разумовским или Шуваловым, или еще с кем из временных фаворитов, не уходил Чулков со своего поста…
Они дежурили возле Екатерины всю ночь. Ребенок родился только под утро, когда уже отгорела на небе заря, перестали сверкать в ее косых лучах грани Адмиралтейской иглы и ровным золотом загорелся шпиль Петропавловской крепости.
Акушерка аккуратно перевязала пуповину, духовник Елизаветы священник Дубянский нарек ему имя Павел, выбрав из святцев имена этого дня. Елизавета приказала акушерке завернуть младенца и унести на ее половину. С этого дня Екатерина не видела свое дитя почти три месяца.
Все бросили роженицу. Она так и лежала в промокшей от крови и холодной родильной постели, хотела пить и кричала, чтобы кто‑нибудь подошел к ней. Никто не откликался в этом огромном многолюдном дворце.
Она сделала свое дело, дала России будущего царя и теперь не интересовала никого.
Только к вечеру припыхтела акушерка. Принялась обхаживать, перевела на чистую постель, заставила убрать все следы прошедшей родовой ночи. Наконец, и удосужилась напоить Екатерину…
Через несколько дней у нее началась родовая лихорадка, и великая княгиня уже приготовилась к смерти. И опять никому не было дела до нее. Все занялись праздниками, фейерверками, иллюминациями, куртагами, где пили за ее здоровье, обедами и балами. Дня через два Аннушка осторожно появилась в комнате Екатерины.
Больная хотела что‑то спросить, узнать, попросить хоть горячего чая. Аннушка металась по комнате.
– Что ты ищешь, девочка? – спросила Екатерина.
– Голубую мантилью государыни, она говорит, наверное, тут забыла…
Анна с интересом всматривалась в лицо великой княгини. Оно было красно от жара, припухло от родов, а выступившие во время беременности коричневые пятна вовсе не украшали молодую женщину. «Какая некрасивая», – подумала Аннушка. Она увидела в уголке кровати голубую мантилью императрицы и убежала с облегчением.
И снова Екатерина лежала одна. Все ее фрейлины пропадали целыми днями на праздниках, всех интересовали крестины новорожденного, весь большой свет. Никто не отзывался на ее крики. Екатерина плакала, нос ее распух, глаза покраснели, и горькая обида ложилась на сердце. Никому не нужная лежала одна та, которая была началом и основой всех празднеств…
Прибежав к императрице с мантильей, Аннушка поспешила поделиться своими впечатлениями с Машенькой.
– Она такая некрасивая, – рассказывала она Машеньке, – нос толстый, глаза узенькие, подбородок длинный, вперед выдается. И что это считают ее красавицей, верно, потому что задаривает всех. Даже если какой куртаг у нее, бесплатную лотерею ведет и все что‑нибудь да подарит. Подарками любовь просит…
И она презрительно оттопырила верхнюю губу.
– А ведь ты мне говорила, что не надо болтать о чем ни попадя. А сама?
Анна прикусила язык.
– Тебе только, ты ж меня не выдашь? – с надеждой спросила Аннушка.
– И не стыдно так тебе у меня спрашивать? Мама завещала слушаться тебя во всем…
Аннушка обняла Машу, слезы показались на их глазах – как только вспоминали они мать, без слез не обходилось.
– Сиротки мы, сиротки, – качала головой Анна.
– Мы не сиротки, – строго поправила ее Маша, – мы богородицыны дети, нам не след Бога гневить…
И они опять призадумались о чудесах, происшедших в их судьбе. Одного они не знали, кто ж такая Ксения Блаженная, и где она, и почему во сне явилась их матери перед смертью. Сколько ни спрашивали, сколько ни пытались узнать о ней хоть что‑нибудь, всегда их ждала неудача.
В то же время разрешилась от бремени и бывшая правительница Анна Леопольдовна Брауншвейгская.
Странно, что когда во дворце так скоро оставили без помощи и сострадания роженицу Екатерину, участия и помощи не лишилась Анна Леопольдовна, бывшая правительница. Ее муж, Антон–Ульрих, принц Брауншвейгский, не был горяч к своей супруге, но супружеские обязанности выполнял с точностью и добросовестностью немца. В неволе, в Холмогорах, Анна Леопольдовна родила двух сыновей, принцев Петра и Алексея. И всегда были при ней сострадательные женщины из простонародья, помогавшие при родах, отпаивавшие ее горячими отварами из трав. Анна Леопольдовна лишилась трона и власти, но тюремщики заботились о том, чтобы и в узилище роженице доставляли все необходимое.
Согнанные с трона Елизаветой холмогорские узники жили бедно, почти нищенствовали. Поселили их в архиерейском доме, потому что не было тюрьмы в Холмогорах, да и места почище для царственных узников не нашлось. Архиерею пришлось подыскать себе другое пристанище, а его бывший дом окружили высоким деревянным частоколом и не разрешали узникам выходить за его пределы. Дом охранялся солдатами, да и сами заключенные не хотели выходить за пределы своего мирка.
Бурливая полноводная река Двина в самом устье образует несколько островов. На одном из них и расположился городок Холмогоры, в котором в те времена насчитывалось сто пятьдесят домов, растянувшихся на две версты по узкой извилистой единственной улице. Деревянные домишки здесь давно осели с тех пор, как стали Холмогоры одним из самых древних и известных городов. Он играл большую роль в торговле, пока не затмил его Архангельск. При Петре Великом выстроили здесь великолепный собор Спаса Преображения. Гранитные плиты, выложенные в византийском стиле, придавали ему невиданное в этих местах великолепие. Но роль города стала падать, жители частью разбрелись по большим городам, частью остались заниматься рыбной ловлей и охотой, и никому в центре империи уже не было дела до этого заброшенного уголка. В трех верстах от него расположилось село Денисовка, которое сами жители прозвали Болотом. Здесь родился великий Ломоносов…
Никто из пленников не выходил за ворота узилища, никто в городе не знал, что за люди живут в этом доме. Солдаты пользовались услугами местных жителей, для роженицы приглашали повитух–старух, но им строго–настрого запрещалось разговаривать об узниках. Десять–пятнадцать тысяч рублей в год получал от казны губернатор на их содержание, однако отчета у него никто не спрашивал, так что случалось, что арестанты целыми неделями сидели на хлебе и воде. Толстый принц Антон склонен был к апоплексическому удару, однако пережил свою жену на тридцать лет. Семья стала для него всем. Кроме семьи он никого не видел десятилетиями. Любимую фрейлину Анны Леопольдовны заменила ее сестра Якобина Менгден. Но она стала лишь источником дополнительных мучений для всех. Якобина ссорилась с принцем Антоном, ругалась с караульными солдатами и офицерами, завела бесстыдный роман с домашним доктором Ножевщиковым за неимением других мужчин, постоянно скандалила. Ее заперли в отдельную камеру, но и тут она умудрялась бить солдат, приносивших ей обед, выливала им на головы суп.
Дети Анны Леопольдовны все выросли в неволе. Рахитичные и необразованные, тем не менее они прожили долгую жизнь. В конце концов, все четверо так привыкли к неволе, что, когда их освободили, не знали, что делать со свободой. Они не умели одеваться, не умели говорить с людьми, не знали, что такое корсет и парик. Они молили оставить их в тюрьме – они к ней привыкли и не мыслили себя вне ее.
При всей нужде и лишениях Анна Леопольдовна не была брошена своей семьей в родовой постели, познала заботу, любовь, привязанность простых женщин из народа…
Екатерина же при первых родах поняла, что человек в золотом дворце, в этом муравейнике одинок, если он не заслужил милости и внимания императрицы…
Елизавета забыла про невестку, у нее теперь был внук, и она превратилась в страстно любящую бабушку. С первых же минут жизни Павла приставила к нему целый штат мамушек и нянюшек. Царица сама качала его на руках, бежала к колыбельке, едва он подавал голос, беспокоилась о каждом его движении. Мамушек было так много, что потомки запутались в их именах. Матрена Константиновна, Катерина Константиновна, Татьяна Афанасьевна, Матрена Димитриевна, Мавра Ивановна, Дарья Володи–мировна, а еще бабушка Фандершар, мамушка Фусадье и много разных женщин, все высокого происхождения и имевшие большое влияние на Елизавету.
Заботами Павла душили с самого детства. Лежал он в колыбельке, поставленной возле жарко натопленной печи, запеленатый во фланель, был укрываем еще стеганым на вате атласным одеялом и розовым, бархатным, подбитым мехом. Мехом черно–бурой лисицы выстлали и всю колыбель. Неудивительно, что мальчик с первого дня обливался потом. Запаренный, он потом всю жизнь боялся легкого ветерка и постоянно простужался. Заботами и попечением бабка душила его, но, когда брала его на колени, и он мочил ей платье, она сияла от гордости и нежности. В ней пропала любящая мать, но бабушка она была нежная и преданная…
Правда, через два–три года Елизавета охладела к внуку. Ей надоело с ним возиться, и она вернулась к нарядам, балам, пирушкам в узком кругу и заботам о своей увядающей красоте.
Фрейлины постоянно толклись в детской, потому что госпожа их тут сперва дневала и ночевала. И Аннушка с Машенькой, хоть пока еще и фрейлины за все про все – подай, принеси – тоже близко познакомились с Павлом, хотя ни одной из них ни разу не удалось даже подержать его за крохотную ручку. И Машенька всегда умилялась при виде ребенка, а Анна сжимала зубы и все вспоминала, как он обклался в церкви. С самого начала они по–разному относились к этому царственному ребенку.
Но нередко Аннушка и Машенька замирали под речами мамушек и нянюшек. Те рассказывали сказки и пели колыбельные песенки маленькому наследнику, и никогда больше двум сестрам не пришлось слышать таких трогательных повестей и слезных напевов.
Слезы катились по щекам Аннушки, когда она складывала свое парадное платьице с еще не обрезанными крылышками. Она убрала его подальше и никогда больше не надевала. Она не обрадовалась даже тогда, когда ей выпала честь как взрослой фрейлине присутствовать на приеме оттоманского посланника, приехавшего из Порты с известием о вступлении на престол нового султана.
Статс–дамы и фрейлины, парадно разубранные, напудренные и с мушками на щеках рядами по старшинству стояли в галерее. Аннушка помещалась в самом конце блестящей шеренги придворных красавиц. Весь генералитет, придворные кавалеры в полыхающих от золота камзолах стояли по левую сторону галереи, а Елизавета, как всегда, одетая с восточной пышностью и особо причесанная, сидела на золоченом троне под бархатным с золотом балдахином. Справа от нее помещался обер–егермейстер и лейб–компании капитан–поручик и кавалер, рейхсграф Разумовский, а слева блистал обер–гофмейстерским мундиром барон Миних. Великий канцлер, сенатор и разных орденов кавалер Бестужев–Рюмин принял от одетого в чудной для россиян наряд грамоту и положил справа на столик, заранее приготовленный для этого. Пятясь задом, он отошел от трона и приготовился выслушать речь турецкого посланника. Аннушка с удивлением слушала турецкую речь, а потом и перевод толмача, генерал–майора и генерал–рекетмейстера Дивова. Бестужев–Рюмин отвечал посланнику от имени императорского величества.
Ничего не поняла Анна в этой аудиенции, только все обегала глазами блестящий ряд женщин и мужчин, стоящих по обе стороны трона в галерее. Приседала, когда нужно, по знаку статс–дамы наклоняла голову в такт со всеми и обрадовалась, что церемония закончилась довольно скоро и можно бежать к сестре.
– Как там было? – спросила ее Машенька.
– Да как обычно, – серьезно и грустно ответила Анна, – служба…
Аннушка стала взрослой фрейлиной, и у нее теперь прибавилось обязанностей. Детство кончилось.








