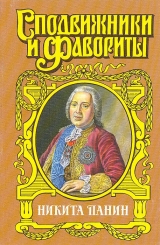
Текст книги "Граф Никита Панин"
Автор книги: Зинаида Чиркова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 34 страниц)
В первый же день своего приезда в столицу бросилась Маша разыскивать юродивую Ксению. Хотелось хоть чем‑то одарить ее, помочь, накормить, обогреть. Она знала, что блаженная всего больше бывает на Петербургской стороне. Когда‑то, в самом начале века, эта сторона города была самой лучшей – здесь построили первый дворец Петра Великого, селились именитые и богатые люди, родовая знать. Но город расширялся не в сторону бесплодных болот и кривых низкорослых лесов, а к югу, к Москве, где и возникла потом Московская застава – торговля и ремесла заставили столицу обернуться лицом к югу. Петербургская же сторона так и осталась тылом, отрезанная от центра куском неказистых домишек и огороженными простыми плетнями убогих огородов. Мало–помалу эта часть города к середине века стала убежищем нищеты и самого бедного люда столицы. Нанять квартиру здесь можно было задешево, никто не желал переселяться в этот край без крайней нужды. За бесценок покупался кусок болота, и строился домишко из самых дешевых материалов. Нищие и обедневшие чиновники, мастеровые–пьяницы и приказчики, изгнанные с работы, горничные, состарившиеся и не могущие найти службу, разорившиеся купцы и тайные тати – ночные воришки и карманники – весь этот люд коротал свои дни среди бесконечных луж с плавающими утками, ступал по мягкой пружинящей под ногой торфяной кровле болот, иссыхал под бледным и неказистым северным небом среди навозных куч и гор мусора, заворачиваясь в отрепья и лохмотья. Едва доставало капитала у кого‑нибудь из здешних обитателей, как он немедленно съезжал в другую, лучшую часть города, чтобы не видеть перед глазами всегда одно и то же мрачное низменное болото, которое, казалось, высасывало жизнь и кровь своих обитателей. Даже кабаки и трактиры были редкостью – мало кто из кабатчиков, целовальников, отваживался открывать здесь свои заведения – уж больно мрачен и дик; суров и разбоен был здешний люд. Отрезанный от города рекой, город здесь приходил в запустение, и только голытьба ютилась по хабарам, наскоро сработанным из кусков гнилых досок, с окошками, заткнутыми тряпьем, с дверями, низенькими, что едва протиснуться, согнувшись пополам…
Здесь и обитала большей частью Ксения, бродя среди нищих и калек, отгоняя палкой голопузых жестоких мальчишек, отбиваясь от свирепых псов, голодных и бездомных. Иногда и ночевала она рядом с этими бездомными собаками – они принимали ее в свою стаю, обкладываясь по сторонам теплого человеческого тела и всю ночь согревали ее своими нечистыми телами со свалявшейся шерстью…
Никогда не наведывались сюда извозчики: слишком уж тяжело вытаскивать колеса из нескончаемой грязи, а можно попасть и в промоины, и тогда навсегда исчезала в болотной топи и лошадь, и возок, и сам извозчик…
Единственный деревянный мост, построенный еще Петром Первым, соединял берега реки, и по нему направлялись в город нищие и калеки, выпрашивающие свое дневное пропитание, туда же тянулся и разбитной работный люд, искавший хоть дрова нарубить да убрать в конюшнях господ, чтобы получить жалкие гроши – царя на коне – за весь день трудной и грязной работы.
Но именно на этой стороне Екатерина распорядилась поставить дольгауз – убежище для умалишенных.
Сюда‑то и устремилась Маша. Она разыскала домишко Прасковьи Антоновой, и та поведала ей, где теперь блаженная.
– Царь‑то покойный, сказывают, упрятал ее в крепость. Это нашу‑то, смиренную Ксеньюшку, – рассказывала она Маше, – а за что, никто так и не узнал. Вроде бы встретилась ему на дороге да судьбу предсказала. Удавленником вроде назвала. Вот он и освирепел…
Маша сидела в небольшом деревянном домишке Антоновой, подаренном ей Ксенией. В маленькую гостиную влетел мальчонка лет шести с белой, как лен, головенкой, в белой рубашке и коротких портках, босой и непричесанный.
– Матушка, – закричал он, но увидел незнакомую даму, важно восседающую на единственном кресле, и застыдился, кинулся к Прасковье, спрятался за ее широкими юбками…
– Не бойся, Андрюша, да поздоровайся с госпожой, она милая и добрая.
Андрюша, страшась, выполз из‑под юбок матери и пришаркнул ножкой, босой и бледной.
Маша умилилась. И что это не догадалась хоть пряничного петушка захватить – не знала, что у Антоновой есть сын.
– Приемный, – ответила на ее взгляд круглая, как колобок, Антонова, – вы уж, верно, слыхали мою историю. Это Ксеньюшка мне сына даровала.
Маша смутно вспоминала эту историю. Как будто юродивая послала Антонову к Смоленскому кладбищу, где разрешалась от бремени прямо на улице никому неизвестная женщина – задавил ее извозчик. Мальчик так и остался у Антоновой, и она воспитывала его, как родного сына…
– Все мне дала Ксеньюшка, а сама брать моего ничего не хочет. Только и твердит, чтоб нищим подавала да прикармливала их. И то стараюсь и что отдаю, будто возвращаете» ко мне – знать, сильно угодила Богу наша Ксения…
– Где теперь сыскать ее? – снова спросила Маша, но и на это вопрос не получила ответа. Никто не знал, где бывает Ксения. А только в дольгаузе, может быть. Императрица велела ее выпустить из крепости да отвезти в дольгауз: теперь туда свозят всех умалишенных, чтобы и за ними присмотр иметь…
Маша отправилась в дольгауз в надежде найти там Ксению. Она сама не знала, почему так хочет свидеться с ней, но что‑то толкало ее, не давало покоя. Вся ее жизнь, в сущности, явлением Ксении была подтолкнута…
Дольгауз оказался длинным ветхим строением. Только крыльцо, высокое и перильчатое, возвышалось над окружающей грязью, и ступени его, чисто выскобленные, желтели посреди мрака и унылости окружающего пейзажа.
На крылечке стояли и судачили две дебелые бабы в белых фартуках и белых платках, повязанных по самые брови, и бородатый толстый мужик, тоже в белом фартуке и белой шапке из бумазеи.
Оставив наемный экипаж поодаль, Маша подошла к крыльцу.
Мужик, вероятно, санитар, с удивлением воззрился на богато одетую даму, отвесил ей низкий поклон, а бабы, хихикнув, убежали внутрь.
– Дольгауз? – спросила Маша, не зная, как обращаться к мужику.
– Чего изволите, госпожа? – вопросом на вопрос ответил мужик.
– Я – баронесса Вейдель и ищу Ксению блаженную, – спокойно сказала Маша, – мне нужно непременно…
– Лекаря позову, – сообразил мужик и тут же исчез за низенькой скрипучей дверью в приют умалишенных.
На крылечко, погодя немного, вышел лекарь – судя одежде, француз – коротенькие штаны и чулки с подвязками, грубые башмаки на больших каблуках и синий камзол. Парик, надетый наскоро, скособочился и выглядел убого.
– Пуассонье, – представился он, и Маша сообразила, что это, верно, какой‑нибудь родственник того Пуассонье, что был лекарем у Елизаветы. Того она видела часто и хорошо знала.
– Мне бы хотелось увидеть юродивую, – нерешительно заговорила Маша. Она так и стояла у ступенек – никто не пригласил ее подняться в приют.
– Но проход в дольгауз немыслим, – важно сказал Пуассонье, – тут больные люди, им нельзя видеться с посторонними.
– Я не посторонняя, – горячо и сухо говорила Маша, – Ксения мне…
– Но вы же не собираетесь войти в дом, где есть помешанные? – прищурился Пуассонье.
– Случайно, не ваш брат был хирургом у императрицы?
Пуассонье смешался, с любопытством и настороженно взглянул на даму.
– М–м, это мой дальний родственник, – учтиво произнес он. – А вы знаете моего троюродного кузена?
– И очень хорошо, – твердо ответила Маша. – При дворе он пользовался хорошей репутацией, много раз делал кровопускания самой императрице. Где он теперь, кстати?
– О, мой родственник теперь во Франции, и поверьте, и там на хорошем счету.
Маша знала, что Пуассонье за проделки не совсем чистого свойства сослали в Пелым.
– Я была бы вам очень благодарна, если бы вы пригласили меня в ваш приют и провели к Ксении…
– Но у нас нет такой женщины, – возразил Пуассонье. Видно, очень уж не хотелось ему дозволить Маше осмотреть дольгауз…
– Я не уйду отсюда, пока вы мне не покажете, в каких условиях содержится Ксения, – опять спокойно, но уже закипая горячей ненавистью, сказала Маша, – если нужно будет, я помогу; чем могу, даже деньгами.
Она вынула из муфты приготовленные деньги и протянула Пуассонье.
Тот взял деньги и небрежно распахнул дверь.
– Не удивляйтесь тому, что увидите, – предупредил он Машу, – здесь не больница, а приют для умалишенных…
Маша прошла мимо него в узенькую дверь, слегка наклоняясь…
Пуассонье шел за ней и считал, видимо, своим долгом объявлять ей, куда идти и как ведут себя здесь больные.
В длинной темной комнате с большой русской печью она увидела множество козел с положенными на них досками. На доски брошены матрасы, набитые соломой. Больше ничего в помещении не было, но зато здесь толпилось множество людей. В углу сидел на матрасе старик и монотонно пел церковные псалмы. Ходила по кругу молоденькая девушка и собирала цветы с пола. Она разглядывала их и нежно приговаривала:
– Славный василечек, как ты мил, красненький, синенький.
В руках у нее ничего не было.
Тут и там стояли люди. Никто не обращал на Машу ни малейшего внимания.
Ей стало страшно. Мужчины и женщины, старики и малые дети бродили между козлами и каждый думал о чем‑то своем. Вовсе уж полоумные сидели на козлах, раскачиваясь и бормоча какие‑то странные слова.
У крохотного оконца, затянутого слюдой, Маша увидела Ксению. Склонившись к русой голове соседки, она разбирала волосы на пряди, и ногтем прижимала прядь к острому концу гребня. Вши так и щелкали под ее рукой…
Маша содрогнулась.
Вонь, спертый нечистый воздух – мало сказать так о комнате, битком набитой людьми. Многие оправлялись прямо под себя, и запахи эти стояли в непроветриваемом помещении.
Маша судорожно вытащила носовой платок и закрыла ноздри.
Она пробралась к Ксении и упала перед ней на колени:
– Ксения, родная, не обессудь, что я пришла. Мне помощь нужна, не откажи…
Ксения оставила гребень и уставилась на Машу.
Только просьба о помощи приводила ее в себя.
– Своди ты меня в баню, Ксения, давно не была, ой, как хочу попариться, – упала Маша головой в грязный истоптанный пол.
– А и где ж париться? – с недоумением возразила Ксения. – Тут не топят баню…
– А ты и знаешь, где, – решительно сказала Маша, – у товарки твоей, Прасковьи Антоновой.
– Ой, хороша у нее баня, – отозвалась Ксения и направилась к двери. – После доищу, – кинула она товарке по комнате, у которой искала вшей.
Она прошла мимо Пуассонье, словно бы даже и не заметив его, а Маша заторопилась следом. Пуассонье хотел возразить, но она сунула в его руку золотой червонец, и тот молча пожал плечами.
Ксения вышла на крыльцо, огляделась и припустилась бегом. Маша едва успевала за ней.
Ксения споро шла, Маша изо всех сил старалась за нею успеть, а ее наемная коляска следовала за ними следом.
Вот так они и пришли к дому Антоновой.
– Отворяй, хозяйка, – крикнула Ксения, – мыться в бане привела тебе грязнуху…
Прасковья Антонова выскочила на крыльцо.
– Матушка–голубушка, Ксения, – заплакала она и уткнулась ей в плечо, – да что ж ты раньше не приходила…
– А не было нужды, – ответила Ксения, – баня‑то топлена у тебя?
– Чайку не выпьешь, а уж готова будет, – кинулась Прасковья. – Да входи, взойди, сыночку увидишь, большенький стал, совсем уж как взрослый…
Ксения прошла в дом. Маша торопливо пробежала вслед и мигнула Прасковье. Та уже поняла все и наскоро приказала дворовым девушкам топить баню…
Поставили самовар. Ксения как будто отдыхала, сидя за столом, накрытым бархатной скатертью, молчала.
– Я привезла тут много белья и одежды, – торопливо говорила Маша, – у нее же ничего нет, надо одеть и обуть…
– Попробуй, попробуй, матушка, – грустно усмехнулась Антонова, – что ей дашь, все бросает, а вот красную кофту да зеленую юбку, не снимая, носит…
– Как там страшно, – тихонько проговорила Маша, – не приведи Бог оказаться в таком месте…
– А и там Ксения находит, кому помочь. Если у нее помощи просить, никогда не отказывает, только знает, кому нужна, а кому нет…
Странно, подумалось Маше, а ведь она не поняла, что не мне нужна баня, а ей…
– А вот и тебе, – прервала ее вдруг Ксения, – ты не гляди, что я дура, тебе‑то как раз и надо в баню, а мне что, я с тобой попарюсь, да и опять свежа…
Нет, не приручишь Ксению, не заставишь ее жить в настоящем доме, есть не что придется, а как все люди. Что ж она такая, али в самом деле с ума съехала, не различает разницы?
– А птичка по зернышку клюет и сыта бывает, – сказала Ксения. – А я не уж от птички отличаюсь! Господь питает меня, а мне много не надо…
– Разговорилась ты сегодня, Ксения, – обратилась к ней Антонова.
– А вот и не Ксения я, сколько уж раз тебе говорено, а вон девка молодая да несмышленая, ей и пристало мужика бабой называть, а ты знаешь, что я – Андрей Петров, да и сама сказывала…
– Сказывала, – покорно отозвалась Антонова.
– А почто вчерась не пустила нищенку Авдотью? – напустилась на нее Ксения.
– Да ведь ты знаешь, какая она нищенка, собирает грошики, а уж хоромы выстроила…
– Ах ты, завистница! Да в хоромах‑то дверей нет, окошки еще прорубать надо, ей каждого царя на коне копить надобно…
– Виноватая, – глухо пробормотала Антонова.
– То‑то же…
Маша с удивлением слушала этот разговор и думала о том, что надо снять с Ксении ее платье да прожарить, вшей, небось, натащила.
– У меня их не бывает, – опять, словно бы в ответ на ее мысли, ответила Ксения. – Не идут они ко мне и все… А у кого вошки, у того и денежки… проверь, коли не веришь…
Она сняла свой старый истертый платок, роскошные волосы каскадом упали ей за спину.
– Гляди, гляди, – наклонила к Маше голову Ксения.
Маша со страхом поднялась, разобрала спутанные каштановые волосы: чистая кожа отсверкивала в свете лампы. Действительно, не было на волосах ни вшей, ни даже белых крупинок гнид…
– Я потому так болтаю, что родня ко мне пришла, – развеселилась Ксения, – ты ж и не знаешь, а ведь это богородицына дочь, – она обращалась к Прасковье, а сама весело и усмешливо взглядывала на Машу.
Антонова так и ахнула:
– Никто ж не говорил тебе, да ты сама все знаешь…
– Не все, а только кое‑что ведаю…
Маша не смела глаз поднять на Антонову – она не говорила ей, откуда знает про Ксению, откуда взялся у нее такой интерес к этой юродивой…
Баня истопилась, и когда они пришли в нее – низенькое бревенчатое строение с крохотным оконцем, высоким камельком и большим котлом посреди него – Маша не знала, как отказаться от своей затеи. Ей хотелось, чтобы Ксения вымылась, чтобы она могла погреться в жару и пару бани, и вовсе не собиралась париться вместе с ней. Но Ксения только взглянула на нее, и Маша принялась торопливо раздеваться.
Ксения же сняла с себя красную кофту, зеленую юбку, скинула разбитые башмаки и оказалась в длинной, до пят, белой рубахе.
– Ты мойся, – сказала она Маше, – а я попарюсь…
Она навзничь легла на полку и закрыла глаза.
Пришлось и Маше, принять баньку. Она уже вымыла свои красивые волосы, натерев их мыльной травой, обкатилась ведрами теплой воды, посидела на нижней ступеньке полки и налила в ушат воды.
Ксения лежала без движения в одной и той же позе, скрестив руки на груди.
Маша намочила мыльную траву в горячей воде и принялась мыть ноги Ксении.
Та не открыла глаза, так и лежала в жарком пару…
Маша уже оделась, сидела на приступке распахнутой в предбанник двери, а Ксения все лежала в горячем пару без всякого движения…
– Маша уже начала задыхаться, когда Ксения встала, наконец, облилась водой из ушата и натянула юбку и кофту.
– Куда, на мокрое, вот же рубашка свежая, и новая юбка, и кофта… А башмаки…
Маша без сил уронила руки, когда увидела, что Ксения, как была в мокрой рубашке с натянутыми поверх кофтой и юбкой, босая вышла из бани. Она кинулась вслед за ней, но юродивая словно растворилась в вечереющем уже воздухе.
Она кинулась за баню, к крыльцу, влетела в комнаты. Юродивой нигде не было…
– Что же это, – закричала Маша, вбегая в дом, – куда ж она?
– А в поле, наверно, – спокойно ответила Антонова. – Она как из бани выйдет, сразу в поле, на просторе молится, стоит всю ночь на коленях…
– Простынет же, – пробовала горячиться Маша. – Она же надела прямо на мокрую рубашку кофту и юбку, и все, исчезла…
– Беспокойства хватит, – сказала Антонова, – не простынет, Бог ее хранит, и нам дай Бог такое здоровье… И всегда‑то так, попарится, наденет юбку и кофту на мокрую рубаху, и след ее простыл… Вперве‑то и я тряслась, а теперь знаю – такая она, и ничем ее приветить нельзя…
С тем Маша и поехала домой. Все ей виделась высокая белая фигура, без движения лежащая на полке в горячем жару парной и ее закрытые глаза…
А дома ждали. Приехал Петр Иванович с братом Никитой Ивановичем. Едва она вошла, как Петр Иванович кинулся к ней:
– Марья Родионовна, где это вы пропадаете, мы уже два часа вас дожидаемся…
– В бане парилась, – грустно отозвалась Маша.
– Как в бане, где же? – опешил Петр Иванович…
– Да вот так случилось, – сбивчиво начала объяснять Маша, – я искала Ксению, юродивую, нашла ее в дольгаузе. Чтобы она вымылась, придумала, что хочу сама в баню и ее прошу помочь. Она и пошла со мной, только…
Тут она остановилась, посмотрела на братьев печальными глазами и тихонько сказала:
– Что это я…
Никита Иванович с интересом и нежностью наблюдал за этой юной еще, такой простой девушкой, за ее неловкими движениями и думал про себя, как же повезло Петру…
– Никита Иванович, – вдруг обратилась она к нему, – как же это можно, там, в дольгаузе, даже вспомнить страшно… Грязь, вонь, духота, вши, женщины, мужчины, все вместе, дети тут же толкутся, в одной комнате, да и комнатой назвать ее нельзя, а ведь это больные, лишенные разума, им уход нужен, им няньки нужны, им санитары нужны. Собрали всех вместе, а этот Пуассонье, ведь он же, верно, ворует, раскрадывает все, их и кормят‑то, наверно, один раз на дню…
Она с жаром рассказывала и рассказывала обо всем, что видела в дольгаузе, приюте для умалишенных, а Петр Иванович смотрел на нее и не понимал…
– Да ведь у нас свадьба на носу, – заикнулся было он.
– Мы‑то счастливые, а они? – захлебнулась словами Маша.
– А как вы думаете, Марья Родионовна? – осторожно вмешался Никита Иванович.
– Ой, я бы им, ну пусть по двое–трое живут в комнате, да постели, у них же кроме тюфяков с соломой больше и нет ничего, да смотреть, чтоб кормили…
– Но ведь это умалишенные, – мягко возразил Никита Иванович.
– Бог лишил их разума, но не лишил жизни, – горячо вскинулась Маша, – значит, и они на что‑то нужны? А мы – люди богатые и счастливые, можем так и глядеть на них да руками разводить?
Никита Иванович внимательно посмотрел на брата.
– Разумница, невестка моя, – смеясь, сказал он, – вон как рассуждает, как самый настоящий государственный ум…
Петр Иванович в изумлении глядел на Никиту. Какие‑то там умалишенные, ходит где‑то, по приютам каким‑то, лучше бы дома сидела да вышивала…
– А знаете что, – заключил Никита Иванович, – что, если вам и впрямь заняться устройством такого приюта. Государыня указ издала о приютах этих для умалишенных, а уж как их сделали, да какие там порядки, за всем ведь не уследишь. Она и сама женщина…
– Ты еще, Никита, скажи, чтобы моя невеста вшами занималась, – резко сказал Петр Иванович.
– А вши – от грязи, а кто, как не женщина, должен чистоту наводить, чтобы и в приюте было, как дома? – засмеялся Никита Иванович.
Петр недовольно засопел носом, не хватало еще, чтобы его жена домой из такого приюта вшей тащила.
А Маша застеснялась.
– Что вы, Никита Иванович, я, чтобы помочь только, а так, я это просто потому, что жалко мне их…
– А вот я доложу императрице, да скажу, что есть такая жалостливая да домовитая, она и прикажет, тут уж ничего и не поделаешь, – он говорил со смехом и смотрел на Петра: у того был обиженный и недовольный вид.
– С тебя станется, и верно, доложишь Екатерине, – он вздохнул, – не порти ты счастья моего…
– А ты вот хочешь, чтобы жена в тереме сидела, из окошка выглядывала да нарядами тебя изводила, да сплетни собирала?
Петр Иванович махнул рукой.
– И так нехорошо, и так тоже плохо, – в сердцах бросил он. – Ну да после свадьбы разберемся, кто что обязан делать…
Маша поглядывала на Петра Ивановича, ей было и смешно, и больно смотреть на его обиженное лицо. Он вдруг показался ей большим ребенком, он, прошедший войну и все ее ужасы, он, старше ее на девятнадцать лет.
– Петр Иванович, – она подошла к нему, – не сердитесь, у вас такое обиженное лицо, просто мне вас жалко стало…
– Ну вот, довели старика, – смеясь, отошел сердцем Петр Иванович, – сладу с вами нету…
– Какой же вы старик, – качая головой, проговорила Маша, – мне вот показалось, что вам и восьми нет, такой вы ребенок…
Петр Иванович вытаращил глаза. Такая нежность и такая забота послышались ему в этих словах, какой он и не ожидал от молоденькой невесты своей.
– Ручку пожалуйте, – в душе заулыбался он я склонился над ее рукой, скрывая счастливое лицо.
– А насчет приюта подумайте, Мария Родионовна, – серьезно сказал Никита Иванович, – мало у нашей государыни хороших помощников, а у вас и глаз есть, и наблюдение сделать можете, и не ленитесь, а самое главное – совесть и сочувственность.
Маша только рукой махнула. Она считала шуткой все, что сказал Никита Иванович, и думать забыла об этом разговоре. Да не забыл Никита Иванович.
Все последние недели Маша старательно искала Ксению. Она и сама не понимала, почему ей так надо увидеть юродивую. Всюду натыкалась на следы Ксении, но увидеть ее Маше так и не удавалось.
Зато она познакомилась со многими петербуржцами, с которыми не могла бы и помыслить разговаривать, если бы сидела взаперти, в своем доме, да думала только о свадьбе и нарядах.
Однажды забрела она на мост, соединявший оба берега реки у Петропавловской крепости. Она старалась ходить пешком и шла по мосту, глубоко задумавшись над смыслом существования, над этим городом, пристанищем и обиталищем не только богатых и знатных, но и самых несчастных, которых здесь было во много раз больше.
На мосту увидела она нищего, который стоял на коленях и, часто–часто крестясь, отбивал поклоны о дощатый шершавый настил моста.
Маша остановилась и подала ему копейку – она уже давно привыкла, встречая нищих, иметь копейки в кармане.
Он даже не обратил внимания на нее и продолжал отбивать поклоны. Маша положила копейку рядом и собралась уходить. Нищий ничего не просил – рядом не было шапки, перевернутой вверх дном – знак просьбы о подаянии.
– Или место святое тут? – спросила Маша тихонько.
Нищий поднял на нее глаза, голубоватые, подслеповатые, словно подернутые пленкой.
– Ай не знаешь?
Голос был ясный и чистый. Маша растерялась. Церковь, погост, паперть – святые места, там молятся, там просят Бога помочь, а тут, на мосту, всем ветрам доступном?
– Тут, на этом самом месте, двое суток стоял я вот так, на коленях, – тихо поведал нищий, – да не я один, тут целая толпа стояла. Двое суток никуда не уходили, ничего не просили…
– Почему? – пораженно спросила Маша.
– А заступница наша Ксения в крепости сидела, царь ее запер. Сказала ему слово прозорливое, он и осерчал…
Маша и не знала, что слава о Ксении уже давно распространилась по всему городу, и простой люд знал Ксению, просил ее о помощи.
– Двое суток стояли на коленях в дождь, и град, и в холод, – говорил нищий. – А достоялись. Как вышла из крепости, так и разошлись. А кому еще за нее заступиться, за нашу заступницу? До Бога далеко, до царя высоко…
– Наоборот, – поправила его Маша, – говорят, до Бога высоко, а до царя далеко…
– Может, и так, – отозвался нищий и снова закрестился, забил поклоны о дощатый настил…
Маша познакомилась во время своих исканий по городу с сестрами Беляевыми, мещанкой Гайдуковой, купчихой Толстой.
И поняла, наконец, почему вышла на улицы Ксения, Сидя в горнице ли, в светлице ли, или в монастыре, никогда не узнаешь нужд и забот простого люда, их дела и их помыслов. А улица впитывает в тебя целый поток разного рода сведений, мелких и важных событий, тут все узнается быстрее, чем во дворце или в тереме.
Маша и сама подумывала, чтобы выйти вот так, на улицу, как Ксения, бросить все и скитаться, не знать, чем прикрыть тело и голову. Но испугалась своей мысли. Нет, у нее нет для этого сил. Пришлось бы расстаться с Петром Ивановичем, пришлось бы забыть и Аннушку. Нет, у нее другая судьба, у нее другое предназначение.
Но есть же дела добрые, которые требуют ее ума, рук, забот. И все чаще возвращалась она к мысли Никиты Ивановича – стать попечительницей приюта для слабоумных, лишенных разума людей. Ведь для чего‑то же Бог создал их? А ну как лишь для того, чтобы проверить людскую совестливость и стремление делать добро без корысти, без надежды на благодарность? Эта простая мысль теперь не давала ей покоя, она без конца поворачивала ее в своей голове и скоро пришла к выводу, что, если повторит Никита Иванович свое предложение, она согласится. Уломать вот только Петра Ивановича будет трудно, ну да Бог даст ей силы для этого. Недаром же она из богородицыных детей…








