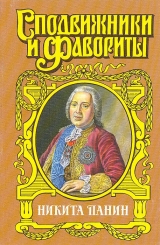
Текст книги "Граф Никита Панин"
Автор книги: Зинаида Чиркова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 34 страниц)
Девиз, завет Великого Петра «Помогайте друг другу» незримо действовал, воодушевлял русских солдат в этой странной войне, которая длилась вот уже семь лет и которую умирающая Елизавета решилась вести до последнего гроша и последнего солдата, чтобы наказать этого «шаха–султана» Фридриха, как она называла прусского короля. Он никогда не стеснялся в оскорбительных выпадах против России и ее государыни, а теперь, расположившись в Европе во всю ширь, насмехался над «русскими медведями».
После победы над австрийцами под стенами Праги в мае 1757 года он почему‑то прочно утвердился во мнении: русская армия настолько напугана, что даже и не решится выступить против него. Но признал свое заблуждение, когда русские не только выступили против пруссаков, а еще и нанесли им оглушительное поражение при Гросс–Егерсдорфе… Перед этой битвой, пренебрежительно отзываясь об этой толпе «диких варваров», не обученных и не знающих новейших достижений в области военного дела, он отправил своему главнокомандующему Левальдту подробную инструкцию, как просто и без потерь покончить с ордой русских. Они пойдут тремя отрядами, рассуждал Фридрих, надо напасть на один из них, разгромить и заставить отступить два других. Беглецы начнут спасаться в Польшу, тут их нужно преследовать, заодно стать генерал–губернатором этого края и разделить Польшу так, как удобно и выгодно Пруссии. Этот лакомый кусок Европы давно уже привлекал Фридриха…
Пожалуй, для такой бесцеремонности у Фридриха были все основания. Левальдт командовал отлично обученными, превосходно дисциплинированными войсками, привыкшими к победам. Прусские шпионы кишели в русской армии, и Фридрих прекрасно знал положение в ней. Они доносили ему о каждом шаге, каждом передвижении, о состоянии войска, о его готовности к сражениям. Главнокомандующий русской армией Апраксин, по их словам, заботился лишь о многочисленности штаба и блестящем снаряжении. Русские солдаты шли как будто на парад, а не на войну. На их касках и шапках развевались султаны и перья, а сапоги просили каши. Специальное образование и воинский опыт отсутствовал не только у всего штаба, но и у самого главнокомандующего, а засилье немцев в командовании делало поставку сведений об армии и всех ее маневрах доступным и легким делом. Генерал–аншеф Лопухин только и думает о том, как бы хорошо выпить и поесть, энергичен, но слишком горяч и молод Румянцев, генерал–майор Панин умеет обращаться с солдатами лишь на учении при маневрах, гренадеры сильны и выносливы, но малоподвижны и не смышлены, артиллерия насчитывает до двухсот пушек, но не имеет лошадей, чтобы подвозить их к фронту, а начальник артиллерии генерал–лейтенант Толстой никогда не бывал ни в одном сражении. Из шести кирасирских полков только два заслуживают этого названия, люди не обучены, лошади никуда негодны, всякое их передвижение сопровождается полным расстройством в рядах и частыми падениями с лошадей. Офицеры поголовно оправдывают поговорку: глуп, как драгунский офицер.
Гусары лучше, докладывали шпионы, но не имеют понятия о разведке, рекогносцировках, патрулях. Калмыки, хоть и лихие наездники, но вооружены лишь луками и стрелами. Казацкие отряды атамана Краснощекова не привыкли нести ночную службу и не могут оказать серьезного сопротивления. Армия обременена бесчисленным обозом и не может быстро передвигаться.
Фридрих знал о русской армии все или почти все. Но он не услышал от своих шпионов о той нравственной силе и стойкости, что таилась в плохо обученном, плохо экипированном, под водительством бездарных командующих, русском войске.
Встреча двух армий при Гросс–Егерсдорфе началась, действительно, при полном унынии и панике среди русских. Ужас и страх поселились в сердцах русских солдат при первой встрече с блестящим противником.
Но внезапная инициатива Румянцева, подчинившегося не приказу, а девизу Петра Великого «Помогайте друг другу», подмога других полков и удивительная стойкость и боевой дух русского войска одержали над самой победоносной армией Европы блистательную победу.
Эта победа вначале вызвала у Фридриха отчаяние. Но, поразмыслив, он просто заменил командующего и решил, что проиграл всего лишь потому, что старик Левальдт устарел. Молодой Дона поведет полки к победе.
Теперь, в 1761 году, Фридрих был на краю гибели и близок к самоубийству…
Никита Иванович регулярно получал от брата Петра весточки и с его слов знал, что творится в русской армии. Он всегда ласково усмехался, видя, как скромен его брат и как замалчивает ту роль, что сыграл во многих сражениях. Петр был контужен в грудь и вынесен из поля боя под Цорндорфом, но, едва отлежавшись, уже через несколько часов явился в полки и продолжал командовать сражением. Там он проявил свои способности блестящего полководца, разбив пехотой кавалерию Фридриха. А при Пальциге уже стал превосходным кавалерийским генералом, обладавшим всеми необходимыми такому начальнику качествами – глазомером, решительностью и энергией. Русские учились быстро и на практике.
За сражение при Гросс–Егерсдорфе Елизавета наградила Петра Панина орденом святого Александра Невского.
И вот что писал брату герой Семилетней войны:
«Несколько дней до баталии наижесточайше мучился подагрою, а и в баталии велел себя людям встащить на лошадь и до самой ночи на ней в должности был. После же… вот уже третий день как с постели не схожу и насилу сегодня правую ногу приподнимать зачал»…
«Неприятель по полудни в два часа, держась только правила своего, дабы самому атаковать, в начале третьего часу пополудни атаковать на нас наижесточайшим образом зачал. Правда, что атаки его были самые смелые, наступление наипорядочное, и производил их одну за другой пять раз, невзирая на то, что храбростью и преудивительным постоянством, терпением и послушанием наших войск, он всегда с великим уроном и расстройкою отбит был и ни один раз не мог ни единого полка вступивших в нашу первую линию в расстройку привести или ко одному шагу отступления принудить, так что одни те полки без всякой перемены решили все дело, и неприятеля от последней атаки совсем отступить принудили».
Никита Иванович вчитывался в строки письма брата и так и видел его. В болезненном состоянии, сцепив зубы, командовал он полками, раз за разом отражал атаки Фридриховых драгун, забывая о себе и о своих ранах.
А как Петр писал о русских солдатах:
«Я знаю, мой друг, сколько вас по любви к Отечеству может обрадовать известие о добродетелях народа его, то, не распространяясь много, по сущей истине скажу, что во всей баталии, невзирая ни на какие яростные стремления неприятельския как пехотою, и паче превосходящей своею кавалериею, все войско наше, так порядочно и послушливо поступало, как того самые наискуснейшие люди на самом лучшем учебном плацу требовать от всякой армии могут… Мужества и великодушия столько показано, что в которые пехотные полки кавалерия врывалась, то не только их не рассыпала, но те, в которых уже въехали, штыками людей и лошадей поражали, а до которых еще не доехали, то, делая собою в которую сторону потребно было обороты, по въехавшим стреляли и всеконечно весьма редкий или ни один неприятельский рейтар, въехавший в нашу пехоту, из нея не выехал, но тут жизнь свою положил. Не меньше же того не только наши кирасиры и драгуны, где только случай допускал, съехавшись с лучшею неприятельской кавалериею, не думая никогда о пистолетах, но прямо с палашами в них въезжая, к отступлению принуждали… Когда же наша армия через неприятельские тела и раненых перешла, то никто наши никому из них никакого огорчения не делали и ничего с трупов не снимали и пленным никакого неудовольствия не показывали, но к особливому удивлению сами мы видели, что многие наши легкораненые неприятельских тяжелораненых из опасности на себе выносили, и солдаты наши хлебом и водою, в коей сами великую нужду тогда имели, их снабжали, так, как бы единодушно они положили помрачать злословящих войско наше в нерегулярстве и бесчеловечии ».
Король Фридрих на этот счет не жалел злословия. Он поспешил разгласить по всей Европе о варварстве своих врагов. По его словам, русские совершали такие ужасы, «которых чувствительное сердце не могло выносить без жесточайшей горечи», насиловали женщин, грабили трупы и дома бюргеров, высекли одну принцессу и уволокли ее в лес. Ему вторила его агентша, жена Бейтенского бургомистра. В негодовании восклицала она: «Если бы они насиловали только женщин!», намекая на своего мужа, ставшего, по ее словам, жертвой одного из самых отвратительных покушений.
Война всегда жестока. Обе стороны безжалостны друг к другу, но рассказ секретаря самого Фридриха, де Котта, словно бы уравновешивает жестокость и той, и другой стороны, хотя Фридрих немало кричал о гуманном отношении своих войск к порабощенным народам. Калмык из русского полка попал в плен к прусским разведчикам, и его привели к немецкому генералу. На груди калмыка висел образок, и генерал хотел палкой сбросить его с шеи калмыка. Калмык заслонил его руками, смотрел на генерала умоляющими и добрыми глазами, а тот стал бить его палкой по рукам. Он делал это с такой силой, что пальцы и руки калмыка сразу же вспухли и почернели. Но свою святыню калмык продолжал сжимать в изувеченных руках. Тогда палка переместилась выше и обрушилась на голову пленника. Мгновенно все лицо его залилось кровью, и несчастный упал замертво…
Русская армия еще в январе 1758 года под началом нового главнокомандующего Фермора двинулась по пути, с которого отступил Апраксин, повинуясь указаниям великого князя и великой княгини. Он был отдан под суд, но Елизавета не решилась раскрыть перед всеми тайну предательства племянника и невестки. Новый главнокомандующий немедленно устремился к Кенигсбергу, побуждаемый понуканиями императрицы. Путь на Восточную Германию был открыт, здесь не было ни войска Фридриха, ни его самого.
В русский лагерь явилась депутация от почтенных граждан Кенигсберга, предлагавшая отдать город Фермеру «под условием сохранения их прав, льгот и преимуществ». Слишком большую цену эти граждане требовали за свою свободу – Левальдт предварительно вывез из города гарнизон, деньги и провиантские магазины.
Однако Фермор согласился на условия капитуляции и добросовестно выполнил соглашение. Он был немец, и весь его штаб состоял преимущественно из немцев. Фридрих в Саксонии безнаказанно попирал священные права справедливости и человечности. Зато русские в течение всей войны владели Восточной Пруссией, не встречая со стороны местных жителей ни малейшего сопротивления. Русские предоставили пруссакам свободу веры и торговли, открыли им доступ на русскую службу. Двуглавые орлы заменили орлов Фридриха, здесь построили православную церковь, затем монастырь, стали чеканить монету с изображением Елизаветы.
Население быстро свыклось с новым режимом, и два года спустя депутация прусских бюргеров отправилась в Петербург поблагодарить императрицу за милостивое правление.
После сражения при Цорндорфе, которое стало как победой Фридриха, так и его поражением – у него почти не осталось армии, дорога русским на Берлин, Одер и Франкфурт была совершенно открыта.
– Осужденный в чистилище не в худшем положении, – писал Фридрих брату принцу Генриху, – мы нищие, у которых отнято все. У нас не осталось ничего, кроме чести. И я сделаю все возможное, чтобы спасти ее.
Судорожно пытался Фридрих не раз договориться с Петербургом, но Елизавета оставалась неумолимой. За миссию Фридриха брался даже сам великий князь, и Елизавета уже подумывала о том, чтобы выслать Петра в Голштинию – измена в собственном доме все более и более удручала ее.
Русские вступили в Берлин, казалось бы, победа уже была обеспечена, Фридриху грозила участь быть плененным теми самыми войсками, о которых он отзывался так пренебрежительно…
Елизавета знала об измене, никому не доверяла и, несмотря на болезнь, угнетенное состояние духа, все‑таки создала конференцию, которая и принимала указы о всяком передвижении войск. Многие из этих указов, составленных в штабе, находившемся за десятки тысяч километров от театра военных действий, были смешны, другие нелепы. Но в сентябре 1760 года в свет вышел один из них, который нанес Фридриху самый страшный удар. Между Петербургом и Веной был выработан план общего продвижения на Берлин. Об этом указе не знал ни русский главнокомандующий Салтыков, как и другие, подверженный влиянию молодого двора, ни австрийский главнокомандующий Даун. Приказ был отдан, но Салтыков немедленно захворал, Фермор, его заместитель, не хотел и слышать о приказе, а Даун просто отказался его исполнять.
Елизавета рассвирепела и заговорила таким угрожающим тоном, что командующим пришлось примириться с монаршей волей. Однако вместо соединения армий они решили ограничиться высылкой на Берлин одного лишь отряда Тотлебена. Две тысячи гренадеров, два драгунских полка, небольшое число казаков и двадцать пушек – вот что выделил Салтыков своему генералу для похода на Берлин. За Тотлебеном последовал отряд Захара Чернышова – целый корпус, а в отдалении двигался австро–саксонский корпус под командой Ласси: союзники России, как всегда, держались в стороне от военных действий.
Тотлебен неудачно штурмовал город.
«Все пушки были разорваны, – писал он потом в реляции по этому поводу, – вся амуниция выстрелена».
Он просил подкреплений. Но тут подошел Чернышов со свежим корпусом, и прусская армия бежала из Берлина. Однако Тотлебен, не посоветовавшись с Чернышовым и Ласси, нарушив их приказание, вступил в переговоры с почетными гражданами Берлина и подписал капитуляцию, которая потом была признана не без оснований вопиющим актом измены: Тотлебен был подкуплен Фридрихом еще несколько месяцев назад.
Берлин отделался дешево – контрибуция в два миллиона талеров да двести тысяч расходов на войско. Очистив уже вывезенные Левальдтом арсеналы и военные склады, взорвав два литейных и один пороховой завод, победители, однако, не тронули Потсдамского дворца, зато с удовольствием разграбили Шенгаузен и Шарлоттенбург, погубив драгоценную коллекцию античной скульптуры Фридриха, доставшуюся ему в наследство от кардинала Полиньяка. Все было разгромлено от Берлина до Шпандау, и, чтобы отвлечь от себя подозрение в измене, Тотлебен приказал даже высечь на городской площади двух журналистов, дурно отозвавшихся о России в своих газетах. Однако дело ограничилось лишь фикцией порки…
Осталась цела суконная фабрика Фридриха, одевавшая всю его армию. Ключи от Берлина были торжественно водружены в Казанский собор в Петербурге, но уже через три дня русские ушли из столицы Пруссии. Только один слух, что Фридрих мчится сюда с армией в двадцать тысяч, заставил победителей рассеяться, как дым…
Фридрих был ранен в самое сердце, но продолжал сопротивляться только потому, что его враги усердно помогали ему в этом. Главнокомандующим войсками был назначен старый, бестолковый и невежественный Александр Борисович Бутурлин. Вся армия в ужасе говорила, что он не способен командовать даже полком, каждый день напивается пьяным в обществе непотребных проходимцев…
Но рано или поздно Фридрих должен был пасть. Круг сужался. Фридрих лихорадочно искал сепаратного союза с Россией. Фавориту Ивану Шувалову через своего агента Баденгаупта, брата немецкого доктора, жившего в Петербурге, Фридрих обещал заплатить миллион талеров только за то, чтобы русская армия простояла в бездействии кампанию следующего года. Шувалов оказался неподкупен. Под его влиянием и Петр Шувалов отказался от громадной суммы, предложенной Фридрихом…
Никита Иванович догадывался или кое‑что знал об измене в семье Елизаветы, искренне сочувствовал ей и еще больше негодовал на немцев–предателей, из‑за которых геройство русских солдат, их кровь пропадали впустую… Но он не смел говорить об этом Елизавете – и так уж была она сломлена полным недоверием ко всем, и главное, изнурена жестокой болезнью. Все чаще и чаще повторявшиеся истерические припадки, не закрывавшиеся раны на ногах, все более изнурительные кровотечения – все наводило на мысли о скором и неизбежном конце.
Боялись перемен в государстве все. И страх наводил сам Петр шутовскими выходками, презрением ко всему русскому, частыми попойками и полной неспособностью заниматься государственными делами. Даже Шуваловы дрожали за свои места и богатства, хотя к ним Петр благоволил. Поэтому и удивился Никита Иванович, когда завел с ним разговор сам Иван Иванович Шувалов.
– Иные клонятся, – сказал он со значением, – выслав из России князя Петра с супругой, сделать, правление сына их, Павла Петровича. Другие хотят выслать лишь отца, а оставить сына и мать. Но все единодушно думают, что Петр не способен…
Никита Иванович долго не думал. Он не доверял Шуваловым, боялся за Павла и обещал себе сделать все, чтобы выполнить обет, данный Елизавете, – беречь Павла как зеницу ока.
– Все оные проекты суть способны к междоусобной погибели, – медленно и раздумчиво ответил он Ивану, замаскированно предлагавшему Никите Ивановичу примкнуть к заговорщикам.
Если завел Иван Иванович такой разговор, значит, чувствует за собой силу и есть у него единомышленники.
– В один критический час того нельзя без мятежа и бедственных последствий переменить, что двадцать лет всеми клятвами утверждено.
Если бы сама Елизавета могла решиться на такую перемену, это не вызвало бы больших осложнений. Елизавета ненавидела племянника, видела всю его подлую измену, знала, что и великая княгиня не очень‑то горит желанием поднять Российскую империю, видела ее поклонение Фридриху, но со дня на день все откладывала решение. Свои выстраданные решения обдумывала она подолгу и одна, в тайне даже от своих доверенных Шуваловых. Но тяжелый приступ прервал ее размышления. 17 ноября 1761 года случился с нею такой приступ, от которого Елизавета не могла оправиться несколько недель. Едва почувствовав себя лучше, вызвала к своей постели министров. Ничего утешительного не могли они ей сказать – Фридрих все еще продолжал сопротивляться, хотя и из самых последних сил, а Бутурлин делал глупость за глупостью. Денег в казне по–прежнему не было, нищета в стране росла.
Елизавета отложила все дела, чтобы предаться печальным размышлениям…
Никита Иванович рассуждал сам с собою о словах, сказанных ему Иваном Шуваловым. Если так говорит сам фаворит, значит, был уже сговор между всеми Шуваловыми, а сторонников их сейчас много – Шуваловы стоят у власти, вольны даже над жизнью и смертью императрицы, никого не пускают к ней. Сам Никита Иванович тщетно пытался увидеться с императрицей, доложить об успехах внука и заодно попросить, чтобы освободила его вроде бы от хорошего учителя, но тайного шпиона и осведомителя Шуваловых – Порошина. Недавно тайком увидал Никита Иванович тетрадку Порошина, куда тот заносил все разговоры и все происходящее с великим князем Павлом…
Любое слово, сказанное в детской, становилось известно Шуваловым, могли они в любую минуту воспользоваться ребенком–наследником, чтобы осуществить свой замысел. Как же надо держать настороже глаз и ухо, чтобы не пострадал Павел, чтобы не воспользовались его именем, чтобы не захватили власть негодные люди, а там, может быть, и лишили бы жизни Павла. Тревога за мальчика охватила Никиту Ивановича.
Что предпринять, что сделать, не допустить как, чтобы осуществился план Шуваловых. Значит, везде у них свои люди, везде свои шпионы, всюду протянули они свои щупальца.
В воскресенье, как всегда, приехала обедать с сыном Екатерина. Первую и вторую перемену блюд Никита Иванович ронял слово–два, отвечал на вопросы августейшей матери, хвалил Павла, особенные его успехи в эту неделю…
А когда Павел выскочил из‑за стола вместе с Сашей Куракиным, чтобы порадоваться новым игрушкам, привезенным матерью, Никита Иванович тихонько попросил великую княгиню посидеть еще.
Она была весела и беспечна. Знала, что скоро умрет нелюбимая свекровь, что той уже очень плохо – у нее тоже свои осведомители и шпионы среди челяди. Значит, впереди – корона императрицы, впереди – царство, хоть и рядом с придурком–мужем, да все корона…
– Ваше высочество, – долго мялся Никита Иванович, опасаясь впрямую начать разговор о словах Шувалова, – поопаситесь, возьмите меры…
Екатерина нахмурилась, побледнела. Они говорили тихо, едва слышно, но и здесь, как во всем дворце, стены были тончайшими и прозрачными, приходилось таиться…
– Иван Иванович справлялся о здоровье наследника, – невинно начал Никита Иванович, слегка оглянувшись по сторонам. Нет, вроде не видно никого, а Порошина он еще раньше услал с поручением.
– Говорите, Никита Иванович, шепнула Екатерина, – много обяжете.
И Никита Иванович пересказал весь разговор с Иваном Шуваловым.
Она сидела, как пришибленная. Понимала, выручает ее Панин, хотя печется лишь о Павле…
Слово в слово передал ей разговор Никита Иванович. И Екатерина поняла, что опасность большая, что до трона далеко и высоко, а между нею, Петром и троном гнилые ступеньки – как бы не провалиться…
Она тоже сразу поняла, что Шуваловы строят заговор, что ищут себе место побезопаснее да поближе к трону, не хотят лишаться той власти, что у них есть.
– Спасибо, Никита Иванович, – улыбнулась Екатерина, – кормите превкусно, так и отъедаюсь на сыновних хлебах. А напишите‑ка, раскрыть надобно…
– В России говорят, что есть всего два проводника, – в свою очередь улыбнулся Никита Иванович, – язык, который до Киева доведет, да перо, которое в Шлиссельбург норовит…
Великая княгиня поняла его усмешку, поняла, что он ей помочь сейчас не может. Она должна действовать одна и сама. Петр тоже ничего не поймет, а поймет, так разболтает. И толку не будет, и все на виду окажется. Нет, здесь действовать надо быстро и тихо…
А донос на Шуваловых, что так неосторожно посоветовала она Панину, ничего не изменит – только возьмут на дыбу Панина, да еще и ее сюда привлекут, так что прав Никита Иванович. Спасибо еще, рассказал, мог бы и промолчать – Шуваловы к нему благоволят…
– Караул поставьте у дверей опочивальни наследника, – тихо проговорил Никита Иванович, – усильте еще караул у опочивальни императрицы, великому князю распишите все, что надо сделать, – он не договаривал, но Екатерина уже схватила на лету его мысль. Да, Петру нужна подробная инструкция, что делать в случае смерти Елизаветы.
– И пусть до конца будет, – тихо прибавил Панин…
Екатерина еще до конца не осознала, какую услугу оказывает ей Панин, воспитатель сына, но понимала, что только благодаря ему она и сама спасется, и Петра поставит на престол…
Все сделала, как советовал Панин. Петру такую подробную инструкцию составила, что ни в какой карман не влезала, и велела заучить и твердить, и все с улыбкой, весело, словно пустячную игру придумывала. Петр ничего не заподозрил, но с этого дня держал всегда перед глазами инструкцию Екатерины. Госпожа Подмога и тут оказалась дальновидной…
Инструкция была составлена по всем правилам:
«1. Представляется очень важным, чтобы Вы знали, Ваше Высочество, по возможности точно состояние императрицы, не полагаясь на чьи‑либо мнения, но вслушиваясь и сопоставляя факты, и чтобы, если Господь Бог возьмет к себе, вы бы присутствовали при этом событии.
2. Когда это (событие) будет признано совершившимся, как только получите известие, покиньте ея комнату, оставя в ней сановное лицо из русских, и притом умелое, чтобы сделать требуемыя в этом случае распоряжения.
3. С хладнокровием полководца и без малейшего замешательства и тени смущения вы пошлете за канцлером и другими членами конференции.
4. Вы позовете капитана гвардии, которого заставите присягнуть на Евангелии в верности вам (если форма присяги не установлена) по форме, которая употребляется в православной церкви.
5. Вы ему прикажете (в случае, если генерал–адъютант не может явиться или Вы не найдете удобным предлог оставить его у тела императрицы) пойти объявить дворцовой гвардии о смерти императрицы и о Вашем восшествии на престол Ваших предков по праву, которым Вы владеете от Бога и по природе Вашей, приказав им тут же идти в церковь принести присягу на верность.
6. Прикажете позвать дежурного, живущего при дворе священника, который вынесет крест и Евангелие, и по мере того, как солдаты будут приносить Вам присягу, Вы им по выходе будете давать целовать руку и вышлете им несколько мешков с несколькими тысячами рублей.
7. В то же распоряжение, которое получит капитан, должно быть Вами дано сержанту лейб–компании, и, кроме того, ему будет приказано прийти в покои со своими людьми без ружей; сержант не отойдет от Вас во все время исполнения им своих обязанностей, что не будет излишней предосторожностью по отношению к Вашей особе.
8. Вы пошлете оповестить гвардейские полки, чтобы они собрались вокруг дворца; дивизионный генерал получит приказ собрать свои полки, артиллерию, лейб–компанию и все, что есть войска, расположится вокруг дворца.
9. К этому времени соберется конференция, будет выработана форма объявления об этих событиях, причем Вы воспользуетесь той, что вынете из Вашего кармана и в которой очень убедительно изложены Ваши права.
10. Эти господа пойдут в церковь, первые принесут присягу и поцелуют Вам руку в знак подданства.
11. Вы поручите кому‑нибудь, если возможно, самому уважаемому лицу, например фельдмаршалу Трубецкому (имя фельдмаршала Трубецкого было приписано на полях записки позже), пойти возвестить войскам в установленной форме, которая должна быть краткой и сильной, о событии дня, после чего они все должны будут принести присягу в верности. Вы обойдете, если желаете, ряды для того, чтобы показаться.
12. Сенат, Синод и все высокопоставленные лица должны принести Вам присягу и целовать руку в этот же день.
13. После этого будут посланы курьеры и надлежащие в подобном случае извещения как внутри страны, так и за границу.
14. Утверждение каждого в его должности послужило бы ко всеобщему успокоению в эту минуту и расположило бы каждого в Вашу пользу.
15. Форма церковных молитв должна быть такова:
«О благочестивейшем самодержавнейшем великом государе, внуке Петра Первого, императоре Петре Федоровиче, самодержце всероссийском, и о супруге его, благоверной великой государыне Екатерине Алексеевне, и о благоверном государе цесаревиче Павле Петровиче»…
Петр легкомысленен и непостоянен, ему нужно руководство, чтобы спокойно взойти на престол. Спасая его, спасет и себя. Шуваловы должны быть обмануты маской спокойствия…
Но Шуваловых нельзя было застать врасплох. С самого начала болезни Елизаветы они мучительно искали подходы к Петру, искали и другие выходы из положения. Иван Иванович зачастил к великому князю, но тому все недосуг серьезно разговаривать с фаворитом – слишком увлекся он Елизаветой Воронцовой, некоторыми послаблениями в его отношениях с голштинцами, наслаждался почти полной свободой. Пирушки сменялись попойками, курение длинных вонючих трубок составляло теперь главную усладу его жизни. Нет, он не любил табака, но его любимые голштинцы дымили вовсю, и Петр подражал им, стараясь не отставать в грубости, непристойностях и попойках от голштинских капралов.
Никита Иванович видел, как тихо и деятельно подготовилась к могущему произойти перевороту Екатерина. Новые усиленные караулы гвардейцев из полка, которым командовал Григорий Орлов, появились у дверей и всех выходов на половине Павла, свои люди расставлены на всех выходах из дворца. Она жила в напряжении, готовая на все, лишь бы спасти корону для Петра и себя.
Но с Никитой Ивановичем она сделалась более откровенной, просила его советов, и Никита Иванович только ради Павла помогал ей. Елизавета вручила ему свою надежду, и он неукоснительно выполнял ее наказ. А Павел – это и его родители, благополучие наследника зависело от них. Он никогда не видел Петра в покоях сына. Единственный раз, еще полгода назад, забежал Петр на экзамен, устроенный Никитой Ивановичем, чтобы показать царственным родителям знания их отпрыска.
– Этот плут знает больше моего, – изумился Петр, когда Никита Иванович заставил Павла отвечать перед родителями на поставленные вопросы. И с той поры больше не навещал сына – некогда. Елизавета со времени своей болезни почти не поднималась с постели, не заходила на половину Павла, в покои императрицы его не пускали. Может быть, потому и сохранил Павел навсегда благоговейное отношение к своей бабушке, что не видел ее кумушек–сплетниц, карлиц, собачонок и фаворитов. Елизавета очень заботилась о том, чтобы внешние приметы благопристойности соблюдались при дворе…
Но теперь, когда ей уже не нужны были ни сплетницы, ни собачонки, ни шуты и шутихи, ни карлицы и калмычки, когда единственной ее прихотью еще оставались лишь ночи с фаворитом в присутствии верного Чулкова, она все чаще и чаще задумывалась о будущем своего наследства – о Российской империи, выжидала и размышляла, не зная, на что решиться. Шуваловы уговаривали ее отослать Петра или мать Павла, сделать будущее правление регентством, но она не решалась отнять ребенка у родителей, а родителей у ребенка, хотя не задумалась над этим восемь лет назад, когда взяла его в колыбели к себе и не показывала матери три месяца.








