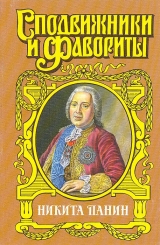
Текст книги "Граф Никита Панин"
Автор книги: Зинаида Чиркова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 34 страниц)
Александра Сергеевича Строганова Панин не видел еще с той поры, как на парадном обеде в честь заключения мира с Фридрихом Петр повелел арестовать графа за то, что тот пытался развеселить Екатерину после знаменитой «дуры», брошенной императором прямо при всех пяти классах высшего дворянства. Тот в качестве камер–юнкера стоял за ее стулом. Едва Екатерина услышала это оскорбительное «дура!», в сердцах выкрикнутое Петром, она быстро обратилась к Строганову:
– Александр Сергеевич, развеселите меня, иначе я буду плакать…
Строганов наклонился к ней и принялся рассказывать какой‑то пустяшный анекдот. Екатерина заулыбалась.
– Арестовать, – заревел Петр.
Принц Голштинский, Георг, назначенный фельдмаршалом, уговорил Петра не арестовывать Екатерину, буде это произведет неприятное впечатление, и Петр ограничился арестом Строганова. С воцарением Екатерины Александр был выпущен из крепости и занял достойное положение при дворе. Впрочем, он не был докучен и властолюбив, относился ко двору довольно прохладно и занимался науками и коллекцией картин…
Теперь он стоял на самом верху парадной лестницы, застеленной красным ковром, и принимал гостей – был день именин его жены, Анны Строгановой.
Никита Иванович бросил шубу на руки верного Федота и еще раз взглянул наверх, прежде чем подняться.
Александр Сергеевич стоял рядом с женой, и никогда еще противоположность их так не бросалась в глаза, как теперь. Анна была красива как никогда. Высокая, тоненькая, статная, затянутая в рюмочку, в огромных фижмах, она украшала собою драгоценное платье. Голубое с серебряным узором, оно мягко подчеркивало точеную гордую шею, высоко поднятую голову с короной пышных золотых волос. Она была сама королева, повелительница, и ослепленный Никита Иванович все медлил подниматься к этой властной, надменной королеве…
Строганов был нехорош собой, нижняя губа его далеко оттопыривалась, «свисала до колен», как смеялся он сам, уши, чуть прикрытые париком, тоже оттопыривались, а нос картошкой грузно восседал на молодом еще, но уже постаревшем лице.
Одет он был попроще – никогда не обращал внимания на наряды, но все регалии нацепил на камзол. Екатерина не скупилась на награды и отличия для младшего Строганова – наследника гигантской империи Строгановых, несметных богачей и первых владельцев многих заводов и фабрик. Строганов сам смеялся над своей внешностью, но в душе страдал – Анна Воронцова невзлюбила его до отвращения с первой же брачной ночи и запретила приходить в свою спальню…
Но ума наследному принцу Строгановых было не занимать. Он получил блестящее домашнее воспитание, а в девятнадцать отец отправил его за границу. Вот уж где можно было разгуляться – денег у него колоссальное количество, свободой он пользовался неограниченной. Но странно, что при блестящих знакомствах, при обширном и самом знатном окружении Строганов–младший не позволял себе жить горячо и широко. Как будто некий долг заставлял его по крупицам собирать знания – он изучал химию, механику, металлургию – все то, что могло ему пригодиться, когда он получил бы в наследство всю индустрию отца. Фабрики и заводы Европы видели его у себя в цехах, знаменитые профессора почасту наблюдали его внимательно слушающим их лекции. Послы России представляли его самым блистательным царствующим домам Европы. Даже Папа Римский Бенедикт XVI пригласил к себе юношу, чтобы увидеть человека из богатейших русских, который столь прилежно занимается науками – сам Папа сделал многое для развития наук.
Но младший Строганов увлекался не только науками. Ему было всего двадцать два года, когда он положил начало знаменитой коллекции картин – тогда он купил первое полотно великого Корреджо и увез в Россию. После первой покупки на родину шли уже многие ящики с упакованными картинами, скульптурами, камеями. В своем дворце на Мойке, который построил для отца Строганова еще Растрелли, прямо напротив Летнего императорского дворца, Александр Сергеевич и разместил свою обширную коллекцию.
Анну он называл самым великолепным экспонатом своей коллекции. Она действительно была хороша настолько, что затмевала все когда‑либо приобретенное им. Однако надеяться на любовь в браке теперь он уже и не мечтал…
Елизавета приказала ему жениться на Анне, дочери великого канцлера Воронцова, и думала, что сделает счастье обоих. Но ни богатство Строганова, ни обширные знания, ни ум, от природы острый, ни великолепный вкус – все это не расположило к нему гордую красавицу. И теперь она хлопотала о разводе…
Муж и жена – они оказались в противоположных лагерях. Строганов боготворил Екатерину, всячески помогал ей в перевороте, Анна же была ярой приверженкой Петра. И прежде всего потому, что Петр обещал развести ее с мужем и выбрать нового. До конца своих дней не забывала она этого благодетельного обещания, и встречи мужа с женой стали редки и необязательны. Они и встречались только на таких вот парадных и торжественных обедах, как сегодняшний.
В другие дни Строганов проводил время в обществе Левицкого, Щукина и других художников, а Державин читал ему свои первые строки. Но главным его сотоварищем был Андрей Воронихин. Странно, как могли сдружиться эти двое – Андрей был крепостным Строгановых, родился в пермской деревне, но благодаря случайному стечению обстоятельств познакомился с Александром Сергеевичем. Тот дал ему прекрасное образование, возможность закончить Академию художеств, путешествовать за границу. Но главное, Строганов давал возможность Воронихину строить – и здания крепостного архитектора возвышались в Петергофе, Павловске, Петербурге…
Александр относился к жене по–рыцарски, не стеснял ее интимной жизни, и хотя ее многочисленные романы оставляли у него горький осадок, он тем не менее позволял ей жить свободно.
Сейчас они стояли рядом на самом верху длинной парадной лестницы и принимали. Внизу, в роскошном вестибюле, толпилось несметное количество гостей. Все они поднимались по лестнице с подарками в руках, приветствовали богатейшую в России чету и здоровались с канцлером Воронцовым и его женой, стоявшими по обе стороны супружеской пары.
Никита Иванович еще раз взглянул на свой «хлеб–соль» – так назывались тогда подарки по случаю какого‑нибудь торжества. В резной низкой шкатулке на черном бархате покоилось ожерелье – тщательно отполированные камни бирюзы напоминали о небе, а золотая сеть вокруг была словно сплетена из солнечных лучей. Он так долго советовался с Позье – придворным ювелиром – по поводу этих подвесков, что и сам не заметил, как тот подвел его к мысли сделать такое же ожерелье, какое было у Елизаветы Петровны. Теперь Никита Иванович знал – такое, да не такое, у Елизаветы оно было попроще. А здесь – самый большой камень, отливающий нежной голубизной, венчал внизу три ряда таких же овальных, но более мелких камней, оправа их окружалась венцом из маленьких бриллиантов, а золотая сеть, искусно и ажурно сплетенная, заключала все в блестящее сложное сооружение. В середине подушки лежали две такие же бирюзовые серьги…
Позье запросил за свое изделие громадные деньги – пришлось влезть в долги – Никита Иванович никогда не был богат. Он надеялся поразить Анну Строганову своим «хлебом–солью». Красавица уже запала в его душу, и Панин почти постоянно думал о ней…
Медленно и степенно поднялся по лестнице Никита Иванович. Он все еще был хорош собой и знал это. Высокий, статный, осанистый, как говорили про него, сановитый, как добавляли другие, в меру плотный, одетый в богатый, залитый золотом камзол, он, однако, не надел орденов и регалий – был частный обед, и этикет не требовал соблюдения всех правил. Овальное, почти круглое лицо хорошо подчеркивал белоснежный, в три локона тщательно завитый парик.
Он поднялся и спокойно поздравил саму именинницу, потом ее мужа и родителей…
Она приняла его подарок с царственной непосредственностью и хотела было передать мужу, но Александр Сергеевич деликатно заметил:
– Посмотри, Анна…
Она открыла шкатулку – бирюзовые камни словно осветили ее лицо.
– Боже, как хороши камни, – не удержался Строганов, – Никита Иванович, – он лукаво взглянул на Панина, – неужели и вы решили записаться в число поклонников моей жены?
– Но почему две серьги? – сразу же возразила Анна. Она ни единого слова Строганова не пропускала, чтобы не возразить ему.
– Так носили наши бабушки и матушки, – слегка поклонился Панин.
– Да уж теперь мода не та, что прежде была, – слегка дернула хорошенькой головкой Анна, – теперь носят все одну серьгу…
– Неплохо было бы и поблагодарить Никиту Ивановича за честь и драгоценный подарок, – нашелся Строганов.
– Ой, простите, Никита Иванович, что это я, – сконфузилась Анна. – Покорнейше вас благодарю за столь дивный «хлеб–соль»…
Никита Иванович поцеловал ей руку и в смущении отошел. Этот бриллиант требует прекрасной оправы, думал он, в оправе плохой он и не сияет, и лучей от него немного…
Словно бы извиняясь за сделанную ею ошибку, Анна Строганова позволила, в нарушение всего ранее расписанного этикета, вести ее к столу Никите Ивановичу, усадила рядом с собою. Он чувствовал неловкость и смущение, его плечо почти касалось ее плеча, и влюбленного бросало то в жар, то в холод. Эта женщина словно околдовала его. Но это и неудивительно, такая красавица, она все больше напоминала ему Елизавету царственностью осанки, гордой посадкой головы, а когда Панин вспоминал, как она танцевала, какую гибкость и грацию обнаружило ее тело, он и вовсе готов был прослезиться, что сидит рядом.
Слегка повернувшись к нему, Анна спросила:
– Как продвигается мое дело?
– Боюсь, что слишком медленно, – ответил Никита Иванович, – святейший Синод строжайше против…
– Покойный император мог решить это в несколько дней, – с горечью сказала Анна.
Никите Ивановичу хотелось возразить: за то и поплатился короной, но он ничего не ответил, только пожал плечами.
– Но вы предпримете усилия? – опять спросила Анна.
– Всенепременно, – тихонько ответил он.
Он так хотел выполнить просьбу Анны! Но Екатерина только презрительно оттопырила губу, когда он доложил ей о желании Строгановой.
– Александр Сергеевич – добрый хороший человек, – сказала она, – или госпожа Строганова надеется, что вернутся прежние времена, когда император хотел всех разженить да вновь поженить?
Она знала, что Анна слыла защитницей и поклонницей Петра III и критиковала все ее нововведения. Но, пока она не мешала ей, Екатерина не преследовала Анну, родовитую и обладающую большим влиянием в свете. Царица только попеняла отцу, канцлеру Воронцову, что плохо воспитал дочь, если та хочет развестись с Богом данным мужем.
Александр Сергеевич был за столом весел и разговорчив. Он шутил и рассказывал истории, весело смеялся, был радостен и счастлив…
– Мой шут опять разыгрался, – сердито заметила Анна.
– Императрица считает его добрым и хорошим человеком, – сказал Никита Иванович.
– Императрица, – Анна сказала это так презрительно, что Никита Иванович понял – никогда в ней не исчезнет ненависть к принцессе Цербтской.
– Не продолжайте, – прервал он ее, – не стоит за омарами и токайским обсуждать достоинства и недостатки отдельных персон.
Анна поняла намек.
– Надеюсь, до этого не дойдет, – словно ответила она на тайные мысли Панина, – докатится до ушей Екатерины, и я пропала…
– Мне ведь и обратиться не к кому, – с горечью произнесла Анна тихонько, она тоже боялась, что ее слова будут услышаны кем‑нибудь за столом. Но все были заняты отменной едой, возглашаемыми здравицами и никому до них не было дела.
– Но отец – канцлер, всесильный человек, – возразил Никита Иванович.
– Он и слышать не хочет, – ответила Анна, – да и что я могу привести в довод – только то, что противен он мне? Так ведь и он насильно был венчан – приказала матушка Елизавета, вот и женился. А меня кто спросил – отец на седьмом небе был, что дочка за такого богача пойдет, мать тоже радовалась.
– Существует же обряд, церковь венчает, ваше «нет» под венцом, и брак не состоялся бы, – возразил Никита Иванович.
Она расхохоталась.
– Из двух зол выбирают меньшее, – сказала она, – Сибирь, каторга или венец. А не то язык урезали бы да кнутом еще исполосовали…
Никита Иванович согласно кивнул головой. Да, в обычае было – не спрашивать воли девицы, не обращать внимания и на возражения жениха. Хочешь не хочешь – женись… Суровы дедовские законы, мрачен и нынешний домострой.
– А вы почему не женились? – полюбопытствовала Анна. – Али суженую не встретили?
Как ответить ей на это? Действительно, встретил суженую, да не мог жениться – слишком высоко стояла, тосковал по ней столько лет, и перед ее смертью с ней свиделся. А теперь – тоже нет женщины, к которой бы прикипело сердце. И чуть было не сказал ей, что запала Анна в его душу, да решил, что не стоит – играть его страстями нельзя давать повод никому.
– Вот за вас я бы пошла, – пошутила Анна. – Вы – человек положительный, не то, что мой шут…
– Шутите, да не зашучивайтесь, – засмеялся Никита Иванович. А у самого больно екнуло сердце. И тотчас одернул себя – сладка Маша, да не наша…
– Почему вы, Никита Иванович, почти никогда ко мне не заходите? – вдруг спросила Анна. – Даже с визитом. Ко мне многие ездят, у меня и ход отдельный, и Строганов никогда на моей половине не появляется…
– Не хочу пополнять собою стадо баранов, – отшутился Панин, – и как бы госпожа Строганова не подумала, что ухаживать за ней начну.
Да я госпожа Строганова только по несчастью, – снова посерьезнела Анна. – А что до стада баранов, это вы правы, только и есть, что флирт да разговоры о любви, а серьезным словом и перекинуться не с кем…
– Считаете, подхожу для этой роли – серьезные разговоры вести?
– Комплименты не делаете, подарки прекрасные носите, ничего о себе не говорите – загадочный человек, а говорят, всей политикой заправляете…
– Политикой всей у нас государыня матушка занимается, я так, на подхвате, – отшутился Панин, – да вам серьезные разговоры, я полагаю, ни к чему вести…
Она посмотрела на него, повернувшись так, что лица их оказались почти вровень. Взглянула так, что у него перехватило дыхание и он замер. Еще секунда и впился бы губами в этот чувственный рот, зацеловал…
Но он пришел в себя.
Анна отвернулась, и больше взгляда ее он не видел. Сидел, охваченный пламенным желанием, нагнув голову к тарелке. Вкусная еда отвлекла его, и они больше не разговаривали…
Опустив голову, уткнувшись в свою тарелку, Никита Иванович все думал о ее словах – спроста, шутя или серьезно высказала она это. Так бы сидел и сидел около нее, даже ни словом не обмолвившись, хорошо, грустно, отрадно. Но краем глаза увидел, как в боковую дверь вошел гонец–курьер в армейской походной форме, подлетел к нему лакей в белых перчатках и сразу почтительно подвел к Панину.
Курьер подал пакет, густо усеянный сургучными печатями. Никита Иванович сломал печати, прочел и тут же встал:
– Прошу прощения, всепокорнейше прошу простить, – повернулся ко всему длинному столу, отыскал глазами канцлера, поклонился слегка, – честь имею кланяться…
И быстрыми шагами вышел в дверь. Анна с недоумением поглядела ему в спину и занялась шейкой омара…
Никита Иванович вернулся во дворец и внимательно еще раз ознакомился с депешей, присланной комендантом Шлиссельбургской крепости Бередниковым. Случилась «шлиссельбургская нелепа» и до того оказалась невероятна, что Никита Иванович и поверить не мог, чтобы бунт по освобождению Иоанна Антоновича мог затеять лишь один человек.
«Секретная миссия» по наблюдению за узником крепости поступила в главное заведование Никиты Ивановича сразу после переворота. Приставами, жившими в одном каземате с принцем Брауншвейгским и бывшим императором, коронованным в двухмесячном возрасте, назначены были капитан Власьев и поручик Чекин. Каждую неделю читал Никита Иванович их донесения о здоровье узника, о его особых прихотях и поведении. До сих пор ничего интересного в этих донесениях не было. Неизменно содержали они одно и то же – безымянный колодник жив и здоров, а прочего ничего за ним не наблюдается.
Екатерина подтвердила указ, данный еще Петром III, – живого в руки никому не отдавать.
Инструкция эта, подписанная Паниным, гласила:
«Ежели паче чаяния случится, чтоб кто пришел с командою или один, хотя б то был комендант или иной какой офицер, без именного собственноручным ея императорского величества подписанием повеления или без письменного от меня приказа, и захотел арестанта у вас взять, то оного никому не отдавать и почитать все то за подлог или неприятельскую руку. Буде же так сильна будет рукам, что опастись не можно, то арестанта умертвить, а живого в руки никому не отдавать. В случае же возможности, из насильствующих же стараться ежели не всех; то хотя некоторых захватить и держать под крепким караулом и о том репортовать ко мне немедленно через курьера скоропостижного».
Власьев и Чекин точно выполнили инструкцию. Они убили Иоанна Антоновича, когда увидели, что никакой возможности «опастись» нет…
Капитан и поручик сами были узниками – они не могли выходить из крепости, не могли ни о чем разговаривать ни с кем, питались вместе с Иоанном Антоновичем, и смертельно опротивела им их служба. Не раз и не два просились они помилосердствовать и заменить их, на что Панин неизменно отвечал: «Я не сумневаюся, что вы, находясь в вашем месте, претерпеваете долговременную трудность от положенного на вас дела, однако ж памятую и на то, что вам обещано скоро окончание вашей комиссии. Извольте взять еще некоторое терпение и будьте благонадежны, что ваша служба тем больше забыта не будет, а притом уверяю вас, что ваша комиссия для вас скоро кончится и вы без воздаяния не останетеся. Всегда ваш доброжелательный слуга Н. Панин».
Некто поручик Мирович решился на предприятие, которое должно было освободить Иоанна Антоновича и поставить его царем всея России.
Комендант крепости кратко отзывался, что поручик Мирович не только поставил под ружье всю команду солдат, но и притащил пушку для огня по караульным. Но предприятие кончилось для него неожиданно – уже ворвавшись в казарму, вместо живого императора он нашел мертвое тело.
Комендант Бередников, ранее арестованный Мировичем, сумел освободиться из‑под стражи и затем в свою очередь арестовал Мировича и посадил под караул, где тот сейчас и содержится…
Панин немедленно сделал необходимые распоряжения, командировал подполковника Кашкина в Шлиссельбург, чтобы составить протокол обо всем случившемся, приказал похоронить «мертвое тело» и послал императрице в Ригу доклад.
В депеше коменданту Бередникову Никита Иванович писал:
«Мертвое тело безумного арестанта, по поводу которого произошло возмущение, имеете вы сего же числа в ночь с городским священником в крепости вашей предать земле в церкви или в другом каком месте, где бы не было солнечного зноя и теплоты, нести же его в самой тишине нескольким из тех солдат, которые были у него на карауле, дабы, как оставляемое пред глазами простых и в движения приведенных людей тело так и с излишними обрядами перед ними погребение одного не могло их вновь встревожить и подвергнуть каким‑либо злоключениям».
Приказание о погребении Иоанна Антоновича могло исходить только от Екатерины, и Никита Иванович дождался его, этого приказания. Она написала Панину: «Тело безымянного колодника велите похоронить по христианской должности в Шлиссельбурге без огласки».
Никита Иванович сразу верно понял «важность злодейства предпринятого и благополучно, Божиим чудным промыслом, на веки тем же самым пресеченного». Екатерина требовала подробностей, и Никита Иванович писал в Ригу:
«Ваше императорское величество просвещенным вашим проницанием сами усмотреть соизволите, что нет в сем предприятии пространного заговора, а дело произведено было отчаянною ухваткою», а найденные у Мировича бумаги лишь подтверждают: «Его сочинения вирши аллегорические довольно доказывают, что сия измена его одним фантастическим безумием затеяна».
Екатерина еще никогда не испытывала прилива таких чувств, такого нервного потрясения. Радость об исчезновении последнего претендента на царский престол, страх, надежда, что нет «обширного плана» у изменников – все смешалось в эти дни для нее. И письма Панина успокаивали ее. Правда, осталось непонятное недоумение о княгине Дашковой – кто‑то видел, как Мирович выходил из ее дома. Позже она призвала Дашкову к ответу, но та спокойно объяснила, что Мирович приходил не к ней, а к Панину, квартировавшему у нее. И Никита Иванович тоже подтвердил, что Мирович за несколько месяцев до бунта был у него – он все подавал в Сенат прошения о восстановлении своего доброго имени и о возвращении ему имений в Малороссии, откуда были выходцами его дед и отец. Но отец и дед были изменниками России – они перебежали к Мазепе во времена Полтавской битвы, и казна отобрала у изменников все их имения. Вспомнила Екатерина и свою резолюцию на этом прошении – отказать, изменническим детям и внукам не возвращать ничего.
«Провидение оказало мне очевидный знак своей милости, – писала она из Риги Никите Ивановичу, – придав такой оборот этому предприятию».
Однако спокойствию ее пришел конец, когда прочитала она бумаги Мировича. Манифест, составленный им и. его преждевременно утонувшим сотоварищем Ушаковым, гласил:
«Недолго владел престолом Петр Третий, и тот от пронырства и от руки жены своей опоен ядом смертным, по нем же не иным чем как силою обладала наследным моим престолом самолюбная расточительница Екатерина, которая на день восшествия из Отечества нашего выслала на кораблях к родному брату своему к римскому генерал–фельдмаршалу Фредерику Августу всего на двадцать на пять миллионов денег золота и серебра и не в деле и сверх того она чрез свои природные слабости хотела взять себе в мужья Григория Орлова с тем, чтоб уже из злонамеренного и вредного отечеству ее похода и не возвратиться, за что конечно пред Божиим страшным судом не оправдается»…
Эти преступные разоблачения, даже будучи клеветой, способны посеять в народе и недоверие к императрице, и неуважение к женщине. И она потребовала от Панина пресечь зло в самом зародыше, уничтожить яд разговоров. Однако хоть и слышали в Петербурге о шлиссельбургской «нелепе», но разговоров особых, как докладывал ему генерал–губернатор столицы Неплюев, не велось. Екатерина справедливо полагала, что молва народная лишь концом этого дела пресечется и потому потребовала быстрого, незамедлительного следствия и скорого дела окончания.
По совету Панина произвести следствие приглашен был генерал–поручик Ганс фон Веймарн. С немецкой дотошностью собрал он все материалы дела и представил императрице.
Дело длилось недолго. Верховный суд трижды призывал Мировича, тот подтвердил все свои прежние показания и ничего нового не прибавил. Вел он себя достойно и спокойно, только когда надели на него оковы, заплакал. Хотело было собрание высокое начать его пытать, но Екатерина через Вяземского, генерал–прокурора, запретила.
Приговор гласил:
«Отсечь ему, Мировичу, голову и, оставя тело его до вечера, сжечь оное вместе с эшафотом, на котором та смертная казнь учинена будет».
Все участвовавшие в бунте Мировича были покараны: несколько солдат и офицеров были приговорены к наказанию шпицрутенами и ссылке в каторжные работы, а солдаты из шлиссельбургского гарнизона разосланы по дальним командам.
Приговор был приведен в исполнение поздней осенью. Мировича казнили, а потом сожгли на Петербургском острове, на Обжорном рынке. Барабанным боем, как и в Москве, созваны были жители на смотрение казни. И как и в Москве, ожидали все, что казнь будет для виду – сделают политическую казнь, как и Гурьеву с Хрущевым.
Но палач сделал свое дело точно – он показал отрубленную голову народу, и народ ахнул. Мост напротив Обжорного рынка содрогнулся, и перила обвалились…
Впервые за четверть века отрубали голову преступнику и показывали народу. Смертная казнь в России была восстановлена. И долго еще толковал народ, что со времен матушки Елизаветы не было на России такого кровавого действия. И многие призадумались…
Сначала в манифесте Екатерина упомянула о Власьеве и Чекине, которым велено было соблюдать и призирать Ивана, они же и пресекли жизнь его. И только потом она спохватилась, и в дальнейшем о них уже нигде не упоминалось. Их наградили щедро и отпустили по домам с подпискою, чтоб нигде до самой смерти ничего не упоминали об арестанте.
Хоть и поднялась волна злословия в Европе на счет Екатерины, да было уже поздно – твердой ногой встала она на престоле, дважды покрыв своей порфирой цареубийц…
Кто упомянул при Павле известие о казни Мировича, Никита Иванович так и не дознался. Но, прочитав записки учителя математики Семена Порошина, случайно найденные, понял, как старается Порошин очернить мать Павла, рассказывает о Петре только хорошие вещи, например, что тот уничтожил Тайную канцелярию, которая занималась пытками. И он же допустил рассказать воспитаннику о казни Мировича, стараясь сопоставить эти два события. Никита Иванович не мог и думать, чтобы можно было воспитывать в Павле враждебность к матери–цари‑де. Порошин был уволен и выслан в дальний гарнизон.
Никита Иванович не примирился с тем, что Павел, его Павел, порученный Елизаветой, обобран, что у него, наследника по праву, мать отобрала корону. Но и восстанавливать сына против матери считал делом позорным и зазорным – значит, на то воля Божеская, думал он и все ждал, когда же начнет приобщать сына к государственным делам Екатерина.
Она и в самом деле вроде бы стала внимательнее к сыну, часто навещала его, интересовалась успехами в учебе. Но царица не была настоящей матерью – не любила Павла, и он был нужен ей только как опора трона, наследник. Никита Иванович вполне привязался к брошенному и одинокому ребенку, и Екатерина часто досадовала: «Можно подумать, что наследник больше ему сын, чем мне…»
А Панин мечтал о тех временах, когда сядет на престоле Павел: честный, правдивый, тонкий политик, восставит правильные хорошие законы и будет готов жизнь свою положить за отечество. И по мере сил старался готовить его к этой тяжелой доле и ответственной роли.








