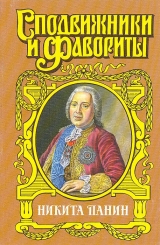
Текст книги "Граф Никита Панин"
Автор книги: Зинаида Чиркова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 34 страниц)
К свадьбе начали готовиться задолго. Аннушка, словно настоящая мать Маши, хлопотала с приданым. Какое оно должно быть, она не знала, и единственной ее советчицей оказалась Палашка.
– Ты, Анна Родионовна, не сомневайся, – говорила она, – наши старые крестьянки знают все, что надо, у них и столкуемся…
Петр Иванович только отмахивался в ответ на все вопросы, из головы у него все не выходили мысли о свершившемся в Петербурге перевороте.
Как же так, думал он, какие права у Екатерины, ангальт–цербтской принцессы, на русский престол? Это же настоящее беззаконие, чтобы трон русских царей заняла немка по происхождению, не имеющая никаких корней в стране, никакой родни, кроме мужа, которого она же и свергла? Он кипел возмущением, думал о том, как мог позволить Никита Иванович, его родной брат, так обделить своего воспитанника, Павла, имеющего все права на корону, как мог он оставить дело без последствий? И горел и возмущался…
Вдали от маяка светлее, чем вблизи… И так и эдак рассматривал Петр Иванович совершившийся переворот, и открытое возмущение сменялось в нем ощущением несправедливости, нелепости, ненужности происшедшего.
Но тут его прерывали Аннушка и Маша, все спрашивающие Петра Ивановича о насущных нуждах, о делах, более близких их сердцу. Он отрывался от своих дум, но, ложась спать, все размышлял и строил планы. Он знал, что брат осторожен и справедлив, честен и неподкупен, и понимал, что не зависело от него ничего. Знал он давно и о фаворе Орлова, знал, какое влияние они имели в гвардейских полках, и горел ненавистью к проклятым забиякам, посадившим Екатерину в русские царицы. «И весь‑то наш век какой‑то бабский, – с горечью думал он, – то лифляндская прачка уселась на исконно русский престол, Екатерина Первая, любовница Меншикова. Знать, и тут не обошлось без преступления. Ходили же тогда слухи при дворе, что нашли Петра мертвым с какой‑то зажатой в руке бумажкой. Постарался Меншиков, чтобы не оставил царь наследство свое кому‑либо из старинных родов русских бояр».
То сами же бояре посадили себе на голову Анну Иоанновну, одну из дочерей слабоумного брата Петра, Ивана, громадную бабищу, толком ничего не понимающую в управлении государством, и она отдала власть в руки немецкому конюху Бирону. То взошла на правление Анна Леопольдовна, венчав в двухмесячном возрасте своего сына, десятую воду на киселе от родни Петровой.
Ладно хоть Елизавета была плоть от плоти Петровой, да и то сказать – незаконнорожденная. Что ж так не везет России, отвернулся Бог от нее, наказывает русских людей такими царями да государями? А теперь вот и вовсе немецкая принцесса…
Мрачные мысли одолевали Петра Ивановича, он рвался быстрее в столицу, поговорить с братом, узнать его мысли, узнать о всех подробностях.
Но подготовка к свадьбе, да и дела в Везовне все оттягивали и оттягивали отъезд.
А в Везовне все было настолько худо, что Петр Иванович пришел к девушкам с просьбой, не одолжат ли Василия для управления и его деревней. Вора–управителя он прогнал, но заменить его некем, а приглашать кого‑то пришлого не хотелось: человек должен знать и нужды, и просьбишки крестьян, не жать их больно, а давать и послабление, и передышку, но и господские дела держать в исправности. Он давно уже присматривался к Василию и завидовал его хваткой домовитости, хозяйской сметке и совестливости…
Маша ничего не сказала в ответ на просьбу, а Анна рассудила, что решать то самому Василию – он человек вольный, что захочет, то и будет.
Петр Иванович призвал Василия, изложил ему свою просьбу и теперь ждал ответа.
Василий долго мял в руках шапку, снятую перед господином, – не привык еще разговаривать на равных, а потом, вздохнув, сказал:
– Можно бы и на две деревни, да только помощники нужны, а в грамотишке крестьяне бессильны…
Анна нахмурилась.
– Что, во всей деревне нет грамотных? – спросила она.
– Да ведь откуда? – удивился Василий ее наивности. – В приходском доме у попа дети крестьянские учатся только Закону Божию, а грамотой и сам поп владеет плохо…
Анна изумилась и встревожилась.
– Да и зачем крестьянину грамота, – рассудительно заметил Василий, – разве что счет нужен, так и ему в семьях научают…
– Василий, – волнуясь, заговорила Анна, – мы же знаем грамоту, нас обучали всему, что есть первого в мире. Знания наши втуне пропадают. Что, если бы я, к примеру, решилась детей крестьянских научить да тебе в помощники определить?
Петр Иванович с удивлением глянул на Анну. Как может решиться она, эта светская молодая женщина, фрейлина двора, хоть и отставленная от своей должности по смерти Елизаветы, думать о том, чтобы похоронить себя в этой деревенской глуши да учить сопливых крестьянских ребятишек, только и годных на то, чтобы в рекруты идти да сеять, пахать?
– Есть же дети способные, русский человек вообще очень талантлив в учебе, – волнуясь, говорила Анна, – вы только Ломоносова вспомните, из какой глухой деревни в столицу пешком пришел да теперь в Академии заседает, ученым стал…
Маша во все глаза глядела на сестру.
И потом, все в таком же волнении продолжала Анна, мы дети не простые, богородицыны. Все‑то нам удается легко, а что мы сами сделали, чем Богородице–Заступнице отплачиваем? Только тем, что живем да пользуемся?
Петр Иванович вмешался в ее страстную речь.
– Да ведь рискуете в вековухах остаться, – медленно сказал он, – простите, что грубо так, по–воинскому говорю. Рядом на сто верст ни одного приличного жениха, – он покраснел и смешался.
Анна посмотрела на него с уважением. Так мог сказать лишь родной отец, и она благодарна ему за совет и помощь в таком трудном деле.
– Что ж, Петр Иванович, – раздумчиво ответила она, – какая мне судьба выпадет, та и хороша, не мне спорить с нею. Да и замуж могла бы я выйти только за одного человека, а его‑то и нет рядом, ни за сто верст.
Маша ахнула в душе – как, все еще помнит она свою детскую влюбленность, все еще помнит Захара Чернышова, что так запал ей в душу почти десять лет назад? И где он, и что он, она и понятия не имеет, а хранит ему верность, словно обручена с ним. А он даже и знать не знает об этом, да и обстоятельства, может, уже давно его связали с другой.
Она хотела высказать все это Анне, но не решилась в присутствии Василия и Петра Ивановича.
– Твердо ли вы решились, Анна Родионовна? – только и спросил Петр Иванович. – Смотрите, судьбу свою сами решаете, на что идете, и сами еще не представляете…
Анна кивнула.
– Только вот помощи и у вас попрошу, Петр Иванович, – заговорила она уже сухо и деловито. – И тебя, Василий, прошу, помогите обустроить школу крестьянскую, чтобы и тепла, и просторна, и столы какие–никакие.
Удивительное решение Анны поселило в душе Петра Ивановича теплое чувство. Конечно же, надо помочь этой удивительной девушке, решившей посвятить свою жизнь благородному, но такому неблагодарному делу – учить крестьянских детей грамоте, выводить их в люди.
Вот так, вчетвером, решили они построить школу в Перове. Заодно и дети из Везовни могут посещать ее, тут недалеко, всего каких‑нибудь четыре версты, что стоит крестьянским ребятишкам, привыкшим к ходьбе, одолеть эти несколько верст.
На другой же день Василий с Петром Ивановичем отправились осматривать лес, чтобы выбрать наиболее крепкие деревья и срубить из них остов для школы. А Анна, не теряя времени, принялась обходить деревню и спрашивать, есть ли желающие научиться грамоте в будущей школе, а пока что в классе, устроенном в господском доме.
Но она не ожидала, какой великий плач поднимется в деревне.
Матери бухались ей в ноги, плача и стеная, умоляя оставить детей в покое. Это было неудивительно, уже с семи–восьми лет крестьянские дети начинали помогать семье пахать и сеять, возить дрова, заготовлять на зиму сушняк, грибы и прочие дары леса. А девочки с четырех–пяти лет садились за прялку, чтобы готовить всей семье одежду.
С ужасом рассказала Анна Петру Ивановичу, что крестьянские дети не хотят учиться, что их задавленность работой не позволяет даже мечтать о том, чтобы научиться грамоте. Как наши отцы жили, так и мы жить будем, плакали женщины, валяясь у Анны в ногах. Она совершенно растерялась. Ее благое начинание оказывалось никому не нужным…
Потерялся перед этим и Петр Иванович. Он хотел было действовать нажимом, как человек военный и привыкший к послушанию и дисциплине в войсках, но вставила свое слово и Маша.
– Школа отнимет у крестьянских детей только досуг, время для игр и отдыха. Надо объяснить темным крестьянкам и их угрюмым мужьям, что грамота и школа помогут им не только разбираться в конторском деле, а дадут и знания.
– Вот ты и объясни, – сказала Анна, – а у меня что‑то не получается…
Долго думала и Маша, как подойти к крестьянам. Она не знала их нужд и забот, не могла даже и помыслить, что все они заняты только одним – как прокормиться, как вырастить детей, а уж об образовании никто и не думал. Крепостные, они понимали, что волен господин над их жизнью и смертью, но дети были их смыслом жизни, и они страшились всего нового…
Маша пошла по деревенским избам. И только тут воочию увидела, в какой нищете и убожестве живет их люд, который кормит и одевает господ, несет на себе непосильные тяготы рекрутчины и работы в поле.
Маша взяла с собой Палашку. Они заходили в избы, но вынуждены были выскакивать оттуда через самое короткое время – духота и вонь от сопрелых тряпок, закопченные стены топившихся по–черному изб вселяли в них безграничный ужас перед беспросветной жизнью холопов.
И все‑таки Палашке и Маше удалось уговорить с десяток женщин отпускать на занятия семерых девочек и мальчиков. Были они все из многодетных семей, и один–два рта могли приходить в школу.
Палашкины двое старших сыновей уже немного знали грамоту – Василий научил их читать, писать и считать, их‑то и определила Анна в свои помощники.
Занятия начались в комнате, отведенной под школу в господском доме. Нашлись под рукой перья, выструганные из хвостовых гусиных, а под тетрадки приспособили старые конторские книги, обнаруженные на чердаке.
Строительство школы между тем шло своим чередом. Выросли стены, сложенные из толстых дубовых бревен, накрылись крышей из тяжелых неструганых досок, а там и окна затянулись слюдяной бумагой – стекол в округе не было, слишком большой роскошью считались они в то время.
Так прошло все лето, в заботах и хлопотах. И Анна, и Маша отдавали все свое время учебе детей, отпуская их лишь на страду, на уборку хлебов и сенокос.
С осени Анна уже могла спокойно перебраться в школу и начать регулярные занятия. К этому времени приданое Маши было готово, и жених с невестой собрались в путь…
Девушки много плакали, расставаясь. Всю свою коротенькую еще жизнь они провели вместе, знали, как тяжело будет им в разлуке, сестры не могли и минуты прожить друг без друга, но Анна твердо решилась остаться в деревне. Долг, придуманный ею самой, поставила она делом жизни…
Возле возка, запряженного парой гнедых лошадок, собралось все население Перова. Многие женщины–крестьянки плакали, напутствуя Машу, по–бабьи подпирали подбородки, мужики сняли шапки и кланялись в пояс. А Маше подумалось, как плохо они знают свою родину и как отличается жизнь в провинции от столичной суеты. Как будто два народа, не похожие один на другой – и язык, и обычаи, и одежда, – все было другим, и неизвестно еще, что лучше или хуже. Одетые в темные армяки крестьяне, обувавшие лыковые лапти, не знавшие, чем прикрыть наготу многочисленных детей – кормили и поили своих господ, разряженных и усыпанных драгоценностями, едва сводя концы с концами. И эта несправедливость жизни потрясала ее, заставляла задумываться о вещах, более сложных, чем ее наряды, и она восхищалась Анной, сумевшей найти тот самый справедливый долг, что обязал ее служить этим людям, нищим и голодным, светить им хоть малой свечкой…
Они обнялись и в голос заплакали. У Петра Ивановича тоже навернулись слезы на глаза – он успел привязаться к обеим девушкам, хоть и любовался своей избранницей, но видел, как чисты и безгрешны помыслы обеих, какие благородные и прекрасные чувства они испытывают.
Но только сурово подтолкнул их словами:
– В путь пора, уж время к обеду, а мы все рыдаем…
Маша и Анна в последний раз обнялись, поцеловали ДРУГ друга, и возок тронулся. За ним ехала и другая подвода, битком набитая провизией и посудой…
Всю дорогу Маша то и дело смахивала слезинки с круглых раскрасневшихся щек. Толпа крестьян и Анна впереди все стояли перед мысленным взором, плачущие, махавшие руками вслед. Но она взглядывала на суровое, нахмуренное лицо Петра Ивановича и невольно одергивала себя – что ему до этих женских слез? Она немножко боялась и благоговела перед своим женихом, и не потому, что он был старше ее годами. Он казался ей самым умным и самым красивым.
Петр Иванович и в самом деле за лето выправился, боли больше не мучили его, а свежий деревенский воздух и неустанные заботы сестер и вовсе поставили на ноги. Высокий, сильный, мужественный, он заставлял сердце Маши биться сильнее и трепетнее, а ясные глаза, всегда обращенные к ней с лаской и приветливостью, почти пугали – за что мне такое счастье, думалось ей. И снова вздыхала, вспоминая Анну…
Со страхом думала она и о том, как сложится ее семейная жизнь, – вдруг за таким красивым лицом Петра Ивановича окажется не слишком благородная и честная натура – ей, прошедшей суровую школу придворной жизни, зналось о многом в семьях придворных.
Ей вспоминалось, как говорили придворные о семейной жизни любимца Петра Первого – черного арапа Ганнибала, взятого в плен младенцем и воспитанного при дворе. Ганнибал вырос и возмужал, и царь вознамерился создать ему прочные родовые связи в русском дворянстве. А для того сосватал ему девушку русскую – Евдокию Диопер. Евдокия влюблена была в другого, но по желанию царя выдали ее за Ганнибала насильно. Она питала к мужу жесточайшее отвращение – «Понеже арап и не нашей породы». Не нашла она тепла и в супружеской постели. Вскоре после выхода замуж она увлеклась одним из подчиненных генерала Ганнибала, красивым молодым офицером, русским и резко отличавшимся от Ганнибала не только белизной кожи, но и добротой сердца.
Ганнибал узнал о тайне жены. Тогда он запер Евдокию под замок и устроил настоящий застенок – жестоко истязал ее по всем правилам заплечного мастерства. И не успокоился на этом. Он начал процесс по обвинению жены в прелюбодеянии. По тогдашним законам это каралось жестоко и неотвратимо. Двадцать лет тянулось дело о прелюбодеянии, и за это время Евдокия Ганнибал вытерпела столько, что не под силу и иному мужчине. Мало того, что ее били, так еще и выставляли на мороз в одной рубашке, не давали хлеба по целым неделям. Сколько побоев и жестоких упреков вынесла бедная женщина. Процесс закончился в пользу мужа – Евдокию заточили в монастырь, где она и умерла.
А вот и другой пример.
Воспитанная, образованная и знатная девушка из княжеского рода вышла замуж по глубокой и страстной любви, о ней ходили легенды при дворе. Муж очень любил свою жену, но его причуды едва не стоили ей жизни. Она боялась Воды, а муж сажал ее в штормовую погоду в дырявую лодку и выезжал на самую середину Волги. Сам военный, он приучал и жену к воинской жизни, но очень необычным способом – сажал ее на пушку и палил из нее.
Припоминался и еще один рассказ Маше из жизни при дворе. Красивая, молодая, образованная, знатного рода девушка попала в жены к распутному человеку, в припадке бешеной злобы кидавшемуся на нее с ножом, выгонявшему ее вон из дома и наконец запретившему ей видеться со своими детьми. Он лишил ее единственного, что оставалось в жизни, а детей – материнской опеки и ласки.
Среди знати, бывавшей при дворе, нередки были люди с тяжелым характером, проявлениями злобы и буйства, чаще всего прибегали они к кулачным расправам со своими женами – жена поступала в их распоряжение до самой смерти, не имела никаких прав, не была защищена ни законами, ни честью и совестью мужей.
Маша втихомолку взглядывала на Петра Ивановича и боялась, как бы не сошел он с того пьедестала, на который подняла она его, как бы не стал мужем суровым. Дорогой она пыталась поговорить с Петром Ивановичем о том, как он жил с первой женой, что умерла.
Петр Иванович грустно отвечал, что любил жену, берег ее, но смерть отняла любимую, и он долго был неутешен. Но больше всего грустил он о том, что не оставила ему первая жена детей – уж как бы он заботился о них, точно так, как обо всей их семье заботится Никита, старший брат…
Маша успокаивалась: может же хорошо сложиться ее семейная жизнь! Родит она Петру Ивановичу здоровых и красивых детей, воспитает их – это будет делом ее жизни. Таким же делом жизни, как у Анны – учеба крестьянских детей…
В провожатые определила им Анна старшего сына Василия – Егора, а ходить за Машей выпросилась дворовая девушка Дуняша, давно уже не сводившая глаз с Егорки. И на всех стоянках по пути в Петербург неустанно хлопотала о господах и старалась как можно чаще оставаться с Егором, сумрачным и коренастым пареньком, послушным и робким. Маша заметила это на первой же остановке и строго сказала Дуняше:
– Чтоб в доме моем греха не было…
Дуняша покраснела и отговорилась бойко – была она смышленая и не по годам развитая девушка. Но Маша продолжала строго взглядывать на Дуняшу, и та, словно чуя вину, хотя и неизвестную еще ей самой, старалась изо всех сил заслужить милость и поощрение барышни.
На отдых и ночлег останавливались они то в съезжих избах, то в чистом поле, и Маше навсегда запомнилось это путешествие до столицы своей жданной радостью и смущением перед неизвестным будущим.
Мелькнули полосатые столбы шлагбаума, возок тряхнуло, и Маша с Петром Ивановичем въехали в столицу, откуда выбрались еще так недавно. Квартира ее так и осталась незанятой, и она расположилась в ней вместе с Дуняшей и Егором, а Петр Иванович распрощался и поехал представиться брату и новому двору.
Каждый день он приезжал к Маше, рассказывал все придворные новости и, уезжая, каждый раз трепетно и ласково целовал ей руку…
Свадьбу они назначили на конец сентября, и Маша все дни проводила в радостных хлопотах…
Первый вопрос, который задал Петр Иванович брату после шумных изъявлений радости, крепких объятий и троекратных поцелуев, был таков:
– Как ты мог!
Никита Иванович недоуменно нахмурился. Он понимал, о чем спрашивает его брат, но отвечать медлил и в свою очередь спросил:
– Ты о чем?
– Чтобы ангальт–цербтская принцесса села на престол! Ты – воспитатель великого князя Павла, тебе поручила императрица цесаревича, как мог ты допустить, чтобы у него отняли корону?
Никита Иванович тяжело вздохнул. Он и сам не понимал, как это могло случиться, как могла Екатерина объявить себя императрицей, самодержицей, отнять корону у сына, заточить, а потом и убить мужа…
– Не спеши, – еще раз вздохнув, начал он, – лучше скажи, как ты, как твоя невеста…
– Я всю дорогу и вообще все время в Перове и Везовне думал только об этом. Об Отечестве думал, – сел, наконец, в кресло Петр Иванович, – не сидел же ты сложа руки, глядя, как происходит узурпация…
Никита Иванович поник головой. Он и сам не понимал, как это все могло произойти, ведь это он собственными руками возвел Екатерину…
Ему вспомнилась та светлая июньская ночь, когда из дворца Дашковой выбежал Орлов, чтобы ехать за Екатериной в Петергоф. Панин сразу же вернулся во дворец, тихо прошел в покои Павла. Гвардейцы стояли на часах, двери в половину великого князя были плотно притворены.
– Если кому понадоблюсь, сразу будите, – приказал он часовым.
Тихо прошел в спальню. Павел посапывал носом, разметавшись во сне. Никита Иванович прикрыл его одеялом и, не раздеваясь, прилег на соседнюю постель. Здесь всегда стояла постель для него, воспитателя.
Он лежал без сна, вслушиваясь в тишину светлой июньской ночи. Тикает хронометр, отбивает каждые полчаса мелодичным звоном.
Прогрохотал по мостовой запоздалый гуляка, процокали копыта, и снова все стихло.
Часы отбивали каждые полчаса, Никита Иванович не смыкал глаз. Тревога и надежда боролись в душе – а ну, как все не удастся, а ну, как догадается император о заговоре? Арестовать Орловых он сумеет быстро, арестовать Екатерину он уже пытался. В тот же вечер, когда за парадным обедом по случаю заключения мира с Фридрихом крикнул ей через весь стол: «Дура!»
Парадный обед был накрыт на четыреста персон, каждый отчетливо слышал это оскорбительное слово, которое повторил Петр по–немецки и по–русски. Что могла терпеть Елизавета Воронцова, слышавшая от него постоянно такие оскорбления и отвечавшая на них тем же, то не могла терпеть Екатерина. Но она сидела, как ни в чем не бывало, оживленно разговаривая со Строгановым, – так казалось издали. На самом деле она быстро сказала ему с улыбкой на устах и слезой в глазах:
– Быстро расскажите мне что‑нибудь веселое, иначе я расплачусь, а мне этого нельзя…
Строганов принялся рассказывать какой‑то пустяшный случай, но она не слушала, а старалась как можно веселее улыбаться. Хватило же у нее выдержки, такта, смирения не показать перед всеми, что слышала оскорбление, что готова заплакать. Панин еще больше зауважал Екатерину после того обеда.
– Арестовать! – заревел Петр.
И Гудович уже поспешил с гвардейцами к Екатерине, да вмешался дядя Петра и Екатерины Георг, немец, поставленный фельдмаршалом и специально вызванный из Голштинии.
– Петер, – укоризненно сказал он, – ты всегда успеешь это сделать, не надо веселый праздник портить женскими слезами.
Он говорил по–немецки, и Петр утихомирился.
– Ладно, – кинул он любимому адъютанту Гудовичу, – не надо…
Не забыла и не простила Екатерина. И вот теперь он в томлении Духа ждал, когда же начнется то, чего ради они собирались, обговаривали все детали, привлекали на сторону Екатерины высших сановников и гвардейцев.
Часы мелодично отбили пять раз.
Панин встал и тихонько зашагал по комнате. Спать он не мог, но не мог и лежать без сна. Он ходил и ходил по спальне, стараясь не разбудить ребенка, словно что‑то гнало его из угла в угол. Договорились же, что Орлов привезет Екатерину в пять утра. Но пробило пять, шесть, семь, а никаких новостей, ни малейшего шума – ничего. Сейчас они все уже должны быть в Казанском соборе – объявить Екатерину регентшей, правительницей и возвести на престол Павла. Панин и не мыслил иначе…
Петр мог заподозрить Екатерину, схватить ее по дороге – на сегодня назначен в Петергофе прием во дворце Екатерины в честь тезоименитства императора. Петр мог приехать раньше, чем сегодня, он мог со всей своей свитой пожаловать вечером, – от Ораниенбаума, где он проводил свои дни, до Петергофа – рукой подать. Панин тут же отбрасывал эту мысль: о нет, Петр ради хорошей попойки с голштинцами не оставит дворца и не поедет в Петергоф раньше назначенного срока. Есть ли лошади у Екатерины, есть ли карета, возок, все, что может двигаться, хороша ли в Петергофе охрана – она может задержать посланного за нею Алексея Орлова, и тогда все пропало…
Скрипнула дверь, в проем высунулся часовой – Панин сразу же подошел к двери.
Незнакомый человек, не Алексей, не Григорий Орлов.
– Я – Федор Орлов, – прошептал он, – все уже в Казанском, ждут наследника.
Панин облегченно вздохнул.
– Карета заложена? – быстро спросил он.
– Доедем на моем возке…
Панин подошел к постели наследника.
– Великий князь, – торжественно произнес он, – вставайте, нынче у нас очень трудный день…
Павел вскочил, он всегда вставал быстро, словно боялся проспать какое‑либо событие.
– А где же куафер? – спросил он.
– Сегодня делать туалета не будем, – ответил Панин, – карета нас ждет…
Мальчик растерянно провел рукой по волосам. Никогда еще не приходилось ему бывать на людях без буклей. Но потом обрадованно махнул рукой и через минуту, одетый в наброшенную на плечи взрослую шинель, уже спускался по ступеням к ожидавшему их возку.
Федор Орлов нахлестывал лошадей, а Панин, держа за руку Павла, торжественно и тихо говорил ему:
– Ничему не удивляйтесь, держитесь спокойно, как я учил вас. Выдержка и спокойствие – незаменимые вещи для хорошего императора и хорошего солдата.
Павел взглянул на своего воспитателя. Он словно подрос, стал серьезным и сосредоточенным.
На площади пришлось остановиться. Она была запружена народом. За гвардейцами, окружавшими ее, теснились армейские полки, кричали и размахивали листами манифеста газетчики, толпились горожане, разбуженные шумом, а на крышах и заборах уже чернели гроздьями мальчишки. Листки манифеста падали в толпу, люди хватали их и пытались прочесть, но шум и толкотня сбивали их с толку. Никто не понимал, что происходит.
Панин с Орловым, держа за руки Павла, быстро проталкивались к собору. На ступенях его стоял статный, красивый Григорий Орлов, возвышаясь над толпой, и беспрестанно кричал:
– Ура матушке–императрице Екатерине!
Крик его подхватывали солдаты и гвардейцы, и многоголосое «Ура!» разносилось в прозрачном утреннем воздухе, как набат.
Григорий Орлов увидел Панина, зычно крикнул:
– Дорогу наследнику престола цесаревичу Павлу!
И тише добавил, адресуясь к Никите Ивановичу:
– За мной – сила. А кто помянет о регентстве, задавлю своими руками…
Толпа раздалась, Панин с Федором Орловым и Павлом, которого они держали за руки, быстро прошли к ступеням, поднялись на паперть, а затем протиснулись в церковь.
Она тоже была полна народу.
Присягали Екатерине на верность, целовали у нее руку, она стояла на амвоне вместе со священниками, одетыми в парадные золоченые ризы. Панин пробрался к амвону, потянул за руку Павла, и тот стал рядом с матерью. Одетая в скромное темное платье, Екатерина вся сияла радостью и счастьем. Увидев Павла, она нагнулась к нему, поцеловала и с трудом взяла на руки. Ой был уже слишком тяжел – ему исполнилось восемь лет.
– Благодарю, – выдохнула она одними губами Панину. Поставила Павла на ноги и снова начала принимать присягу. Шли и шли люди нестройной толпой, наскоро целовали крест, который держал священник и прикладывались к руке Екатерины.
Панин поймал один из носившихся в воздухе листков. То был Манифест о восшествии на престол Екатерины. Наследник ее Павел был упомянут как цесаревич, а Екатерина становилась самодержицей всероссийской.
Панин протиснулся к Екатерине.
Он поцеловал ей руку, уже вспухшую от множества прикладываний, и, подняв голову, спросил:
– Почему не упомянуто о регентстве?
– Разумовский давно отпечатал. Напрасны беспокойства, Никита Иванович, Павел – наследник, а будет совершеннолетним – станет править вместе со мной…
Но Павлу пришлось ожидать этого долгих тридцать четыре года…








