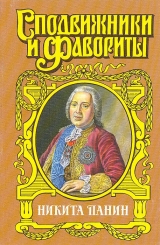
Текст книги "Граф Никита Панин"
Автор книги: Зинаида Чиркова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 34 страниц)
Ранним утром, когда Никита Иванович только открывал глаза, заранее предвкушая беспорядочный день, занятый полубездельем, вошел Федот и торжественно объявил:
– Господин барон Ассебург…
Панин протер глаза. Кто же это пожаловал к нему в такой ранний час, безо всякого предупреждения?
– Проси подождать…
Туалетом Никита Иванович всегда занимался недолго, одежда его была проста и незатейлива, так что через несколько мгновений он уже вышел в гостиную, где среди разнородных шкафов, канапе и диванов на тонких ножках, дубовых столов на львиных спинах, стульев, собранных по случаю, бродил молодой еще человек с узенькой эспаньолкой, в синем с красными отворотами камзоле и блестящих сапогах с крохотными шпорами.
– Честь имею, – поклонился он Панину и неловко протянул руку. Немецкий его выговор был безупречен.
– Не имею чести знать вас, – улыбнулся Никита Иванович, – прошу присесть и изложить мне ваше дело…
Оба были молоды, оба представительны и осанисты, и оба почувствовали симпатию друг к другу.
– У нас не любят этикету, – первым начал молодой барон, – и потому сразу скажу – вас ждет наш канцлер. Вы ведь получили уже верительные грамоты? А я – советник канцлера по иностранной части…
Он улыбнулся, сверкнув ослепительными зубами, и Никите Ивановичу пришлось по душе и благожелательная улыбка, и доброжелательный тон, хотя от чиновника иностранных дел он ожидал большего внимания ко всем церемониям.
– Что ж так рано? – удивился Никита Иванович. – Да я еще и не успел послать курьера к канцлеру, чтобы просить аудиенции у монарха…
– Боюсь, такого приема долго придется ждать. Наш король не утруждает себя государственными делами…
Никита Иванович посуровел. Ему неприятно стало выслушивать с первых же минут о монархе страны такие странные речи. Себе он никогда не позволял высказываться о ком‑либо в таком пренебрежительном тоне.
– Простите, – осторожно сказал он, – но королю вряд ли понравится, если вы будете так о нем отзываться…
В свою очередь Ассебург улыбнулся опять ослепительной улыбкой.
– Когда долго вращаешься среди королей, становится ясно, что и они тоже люди и поддаются анализу и критике…
– Надеюсь, мы поймем друг друга, – ответил Никита Иванович.
Ассебург посерьезнел.
– Мне бы хотелось, и канцлер наставил меня так, чтобы вы представили положение дел в нашей стране сразу же… Король – замечательная фигура для народа, и народ любит нашего Фридриха. Но наш король – это не его отец, деятельный и трудолюбивый. Тот был суров, запрещал все празднества, соблюдал религиозные обряды с большим рвением. И ничего не оставалось его сыну, как смягчить порядки, заведенные отцом. За то и любит его народ, что он весел, прост, любит удовольствия и веселье и позволяет своим подданным делать то же самое. А датчане – веселые люди, любящие и стакан вина, и другие удовольствия не меньше, чем все остальные на свете.
Чем больше говорил Ассебург, чем более откровенные вещи высказывал, тем больше удивлялся Никита Иванович и его раскованности, и этой его несколько опасной откровенности.
– В государстве нашем есть несколько лиц, которые взяли на себя неблагодарный и тяжелый труд по управлению… – Никита Иванович внимательно слушал. – Канцлер Бернсторф нашел много помощников в своем нелегком деле…
– Но я обязан представить верительные грамоты самому королю, – твердо сказал Никита Иванович.
Больше всего на свете не любил он придворные сплетни и интриги, а тут с самого начала заставляют его выслушивать не слишком лестные о короле речи.
– Оставьте этикет для великих стран. Наша страна – маленькая, веселая и богатая. И мы хотим жить мирно, трудиться и веселиться. Поймите нас, датчан, и у вас найдутся друзья…
– А что, Бернсторф начинает свой день так рано? – осторожно спросил Никита Иванович.
– Да разве рано, – удивился Ассебург, – солнце уже давно встало, а раз оно принялось за работу, негоже и нам отставать…
Эти слова понравились Никите Ивановичу, и он встал, чтобы приготовиться к встрече с самым влиятельным лицом в королевстве.
Бернсторф жил в том же Христиансборге, королевском дворце, где жил сам король с семейством. Он занимал правое крыло этого огромного длинного здания, но вход его был не с фасада, не с парадного высокого крыльца, а сзади. И, подъехав туда на четверке своих гнедых, Никита Иванович увидел суету, которая, конечно же, раздражала бы короля. Носились курьеры в синих куртках и черных касках с плюмажами, сновали чиновники в зеленой форме государственных служащих, непрерывно подъезжали и уезжали экипажи от самых красивых гербовых карет до обычных пролеток и возков, обтянутых рогожей.
– День действительно начинается здесь рано, – заметил он Ассебургу, неуклюже вылезая из кареты и спрыгивая на утрамбованный песок дорожки, ведущей к низенькому крыльцу с навесом из досок.
– Да, зато мы рано уходим домой, и время остается и для других забот, – беспечно ответил ему Ассебург и повел внутрь дворца.
Нигде не было никакой охраны, хотя у входа в кабинет Бернсторфа стояли два лакея в белых перчатках и лаковых башмаках.
Навстречу им поднялся невысокий человек с довольно объемистым брюшком, огромными залысинами на большой голове, без парика и одетый в самый скромный наряд, какой можно увидеть на каком‑нибудь самом скромном служащем.
Он подошел к Панину, вглядываясь в него тусклыми голубыми глазами, и сказал:
– Много слышал о вас. Рад познакомиться. Иоганн Гартвиг Бернсторф. Знаю, зовут вас Паниным, Никита, если не ошибаюсь…
Панин молча и удивленно пожал его мягкую руку.
– Прошу вас без этикета и церемоний. Мы привыкли попросту решать свои дела…
Бернсторф указал ему на жесткий стул, стоящий возле круглого стола, накрытого бордовой бархатной скатертью, и сам сел на другой такой же против Панина.
Ассебург примостился на мягком пуфе возле низенького столика, на котором стояли чашки с кофе и бисквиты.
– Давайте сюда ваши верительные грамоты, – протянул мягкую, пухлую руку Бернсторф, – забудьте о церемониях. У короля нет времени принимать вас…
Никита Иванович встал.
– Прошу простить меня, – отчетливо, но стараясь смягчить свой голос, заговорил он, – но моя всемилостивейшая государыня приказала мне вручить верительные грамоты монарху этой страны и никому другому.
– Понимаю вас, – мягко улыбнулся Бернсторф, – оставим это. Король Примет вас, как только ему будет угодно. А сейчас, если вы не возражаете, мне бы хотелось задать вам один вопрос: принц Петр все еще хочет овладеть Шлезвигом?
Никита Иванович понял, что ему расставили ловушку. Как ответить этому всемогущему министру, чтобы ответ его ёе расценили как покушение на собственность Дании, но и чтобы сила русского государства не поддавалась сомнению.
– Думаю, что дело это нуждается в серьезном обсуждении и пока что моя государыня, императрица Великия и Малыя Руси…
Он перечислил все титулы императрицы, их было так много, и он нарочито медленно, отчетливо и ясно произносил их все, лихорадочно собираясь с мыслями:
– …Не уполномочила меня обсуждать подобные вопросы. Если вы настаиваете, я доложу об этом государыне и покорнейше прошу подождать ответа…
Бернсторф с уважением, посмотрел на Панина. Нет, этот молодой человек, расфранченный, выбритый чисто, пахнущий дорогими духами и в роскошном парике обладает терпением и дипломатическим тактом. Это все, что хотел выяснить канцлер.
Выходя от Бернсторфа, Никита Иванович с горечью подумал, что не нашел нужных слов, чтобы осадить нетерпеливого канцлера, задавшего ему самый каверзный вопрос в истории отношений России с Данией.
– Я надеюсь, мы будем друзьями, – попрощался с ним Ассебург, и Никита Иванович вернулся домой.
Он недоумевал: зачем вызвал его Бернсторф к себе, зачем нужно было ему прощупывать нового русского посла, что все это значит? И как выглядел он в глазах этого могущественного человека, и не подвел ли он своими словами матушку Елизавету?
Он сбросил роскошный парик, скинул расшитый золотом камзол, растянулся на мягкой кушетке и принялся размышлять…
Почему так распорядилась судьба, что он попал сюда, в чужую далекую страну, к чужому двору, зачем нужно ему опасаться одутловатого и тусклоглазого Бернсторфа, зачем ему все эти верительные грамоты, представления? Ему вспомнились белые округлые руки Елизаветы, ее блестящие синие глаза, ее круглые щеки с неизменным румянцем и голубые жилки на виске. Как она была хороша и как страдал он вдали от нее!..
Что понимает он в дипломатии, он, простой камер–юнкер, никогда не имевший дела с иностранными дворами, никогда не знавший, что такое мемория, санкция, договор… Ему ли вмешиваться в судьбы государств, ему ли, так мало знающему и умеющему? Да полно, справится ли он с непосильной задачей, сумеет ли вынести эту тяжесть, сумеет ли вовремя произнести слово, какое необходимо, принесет ли пользу Отечеству здесь, сумеет ли стать полезным Елизавете? И при мысли о ней опять заныло сердце и свет показался не мил. Панин зажал в руке камергерский ключ, усыпанный бриллиантами, и неотступно думал лишь об одном – не забыла ли она ту единственную ночь, что они провели вместе, не забыла ли она те нежные и ласковые слова, что он шептал ей, или другие ночи, другие страсти вытеснили из ее памяти ту дивную непередаваемую прелесть неги и любви? И крутая волна грусти, тоски, мрачных предчувствий охватила сердце, навалилась тяжестью на спину и плечи. Елизавета стояла в его глазах, и он не мог избавиться от этого образа…
И вдруг Никита Иванович вскочил. Да ведь еще в «Одиссее» есть отрывок, который пришел ему на ум только сейчас. Он изучал Гомера еще в младые годы и вспомнил этот отрывок, казалось бы, такой далекий от современного мира, покрытый седой паутиной времени. А ведь этот приезд Одиссея к троянцам был дипломатической миссией: скинь все одежды веков, и перед тобой голая истина – Одиссей в роли посла.
Когда перед собранием троянцев послы начали красноречиво излагать свои доводы (они стремились вернуть Елену), Менелай хоть и был младшим из них, заговорил свободно, ясно и кратко. Он говорил так потому, что не был человеком болтливым или склонным отклоняться от темы.
Многоумный Одиссей, напротив, приступая к речи, продолжал глядеть в землю и держал свой жезл прямо перед собой, не простирая его ни направо, ни налево, как если бы он был тугодумом. Могло показаться, что он важничает или недалек умом. Но стоило лишь услышать этот могучий голос, вырывавшийся из его груди, и слова, падавшие одно за другим, как становилось ясно, что Одиссей как дипломат не имел равных.
Что же он сидит, ничего не делает, не желает приобретать знания, так необходимые сейчас? А «Государь» Маккиавелли? Ведь Панин читывал его когда‑то, разве не может он сейчас перечитать и усвоить его уроки? Разве не может он извлечь крупицы истины для своего дела, чтобы понимать, как поступать в том или ином случае?
Никита Иванович, помчался в библиотеку университета, выпросил у старичка–хранителя все книги, которые можно было привлечь к своему делу.
И книжный запой начался. Для молодого камер–юнкера, только что ставшего камергером, началось время учения. Иногда голова отказывалась служить, ему противели все эти буковки и закорючки на белых книжных листах, тогда он бросал книги и подолгу гулял по улицам Копенгагена, заходил в лавки и на книжные развалы, копался в древностях и открывал для себя иной мир – старый, потускневший, но хранящий так много истин. Новоиспеченный дипломат заново открывал для себя, что предки, древние люди, уже все знали, все прошли, всему научились – надо лишь суметь выловить это знание. И он сожалел о том, что когда‑то сумел воспользоваться лишь малыми крохами мудрости и теперь чувствовал себя невежественным дикарем.
Ассебург стал частым его гостем, и Панин прозрачно намекал молодому советнику иностранного отдела, что неплохо было бы обменяться знаниями. Но Ассебург не был увлечен идеей Панина. Он знал то, что знал, умел разбираться в интригах и тайных хитросплетениях своего двора и не стеснялся открывать перед Никитой Ивановичем изнанку королевской власти.
Не раз с усмешкой думал Панин, что недаром древние народы подозрительно относились ко всем посольствам и послам, чаще всего принимая их за шпионов и доносчиков. В сущности, роль дипломата не сводится к разговорам о перемирии или выторговыванию выгодных сделок. Познание страны, самых разных ее сторон и есть та цель, которой добиваются постоянно проживающие на чужой земле. Это, в сущности, собирание информации, которую правительство утаивает от других держав, чтобы не поплатиться за легкомысленное отношение к тайнам войной или разорением…
Древний Рим обращался с послами бесцеремонно. Вражеский властитель или племя, стремящееся к заключению мира, прежде всего должно было получить разрешение на отправку посольства у местного римского военачальника. Прибыв к городским стенам Рима, послы оставались за чертой города в какой‑нибудь кишащей крысами гостинице, пока сенат не давал разрешения войти в город. Иногда такое ожидание длилось годами. Если же они не умирали или не заболевали в течение этого долгого времени и сенат, наконец, давал им разрешение на въезд в город, посольства останавливались в «Греческом дворе», не имея права выходить в город без сопровождения солдат. Терпеливо они ждали встречи с сенатом. Даже если это ожидание увенчивалось разрешением явиться в сенат и задать вопросы, то по окончании этой процедуры послы снова возвращались в «Греческий двор» и снова, иногда годами, ждали ответа от сената.
Да, в дни работы Панина в Дании таких препон уже не существовало, но Никита Иванович вспоминал случаи, когда послов сажали на кол, отрубали головы или обращались другим бесчеловечным способом, и втихомолку радовался, что эти варварские времена давно прошли…
И теперь на дипломатов налагались ограничения, стеснявшие их свободу. Послу не разрешалось иметь какую‑либо собственность. Те или иные подарки, вручаемые ему, сдавались в казну государства по его возвращении. Он не мог взять с собой жену, поскольку она могла заняться сплетнями и выдать невольно секреты государства. И предписывалось брать с собою повара, ибо иностранные повара могли его отравить…
Впрочем, успокаивал себя Панин, он получил строжайшие инструкции от Бестужева, словом, все его поведение строго расписывалось. И Никита Иванович следовал им неукоснительно. Почти каждый день особым шифром он писал донесения, депеши отправлял со специальным курьером и ждал новых распоряжений, которые доставляли ему неимоверную радость: Бестужев, посылал не только указания, что и как говорить, но и все новости об иностранных дворах. И скоро Панин научился разбираться в европейской международной политике…
Он уже понял, что ему следует стать хорошим лингвистом. Никита Иванович знал латынь, немецкий, французский, датский, шведский. Детство в Пернове было для него отличной школой, да и отец позаботился научить своих сыновей – Никиту и Петра – всему, что должны были знать образованные дворяне просвещенного XVIII столетия.
Панин понимал, что, несмотря на все установления и законы, он все‑таки вызывает подозрения как иностранец, и потому обязан был скрывать интриги под маской обходительного светского человека. А приемы, которые ему по своему положению следовало изредка устраивать, должны были показать вкус и обходительность хозяина, высокую эрудицию и умение сказать все, не сказав ничего. Никита Иванович хватался за голову. Он должен уметь скрывать мысли, никогда не выказывать чувств, никогда не изменяться в лице при самом плохом известии и вести все переговоры терпеливо, усвоить метод топтания на одном месте… Без малейших признаков раздражения должен выслушивать, как злословят по его адресу и извращают его слова. И никогда не прибегать к угрозам или брани, но придется иногда и умерять глупость того же Бестужева или кого‑либо из фаворитов, соотноситься с обстоятельствами…
Открылась бездна таких ограничений, что Никита Иванович приходил в отчаяние. Почему его не снабдили в России всеми этими правилами, почему отправили в чужую страну без необходимого багажа знаний?
Тут только осознал Никита Иванович, какую ловушку подстроил ему Бернсторф. Он должен еще согласовать церемониал вручения верительных грамот. Встанет ли король и спустится ли со ступенек трона, чтобы приветствовать посла или просто сделает движение ногами, чтобы создать видимость движения? Позволено ли ему будет присесть хотя бы на минуту? На каком языке должно произносить приветственную речь – на немецком или русском?
Таких мелочей – огромное количество, и Панин еще раз порадовался, что не поддался на провокацию Бернсторфа – ответил ему достойно. Похвалы он удостоился и от Бестужева.
С волнением и великим тщанием готовил он свою речь. Другим послам, которые отправлялись в таком спешном порядке, речь всегда давалась готовой прямо из канцелярии иностранной коллегии. Но с Паниным получилось все так поспешно, так скоротечно, что ему не выдали не только текста этой речи, но даже денег на проезд. А он помнил и знал, каким образом обставлял свой приезд в Петербург посол Франции – одних только лошадей на въезд в столицу требовал он у своего правительства до тысячи, да еще берейторы, да кучера в ливреях и с плюмажами, да золоченая карета… Словом, Никита Иванович досадовал на поспешную высылку его из Петербурга.
Что ж, это лишь прибавит ему опыта. Теперь он будет знать, как надобно отправляться в путь, и ни за что больше не согласится играть роль придворной собачонки, которую пинком выдворяют в Копенгаген…
Обиды никак не влияли на его работоспособность. Он вставал рано, тем более что Ассебург частенько заставал его в постели, и принимался за писанину.
Но все на свете имеет свой конец. Настал черед Никиты Ивановича представиться двору и вручить свои верительные грамоты. За несколько дней перед этим Панин дотошно расспрашивал Ассебурга, знатока Дании, сделавшегося для него необходимым собеседником, как будет проходить церемония. Он надеялся не ударить лицом в грязь перед Европой и не посрамить чести своей государыни. Все тонкости этикета были тщательно оговорены и внесены в расписание церемониала.
В огромном парадном зале Христиансборга – королевского дворца – Никита Иванович увидел большую толпу разряженных придворных. Пышность этого королевского приема далеко уступала елизаветинскому двору, и Никита Иванович втихомолку порадовался за свою страну, впервые испытал гордость, что принадлежит к одному из самых блестящих дворов Европы. «Знай наших», – думал он, готовясь с волнением и гордостью произнести приветственную речь.
Разнаряженная толпа ни на минуту не стихала, и Никита Иванович опасался, что его не будет слышно в этом шуме и гаме.
Но вот два величественных герольда, одетых в залитые золотом и галунами камзолы, с громадными посохами в руках, увитыми лентами, стукнули в пол три раза. И стихло все вокруг, придворные выстроились в два ряда, оставляя широкую свободную дорогу от золоченых дверей к высокому креслу короля.
– Его величество, король Дании Фридрих Пятый, – возгласили герольды в один голос, и широкие высокие двери раскрылись.
Невысокий быстрый человек в белом парике, спускавшемся почти до середины груди, в туфлях с серебряными застежками и камзоле, расшитом серебром, показался между герольдами.
Он быстро прошел к трону, улыбаясь придворным и ласково кивая направо и налево, легко взбежал по его ступенькам и сел на трон так, словно остановился на минутку передохнуть…
– Ее величество королева Дании Юлиана–Мария, – провозгласили герольды, и из распахнутых дверей медленно выплыла дородная высокая дама в огромных фижмах алого цвета с серебряной паутиной на них, с высокой прической и маленькой короной на волосах. Руки и плечи ее были обнажены по французской моде XVIII столетия, и Никита Иванович почти не увидел разницы между королевой и знатными дамами своего царства. Так же одевались, так же пудрили волосы, так же сооружали на голове замысловатые и высоченные прически придворные дамы в Петербурге.
Она величественно кивала головой, медленно проплыла к трону и уселась рядом с королем с тяжеловесностью немки.
Выступив вперед, поклонившись трону и обеим государям, он, не торопясь, начал. Панин говорил по–русски медленно и плавно, чуть–чуть в нос, перечислил все титулы Елизаветы точно и неукоснительно, останавливаясь на мгновение, когда толмач переводил на ухо королю.
Момент был для Никиты Ивановича волнующий и запомнился навсегда. Это была его первая речь перед государем иностранной державы, и ладони его стали мокрыми задолго до того, как он кончил говорить.
Краем глаза видел Панин, как переминались с ноги на ногу придворные, не привыкшие к долгому стоянию на ногах и давно не соблюдавшие этикета, краем уха слышал перешептывание и нетерпеливый ропот ничего не понимавших, но прислушивавшихся к звучному русскому языку.
Произнеся последние слова, Никита Иванович поклонился, но снова встал в величественную позу, всем видом выражая желание продолжать. Придворные удивленно присмотрелись к послу. Король тоже поднял густые брови в знак удивления.
Никита Иванович слово в слово повторил свою речь на чистейшем немецком языке, а затем и на датском…
Король не выдержал, соскочил с трона, аплодируя.
Но Бернсторф холодно выступил вперед, король вернулся на свое место, и канцлер сказал от имени короля несколько слов…
Нарушив все нормы строго расписанного церемониала, Фридрих подвел Панина к трону королевы и представил его супруге.
Не вставая с кресла, королева протянула Панину пухлую руку, всю унизанную перстнями. Он галантно встал на одно колено, благоговейно приложился к царственной руке.
– Моя государыня, – сказал он тихо, – посылает вам поклон и эти маленькие безделушки…
Он махнул рукой, и два секретаря на бархатной подушке поднесли королеве бриллиантовый убор с перстнями и подвесками.
Юлиана–Мария покраснела от удовольствия и ответила Панину благодарственным взглядом и теплыми словами.
А потом Панина стали представлять посланникам иностранных дворов. Французский посол в блистательном наряде а–ля Людовик XV высокомерно поклонился Никите Ивановичу и глухо пробормотал обычные слова приветствия. Панин ответил по–французски изысканным комплиментом в адрес великолепного покроя его костюма. А про себя подумал: «Высокомерен! Знает, что французский его государь до сих пор так и не удостоил титула императорского величества».
Елизавете очень хотелось его получить – признание от Людовика, когда‑то высокомерно отвергнувшего ее руку и сердце… Ну да придет время, и это будет у Елизаветы…
Его представили всем иностранным дипломатам. В самом конце церемонии к нему подошел Бернсторф. Панин сначала даже и не узнал в этом щеголеватом светском вельможе того сухого и строгого человека, который недавно принимал его рано утром в своем кабинете…
– Надеюсь, вы на меня не в обиде, широко улыбаясь, протянул он руку Панину…
– Дания изобилует множеством подводных рифов, – весело ответил Никита Иванович.
– Значит, завтра вы придете на представление комедии «Жестяных дел мастер»? – со значением проговорил Бернсторф.
– Театр уже открыт? – переспросил Никита Иванович.
– Давно, – спокойно сказал Бернсторф.
Но Никита Иванович знал, что еще недавно театр был закрыт и не давал представлений из‑за запрета бывшего короля.
– У вас почитают Гольберга? – спросил он.
– А вы знаете Гольберга? – удивился Бернсторф.
– Я читал почти все его комедии. Даже «Петр Парс и его путешествие из Калундборга в Арс»… Мне доставило большое удовольствие его «Еппе на горе», а уж «Жане из Франции» – просто слов нет…
Бернсторф выразительно посмотрел на Панина. Придворные понаслышке слышали о талантливом драматурге и поэте, преподавателе Копенгагенского университета. Гольберг был не вхож в высшее общество, хотя и знаком со многими из вельмож. Но изучать творчество даровитого поэта, да к тому же еще писавшего на датском языке, они не считали нужным и относились к Гольбергу в высшей степени снисходительно–презрительно. И вдруг иностранец, впервые представленный ко двору, заявляет, что знает его сочинения, читал их. Бернсторф преисполнился уважения к Никите Ивановичу… Он тут же пригласил его к обеду.
К Панину подошел Ассебург.
– Вы сделали успехи, – весело заявил он, – оказывается, все теперь только о вас говорят, даже обычного злословия нет. А чем вы так очаровали королеву, что она изъявила желание видеть вас в своей загородной резиденции на большом приеме?
Панин пожал плечами. Ему хотелось верить, что этим помогает он Елизавете блистать за границей. «Отечество мое, – думалось ему, – не посрамлю тебя невежеством и лукавством…»
С этого дня вся жизнь Никиты Ивановича превратилась в один сплошной большой праздник. Обеды следовали за завтраками, балы заканчивались карточной игрой с королем и придворными, приемы и охота делались принадлежностью рабочего дня. Но среди вихря удовольствий никогда не забывал он присматриваться к иностранным посланникам, умел хорошо слушать, собирать важнейшие сведения из пустых великосветских разговоров.
Множество знакомых, настроенных доброжелательно по отношению к России, появилось у Никиты Ивановича. Но больше всего подружился он с Ассебургом. Тот давал ему пищу для размышлений, рассказывая о датском дворе, разгадывая пустую игру тщеславий и раскрывая подоплеку интриг. Ассебург стал хорошим товарищем. Вместе ездили они на балы, в театр, на приемы, обеды. Нередко Никита Иванович устраивал обеды и у себя, не жалея трат на еду, роскошную обстановку и ливреи для слуг.
Сам же он вне этой роскошной декорации вел жизнь трудовую, сопряженную с риском и молчанием. Он много слушал и мало говорил. Но каждая его фраза отличалась отточенностью и умом. Иногда удивлялся, откуда бралось у него остроумие и как ему удавалось сохранять невозмутимый и спокойный вид после многих тостов за здоровье короля…
Но однажды пришел Панину пакет с указанием от Бестужева – собираться и ехать в Швецию…
Никита Иванович был поражен. Не минуло и несколько месяцев со времени приезда в Копенгаген, а его уже шлют в Стокгольм, как простую почтовую посылку. Он решил не торопиться и как следует подготовиться к роли посла при шведском дворе…








