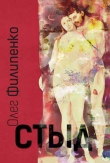Текст книги "Книга стыда. Стыд в истории литературы"
Автор книги: Жан-Пьер Мартен
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)
Впрочем, в пантеоне закоренелых жертв застенчивости у Руссо обнаруживается достойный соперник в лице Стендаля. «Первый опыт юного Бейля, – пишет Жан Старобинский, – это опыт неловкости и стыда. В обществе он чувствует себя лишним, неуклюжим, скованным, не умеющим сказать что-нибудь приятное, а значит, неспособным обольщать». К этому можно было бы отнестись как к анекдоту. Но это свидетельство болезненной соотнесенности с миром – параллель к неудовлетворенной соотнесенности с литературой. От стыда себя к стыду текста, от ренегатства до кляксы – один шаг. «Когда я перечитываю эти воспоминания, я часто освистываю сам себя», – признается Стендаль.
Неловкость не чужда порой и самым, казалось бы, горделивым. Возьмем Жида, блистательного Жида, на первый взгляд прекрасного, столь уверенного в себе оратора, столь искусного в беседе, предстающего – по крайней мере, в том, что касается поведения в свете, – полной противоположностью Жан-Жаку. Однако Жид тоже не прочь сделать признание. Вот что он нам рассказывает: «Брат Роже привез из Парижа Элен Мартен дю Гар. Машина, которую он ведет, через восемь часов высаживает их у крыльца; это значит, что прежде между нами ничего не было. Мы работаем перед пока еще чистым холстом, на котором заметен малейший мазок кисти. Что же тогда происходит? Передо мной словно разверзается вся глубина бездны, во мне словно вскипают все муки ада; что это за вихрь, который поднимается из глубин вашего существа, заставляет все кружится перед вашими глазами и опьяняет вас? Мое „я“ надувается, распухает, выставляя напоказ все свои мерзости. От усталости человек теряет всякий контроль над собой; голос изменяет вам, срывается на фальцет, вы слышите, как с невыносимым самомнением изрекаете неосторожные слова, которые хотели бы немедленно взять назад; вы обреченно присутствуете при этих жалких рассуждениях отвратительного существа, которое заняло ваше место, играет вашу роль, которое хотелось бы (но нет возможности) разоблачить… потому что это вы сами.
Все, все, что я говорил вчера, – ненавистно, абсурдно, так ужасно, что если бы я мог порвать с собой – порвал бы.
Сегодня утром я силюсь вернуть этих монстров в клетку».
Перед нами – великолепное описание феномена стыда. Разумеется, само слово не произнесено. Но как иначе назвать этот катаклизм, это катастрофическое раздвоение? Мелкий стыд метафизичен. Это одиночество моего тела по отношению к другому человеку, моего тела, обреченного в моих собственных глазах аду другого. Жид часто испытывает ощущение, что говорит слишком много, или слишком мало, или не то, что нужно. Вот, например, в 1928 году, на вечеринке у Адриенны Монье: «Я думал прийти в семь и остаться не больше чем на несколько минут; я опоздал на час; и, лишь выйдя, я сказал себе, что немногочисленные собравшиеся друзья дома наверняка только и ждали моего ухода, чтобы пойти вместе поужинать. Слишком много говорил, как это порой случается со мной, когда я после пребывания в одиночестве теряю над собой контроль; я отдавал себе отчет, что говорю слишком много, но не мог остановиться. Рассказал кучу анекдотов про Мардрюса, и рассказал плохо, без того вдохновения, которое заставило бы их прозвучать, и, хуже того, не сумев совладать с дурацкой привычкой повторять слово или фразу, нал которыми, на мой вкус, недостаточно громко смеялись, хотя я прекрасно знаю, что то, что в первый раз показалось не слишком смешным, при повторении кажется вообще не смешным. И зачем надо было прибавлять личные детали, до которых никому не было дела? Не иначе чтобы показать, что я бодр духом и в своей тарелке, хотя все обстоит как раз наоборот».
Это не значит, что стыдливец такого типа – недовольный собой светский человек – превосходного мнения о других: «Я чувствую себя столь же неинтересным и мало обходительным, как другие, как „остальные“, как все». Его драма как раз в том, что он не чувствует себя ступенькой выше общей серости, в которой он слишком хорошо отдает себе отчет: «Я не знаю, какое впечатление я могу произвести на окружающих; но на самого себя – совершенно идиотское […] Так что продолжайте свою болтовню, как будто меня здесь нет. Как бы мне хотелось, чтобы меня здесь не было! Зачем вы пригласили меня? Я хочу спать», – записывает Жид в дневнике.
Они вселяют в нас уверенность, эти великие застенчивые, эти вечные «мне не по себе». Значит, они такие же, как мы? Мыв восхищении, что они сообщают нам о своих промахах, о своих блужданиях, о своем самоуничижении. Особенно утешительно видеть, насколько широко распространено в мире чувство неудовлетворенности собой. Сам Мисима, достигший крайнего предела обнажения себя и своего тела в литературе и вне литературы, описывает себя в отрочестве («Если исключить […] мою постыдную тайну»[74], состоявшую в осознании своего гомосексуального влечения, и садистские фантазии) как «любого другого подростка»: «…Меня мучило то, что я совершенно не умел смотреть людям прямо в глаза, – причиной тому, очевидно, моя болезненность и преувеличенная забота, которой я был окружен с детства».
Но эта, казалось бы, постоянная слабость иной раз поворачивается своей оборотной стороной – стороной славы. Как мы любим читать в «Исповеди» о триумфе речи над стыдом речи, о покорении слова, проистекшем из унижения! Напомним, что в эпизоде, который, в соответствии с анализом Старобинского, принято называть обедом в Турине, мы – это Жан-Жак в роли слуги. Мы в состоянии думать только о м-ль де Брей, которая не обращает на нас ни малейшего внимания. «Чего бы я только не сделал, чтоб она соблаговолила приказать мне что-нибудь, взглянуть на меня, сказать мне хоть слово! Но напрасно! Мне пришлось пережить всю горечь сознания, что я ничто в ее глазах; она даже не замечала моего присутствия»[75]. Но прежде всего мы признательны Жан-Жаку за то, что, будучи на нашем месте, он целых два раза сумел наконец-то обратить на себя внимание. Он преподал нам урок: именно благодаря языку, знанию слов и умению с ними обращаться, я могу надеяться хотя бы на миг пой мать других в свои сети. В реальной жизни такая находчивость – нечто исключительное. Но язык литературы неизменно утверждает эту власть вновь и вновь.
* * *
Отныне стыд связывается с прошлым. Чтение – это бальзам, писательство – реванш. В конце своего крестного пути, во время заключительного таинства, человек стыда, подобно проклятому, произведет в итоге неплохое впечатление. Ведь тело писателя – обещание славного тела. Потомство, кажется, готово преподнести ему будущее, свободное от мелочности, всеобщее прощение и, больше того, причисление к лику блаженных как признанного гения.
Именно об этом в связи с Руссо в начале своих «Антимемуаров» напоминает Андре Мальро: «Горделивый стыд Руссо не уничтожает жалкий стыд Жан-Жака, но дарит ему обещание бессмертия. Это превращение, одно из самых разительных, какое только может сотворить человек, есть превращение раба своей судьбы в ее хозяина».
И потому совершенно прав Поль Валери, понимавший литературу как месть за необходимость лезть за словом в карман.
Часть III
Стыд на улице
Сартр в своих «Размышлениях о еврейском вопросе» отмечает способность желтой звезды приковывать взгляд, и это наблюдение остается очень актуальным. Сколько здесь расставлено ловушек, сколько помех для зрения: стыд быть увиденным, стыд увидеть, взгляды, избегающие друг друга. Здесь присутствует не только стыд носить позорный знак, но и стыд увидеть его на ком-то. Взгляды, таким образом, оказываются пойманы в замкнутый круг. Между ними уже невозможно никакой игры. Она разыграна заранее. Желтая звезда обращается ко мне, нееврею, она утыкается в меня, словно взгляд. Что делать? – спрашивает Сартр. Снимать шляпу перед встреченным евреем в знак солидарности? Некоторые отваживались на это, стараясь, как могли, выразить свое беспомощное сочувствие. Сартр напоминает, как воспринимался этот благонамеренный поступок. Тот, к кому он был обращен, чувствовал, что становится объектом пусть не поношения, но сострадания, так или иначе – объектом. Всякое направленное на него действие подчеркивало, насколько еврей несвободен быть евреем. «Все это было нам так понятно, что в конце концов, встречая на улицах евреев со звездой, мы уже отводили глаза. Нам было неловко, стыдно смотреть на них, ведь каждый наш взгляд, помимо их и нашего желания, выделял их как евреев»[76].
Чтобы уничтожить этот стыд, следовало бы уничтожить бытие другого. Именно к этому стремится взгляд, отведенный в сторону. Но это взаимное неузнавание, этот молчаливый договор двух согласных стыдливостей, двух беспомощностей, сам по себе ужасен. Тоталитарный террор истории нацеливается на внутренний мир человеческих существ, вовлекает их в порочный и безмолвный круг внушаемого и всеми разделяемого стыда. Униженный ощущает тяжесть своего стыда в той мере, в какой я беспомощен освободить его от этого стыда.
Желтая звезда, как говорил Альбер Коэн, была «стыдом на улице». Она создавала ситуацию, в которой любой жест (страх, напускная беспечность, вызов, отказ во внимании) зависел от постороннего взгляда. В первую очередь сами евреи должны были спросить себя: как реагировать на столь ужасное предписание? Об этом рассказывает Имре Кертес в романе «Без судьбы». В Венгрии недавно утвердили новые законы против евреев, и носителям желтой звезды было запрещено покидать город. Герой, очень молодой человек, встречает в трамвае Аннамарию, соседку-еврейку: «Лет ей тоже примерно четырнадцать. У нее длинная стройная шея. Под желтой звездой начинает формироваться грудь. […] Ей хотелось прежде поговорить с нами о том, что ее мучит, о вопросе, над которым в последнее время она постоянно ломает голову: речь, как оказалось, шла о желтой звезде. Собственно, задуматься и осознать, что что-то очень сильно изменилось, заставили ее „взгляды, какими смотрят на нее люди“; да, она находит, что люди очень изменились по отношению к ней: по их глазам она чувствует, что они просто „ненавидят“ ее. Вот и сегодня утром, когда мать послала ее за покупками, она это заметила. Но мне, например, кажется, она тут немного преувеличивает. Мой личный опыт, по крайней мере, не совсем совпадает с тем, что она говорит. […] Енге она говорила, какое это странное ощущение: жить, „понимая, что ты другой“; из-за этого она испытывает иногда даже гордость, но чаше – что-то вроде стыда. […] И уже когда мы были на лестнице, я вдруг узнал, что, поддавшись подобным чувствам, я, кажется, сильно обидел Аннамарию; дело в том, что я заметил: она как-то странно себя ведет»[77]. Спор двух подростков вертится вокруг такого вопроса: это ощущение собственного отличия присуще евреям или же оно проистекает от взгляда постороннего? Заставляя носить на теле знаки позора, антисемитское государство тем самым законодательно расширило сферу унижения.
Стыд, как мы видим, преследует своих жертв. Способен ли он затравить преследователей? Иными словами, антисемитизм по своей сути – бесстыдная страсть? Именно это утверждает Сартр: «Антисемит готов согласиться, что евреи умны и трудолюбивы, он даже признается, что в этом смысле он будет послабее. Такая уступка ему ничего не стоит: эти качества он просто „выносит за скобки“. Или, вернее, они входят в его подсчет с отрицательным знаком: чем больше у евреев достоинств – тем они опаснее. Что касается самого антисемита, то он на свой счет не заблуждается. Он знает, что он человек средних способностей, даже ниже средних, и в глубине души сознает: он – посредственность. Чтобы антисемит претендовал на индивидуальное превосходство над евреями, таких примеров просто нет. Но не надо думать, что он стыдится своей посредственности, напротив, он доволен ею, он сам ее выбрал – я говорил об этом. Этот человек боится какого бы то ни было одиночества, будь то одиночество гения или одиночество убийцы. Это человек толпы: уже и так трудно быть ниже его, но на всякий случай он старается еще пригнуться, боясь отделиться от стада и оказаться один на один с самим собой. Он и стал-то антисемитом потому, что не может он существовать совсем одинокий. Фраза „Я ненавижу евреев“ – из тех, какие произносят только в группе; произнося их, говорящий как бы вступает в некие наследственные права, вступает в некий союз – в союз посредственностей. Здесь стоит напомнить, что признание собственной посредственности совсем не обязательно ведет к скромности или хотя бы к умеренности. Совсем напротив, посредственность страстно гордится собой, и антисемитизм – это попытка посредственностей возвыситься именно в этом качестве, создать элиту посредственностей»[78].
Продолжая эти рассуждения, можно с достаточной степенью уверенности сказать, что эта «страстная гордость» посредственности является одновременно откликом на стыд, на стыд в некотором смысле отраженный, в данном случае уже обидный – отрицание себя, превращенное в агрессивное и беззаконное самоутверждение за счет козла отпущения. Антисемитизм, как и все стремления отвергнуть и изгнать другого, несомненно, связан с коллективной патологией стыда и, еще точнее, с тревожным страхом перед лицом того, что Янкелевич называет «минимальным отличием», – этого чувства невыносимого сходства с другим, связанного с ненавистью к себе. Однако Сартр нарисовал в этих строках фоторобот антисемита архетипического. А антисемитизм имеет множество форм, он сопрягается с самыми разными фантазмами; не исключено даже, что, вопреки сказанному Сартром, он может выступать рука об руку с героическим одиночеством и с исключительностью гения (самым удивительным примером тому был Селин).
Тем не менее многообразие индивидуальных случаев, обусловленных различными фантазмами, выливается в общий психоз, и Сартр передал это с необыкновенной точностью, когда еще до войны, в повести «Детство хозяина», решил рассказать историю молодого Люсьена Флерье. Уже в этой повести (вышедшей в 1939 году в сборнике под заглавием «Стена») нам показывается, что антисемиты стремятся противостоять собственной беспомощности, унижая других, но при этом считают себя способными на многое, хотя производят впечатление бессильных. Люсьену не удается примириться с самим собой и устроить свое будущее, стать достойным сыном своего отца, сменив его во главе предприятия. Люсьена преследуют комплексы по причине его грузного, нескладного телосложения. Вскоре, вслед за молодчиками из Action française, он приучается ненавидеть евреев, ему «не было равных в распознавании евреев на глазок»[79]. Но решающим становится момент, когда он со всей силы ударяет «маленького смуглолицего человечка, который переходил улицу Сент-Андре-дез-Арт, на ходу читая „Юманите“». На следующий день Люсьен покупает большую камышовую трость. Через два дня он впервые вступает в половую связь. К чему он стремится в конце концов, так это к тому, чтобы суметь подражать «непроницаемому выражению лица», которым его восхитил приятель, приведший его в Action française. В зеркале же он вновь видит свое «щуплое надменное личико». Он собирается, как сам говорит, отпустить усы.
В данном случае антисемит предстает стыдливым подростком, испытывающим неловкость грязным мальчишкой, который вступает на путь насилия – и в этом он сравним с гомофобом. Это обычная история травли новичка, приведшая к фатальным последствиям. Но если он должен уступить этой ненависти, то потому, что он считает, будто сможет, являя миру ничтожество другого, создать самому себе другое тело, другую походку. А от того щекотливого вопроса, которым задаются герои Бове и Достоевского, вопроса Раскольникова с его шляпой: на что я похож? – от этого вопроса антисемит избавится, ведь ему больше не нужно будет заботиться о своей внешности, поскольку теперь только вид других, и их одних, станет объектом его насмешек.
Можно, таким образом, подумать, что антисемиты полностью победили стыд себя. Настолько, что он не сможет больше вернуться, и антисемитский психоз стал возможен именно благодаря этому окончательному вытеснению, собирающему индивидов в группы ненавистников и уносящему их к жизни в беззаконии бесстыдной глупости. Стойкость антисемитизма можно было бы объяснить его неспособностью отрицать самого себя. Вспоминается высказывание Руссо: «Стыд – спутник невинности, преступление более его не ведает». Кажется, данный случай его подтверждает. Среди многочисленных примеров вспомним хотя бы Ксавье Валла (назначенного в 1941 году правительством Виши генеральным комиссаром по еврейским вопросам): образцовый случай лишенного стыда антисемита, который, когда его дело в конце войны слушалось в Верховном суде, был бесконечно далек даже от минутного сомнения и преподавал присяжным уроки антисемитизма. Вспомним Селина, приветствовавшего первые попытки отрицать геноцид евреев в фашистской Германии. Вспомним даже Бернаноса (написавшего в 1931 году «Великий страх благонамеренных», где он повторял положения, выдвинутые Дрюмоном) – способный повернуться на сто восемьдесят градусов на многих фронтах, он не смог по-настоящему отступить от своих взглядов относительно того, что упорно называл «еврейским вопросом». Дело в том, что среди геологических наслоений различных мономаний антисемитизм, похоже, обладает ни с чем не сравнимыми прочностью и плотностью. Это бетонное тело без трещин. «Я умираю антисемитом», – написал в 1939 году Дриё в своем фальшивом завещании. Таким образом, антисемитизм, как представляется, защищен неким чудесным противоядием от преследующего всех нас исторического стыда.
* * *
Вот тем не менее два примера, которые дают повод подозревать о более или менее стыдливом отношении к антисемитскому прошлому, – примеры Бланшо и Чорана.
Бланшо представляет собой удивительный случай перерождения: высказывая в тридцатые годы в крайне правых газетах антисемитские взгляды, после войны он объявлял о своем отвращении к этому прошлому. В какой же момент началось мучительное изучение себя? Что его вызвало? Чем еще, если не памятью об оскорблениях и не ощущением голоса стыда, объяснить сперва годы молчания обо всем, что имело отношение к войне, – эту попытку через «главнейшее одиночество» писателя добиться искупления и забвения, – а затем громкое признание своих прошлых ошибок на потрясающих страницах, повествующих о Холокосте, пока в самом писателе, по свидетельству его биографа Кристофа Бидана, происходило то, что Шестов называл «трансформацией убеждений»? И тогда радикальный взгляд на антисемитизм, который Бланшо называл «фатальной ошибкой», заставил его занять непримиримую, без малейших уступок, позицию по отношению к Хайдеггеру и Селину[80], и он впредь не отступал от правила: «Думай и поступай так, чтобы Освенцим никогда не повторился». В этом отношении Бланшо, возможно, представляет собой личность исключительную.
Выражение «фатальная ошибка» невозможно представить себе выходящим из-под пера Чорана. Означает ли это, что Чоран был лишен стыда? Нет, конечно. Просто он отстаивал право на возрождение, а также на прощение по истечении срока давности. «Меня упрекают за некоторые страницы „Преображения“, книги, написанной тридцать пять лет. назад! Мне было двадцать три года, и я был еще более безумен, чем все. Я полистал вчера эту книгу; мне кажется, что я написал ее в прошлой жизни, во всяком случае, мое нынешнее „я“ не признает себя ее автором. Очевидно, насколько проблема ответственности сложна. Как многому я мог верить в юности!» Что не мешает ему в своих «Тетрадях» выражать «интеллектуальный стыд» – разновидность несколько облагороженного стыда за свое прошлое «я». «Эжен Ионеско, с которым я долго говорил по телефону о „Железной гвардии“ и которому я сказал, что поддался ее соблазну и испытываю своего рода интеллектуальный стыд, совершенно справедливо ответил мне, что я „повелся“, потому что это движение было „чистейшим безумием“». Но подобные выражения раскаяния (ослабленные двумя освобождающими от ответственности оправданиями – безумием и молодостью) встречаются только в личных записках. В некотором смысле Чорану так и не удалось порвать со своим прошлым идеолога фашизма и антисемитизма, поскольку он, в сущности, до самой смерти старался укрыть его под покровом молчания или же нивелировать.
Бесповоротной решительности Бланшо, берущей, по-видимому, начало в концентрированном стыде, его ощущению исторической ответственности перед евреями противостоит абстрактное самоунижение Чорана, построенное вокруг онтологического источника стыда – неловкости от самого факта собственного рождения. Нельзя не связать повторяющиеся утверждения Чорана с этической и особенное эвристической значимостью унижения для проблемы бесконечного возвращения к прошлому, о котором по большому счету ничего не говорится. «Что я есть? Мыслитель унижения (Я должен был сказать: чем я хочу быть, а не что я есть. Но возможно, я действительно таков)». «Достичь нижнего предела, самого края унижения, низвергнуться в него, систематически в него проваливаться с каким-то настойчивым и болезненным упорством! Стать пешкой, шлюхой, потонуть в грязи, а затем лопнуть под тяжестью ужаса стыда и воссоединиться вновь, собирая свои собственные осколки». «Никто не имеет права приближаться к великим проблемам, не дойдя до крайности унижения и стыда».
Чоран и Бланшо, столкнувшись со схожими вопросами, отвечают на них различным образом. Можно понять, почему Чоран перед липом своего политического прошлого, помимо молчания, выбрал высоты мистической жизни – отклонение, делающее любой исторический ужас в некотором смысле относительным: «Что меня привлекает в мистиках, так это не их любовь к Богу, а их ужас от того, что происходит на этом свете, и за этот ужас я им прощаю вздохи о блаженстве, которые они исторгают в таком изобилии». У Бланшо можно заметить отважную склонность к потенциальному самоотречению, позволяющую отбросить оболочку Своего старого «я». Но стоит прибавить, что в этой сфере – так же, как и в других, – политическое чувство эволюционирует, подобно самой Истории. В двух рассмотренных выше случаях стыд, по-видимому, сыграл основную роль. И эта роль оказала тем более сильное воздействие, оттого что не заняла собой всю сцену.
Призраки памяти
(Леви, Антельм, Семпрун, Зеель)
После войны Гео Йош оказался единственным уцелевшим евреем в Ферраре. Постепенно он приходит к следующему заключению: я никого не интересую, но между тем я внушаю всем стыд, само мое присутствие здесь служит живым и невыносимым упреком. Вот краткое содержание одного из рассказов Джорждо Бассани. Город стер все следы неприятного прошлого. Настало время забыть, танцевать и смеяться. Происходит примирение. Возвращаются бывшие фашисты. Начнем сначала, «отстроим все заново». Для этого нужно любой ценой избежать фиксации на стыде. Но Гео, уцелевший еврей, этого не хочет или, скорее, не может. Отказавшись от сшитого на заказ костюма из габардина, он «вновь отыскивает свою скорбную форму депортированного» и, одевшись в нее, ходит по общественным местам, делает «все возможное, чтобы показаться везде, где есть люди, желающие повеселиться», демонстрирует в дансинге фотографии своих родных, умерших в Бухенвальде, рассказывает в кафе всем, кто пожелал его слушать, о самых душераздирающих эпизодах депортации, не поступившись ни одной деталью. Он доходит до того, что на городской площади дает пощечину бывшему фашисту. В общем, выставляет напоказ постыдное прошлое. Вокруг себя он распространяет смятение, даже «своего рода ощущение досады и недоверия». Он преследует весь город вплоть до 1948 года, являя миру вид все более скорбный и оборванный, затем наконец исчезает: это живое свидетельство депортации не может принять примирения. Феррара, до дна испив чашу стыда, возвращается к жизни. Возможно, однако, что однажды, много лет спустя, Гео Йош вновь всплывет в коллективной памяти. Возможно даже, что его память будут чтить.
В силу давления общества, по молчаливому велению мира, который желал продолжать вращаться как ни в чем не бывало, после геноцида осталось очень мало таких Гео Йошей. Аарон Аппельфельд всвоей «Истории одной жизни» рассказывает, что те, кто уцелел в лагерях (как и он сам, благодаря тому что был писателем), по крайней мере, в первое время хранили свои воспоминания в тайне, желая «оградить своих детей от страдания и стыда». И не только выжившие узники, писал он, хотели вычеркнуть из памяти перенесенные испытания. «Внешний мир также требовал, чтобы они отреклись от себя или от оставшихся у них воспоминаний». Тайна, как и добровольное забвение, скрывала призраки стыда.
Именно поэтому заканчивающийся XX век был веком поминовения. Когда из-за стыда в памяти возникают провалы, поминовение призвано искусственно залатать прорехи. Оно запечатывает былое в мрамор и увековечивает его в памятнике; не будем забывать прошлого, провозглашает оно, делая из прошлого обелиск. Коллективная память народа, подобно семейной памяти, строится на сообща хранимой тайне. Историческое сообщество, сплоченное своими убеждениями, ориентирует и дезориентирует целые поколения, укрепляет линию своей обороны, культивирует былую славу, вызывая у потомков чувство вины, чтобы тем самым лучше оградить свое беспамятство, и, таким образом, выступает в роли семьи с блеотящим наследием и грязными тайнами. Чистая коллективная совесть возводит стены, бронированные молчанием.
В этой серии историй о прошлом – постыдных, недосказанных, прикованных цепями к официальным памятным легендам, – голос воспоминаний об уроне, нанесенном Германией, долгое время отказывался говорить. Американский психолог, расспрашивавший уцелевших узников Хальберштадта, сообщает, что «эти люди утратили психологическую способность вспоминать»; Альфред Дёблин по возвращении из ссылки в 1945 году отметил, что люди бродят посреди ужасающих руин так, словно ничего особенного не произошло. Много лет спустя В. Г. Себальд подтвердил это впечатление самоцензуры: самые мрачные стороны финального акта разрушения (при котором, однако, присутствовала бо́льшая часть населения Германии) остались «постыдными семейными тайнами, на которые наложено своего рода табу и в которых, быть может, никто не сможет признаться себе даже в глубине собственной души».
Сколько же исторического стыда скапливается подобным образом на дне нашей памяти, и постыдные воспоминания соседствуют, чаще всего не подозревая друг о друге! Однако не слишком надейтесь найти их у палачей. Странным образом, они скорее склонны процветать в душах жертв, в тесноте и страданиях, разделенных заключенными Колымы и лагерей, среди ужасных дней Ивана Денисовича и Примо Леви. Ведь жертва стыдится за своего преследователя, подобно персонажу романа Таслимы Насрин, Сураньену, индусу в Бангладеш, который бродит по улицам, несмотря на опасность (после разграбления мечети в Индии вследствие нового мятежа, подстрекаемого индусскими экстремистами), под угрозой нападения со стороны детей из своего квартала (совместное существование с которыми, однако, до сих пор казалось мирным), «пристыженный, перепуганный, думающий, что эти мальчишки хотят его отлупить». «Его стыд и его печаль обращены не к нему, а к тем, кому нравилось его колотить. Стыд, он для тех, кто подвергает пытке, а не для тех, кто ей подвергается!»
* * *
Одна из глав книги Примо Леви «Канувшие и спасенные» называется «Стыд». Уже в романе «Передышка» Леви рассказывал о стыде русских солдат, обнаруживших в лагере трупы и умирающих: «Они не приветствовали нас, они не улыбались нам; к их жалости, казалось, примешивалось неясное ощущение неловкости, угнетавшее их, лишавшее их голоса и приковывавшее их взгляды к этому мрачному зрелищу. Это был тот самый, хорошо знакомый нам стыд, снедавший нас после сортировок и каждый раз, когда мы должны были наблюдать за оскорблениями или же подвергаться им: стыд, которого не знали немцы, который испытывает справедливый человек от проступка, совершаемого другими, терзаясь от самой мысли о существовании этого проступка, от того, что он теперь безвозвратно введен во вселенную сущего и оттого, что его добрая воля оказалась не способна или недостаточна, чтобы этому помешать, и абсолютно беспомощна».
Для Примо Леви лагеря – это место, где нацизм внушил нам стыд быть человеком. Да, были жертвы и были палачи, но грязь пристает ко всем, поскольку всем им – и палачам, и жертвам – нужно пережить стыд, который есть наш общий удел. Стыд того, кого унизили, – неизбежное следствие стыда того, кто унизил, и даже стыда свидетеля унижения. Палача, жертву и свидетеля разделяют и вместе с тем связывают ужасные узы.
Но разве это действительно стыд, спросите вы, – эта смутная неловкость, испытываемая в плену и после освобождения и не покидающая тела выжившего в лагерях? Ответ Леви не оставляет сомнений: эта неловкость действительно ощущается именно как стыд. «По выходе из мрака люди страдали, обнаруживая, что их совесть сжалась». Уцелевший испытывает ощущение ошибки. «Какой ошибки? Когда все закончилось, со дна совести всплывали упреки за то, что человек не сделал ничего или сделал недостаточно против системы, поглотившей их». Это ощущение, появляющееся у тех, кто перенес лагерный опыт, согласно Леви, объясняет многочисленные самоубийства по окончании войны. Рассуждая рационально, «у выживших могло быть не так много причин испытывать этот стыд», но тем не менее «стыд имел место». Выживший вспоминает о моментах, когда он, среди апатичной толпы, присутствовал при повешении непокорного. Но, говоря более обобщенно, на нем лежит бремя памяти тех, кто умер там, – тех, кому он, в сущности, позволил умереть.
Вот первая составляющая стыда выжившего: ощущение, что он «выжил вместо другого», и особенно «вместо более благородного, более восприимчивого, более мудрого, более полезного, более достойного жить». К тому же действительно не были ли те, исчезнувшие, лучшими? «Выжили по большей части худшие: эгоистичные, жестокие, бесчувственные, коллаборационисты из „серой зоны“, стукачи».
Это бесконечно возвращающееся к выжившим чувство вины, которое Леви называет стыдом, распространяет вокруг себя концентрические круги. Еврейский ребенок, укрывавшийся во время войны в интернате, Георг Артур Гольдшмидт, пленник в глазах остальных, думал тогда, что его считают «человеком, обманувшим судьбу». Всякое налагаемое на него наказание показывало ему, насколько он был лишним. Вот как его попрекали тем, что он выжил: «Юные бойцы Сопротивления мертвы, а вы, вы все еще здесь». И это страдание за ошибку, которой человек не совершал, внушенное сыновьям и дочерям еврейской семьи, еще нагляднее прослеживается в книгах Сержа Дубровского, а особенно Элен Сиксу: «Я женщина, у которой в голове постоянно заседают трибуналы, и все это потому, что меня не депортировали». Можно сказать, что стыд депортированных трансформировался в драму целого поколения – в стыд, испытываемый перед отцами и матерями, стыд за то, что тебя не депортировали.