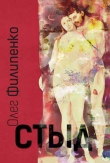Текст книги "Книга стыда. Стыд в истории литературы"
Автор книги: Жан-Пьер Мартен
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)
Но в то же время унижение придает размах жажде реванша. Будучи скромного происхождения, получая государственную стипендию, Антуан становится прилежным учеником Французской республики, и именно школьные успехи заставляют его оценить длину предстоящего ему пути. Во время вручения призов, где ему достаются все лавры, он, как ему кажется, слышит смех какой-то дамы, называющей его «этот маленький крестьянин». Вечером после своей «детской победы» он думает о том, что его мать не умеет писать, что она изъясняется на диалекте родной Бретани, что она говорит «транслантический» и «блукать» вместо «бродить», что она суеверна. В его душе (как и в душе героя Вайяна Эжена-Мари Фавара) стыд очень рано уступает место гордыне, ненависти и гневу.
* * *
В романе о детстве Альбера Камю, тоже обладателя государственной стипендии, дело обстоит иначе. Хотя стартовые условия приблизительно те же. Среди поводов для стыда (поводов, образцовых для бедняка, к которым примешивается стыд потерявшего родину) почетное место у юного Камю занимает одежда. Навязанная, а не выбранная, плохо пригнанная, болтающаяся или, наоборот, слишком узкая на вечно напряженном теле, а главное – слишком длинная, потому что бабушка покупала вещи за то, что они растягиваются, она определяет всю жизнь ребенка, словно неизгладимый след его происхождения. «…Жак рос медленно и только годам к пятнадцати вытянулся по-настоящему, так что одежда снашивалась прежде, чем оказывалась ему хороша. Новую покупали, исходя из тех же принципов экономии, и Жаку, которого дразнили однокашники, не оставалось ничего другого, кроме как перетягивать плащ поясом и носить с напуском, дабы сделать оригинальным то, что было смешным»[52]. В лицей Жак Кормери впервые приходит, «неуверенно ступая в новых толстых ботинках, затянутый в вычурную с иголочки рубашку, с прицепленным сзади ранцем, благоухающим лаком и кожей».
Этот стыд себя как ребенка из бедной семьи многократно усиливается стыдом бабушки и матери: они неграмотны, не умеют даже поставить подпись. Во время сеансов немого кино мальчик принужден читать бабушке появляющиеся на экране титры, повторяя их как можно громче, чтобы она наконец расслышала его сквозь грохот фортепиано, и раздающееся со всех сторон шиканье заставляет его «сгорать от какого-то гадкого стыда»[53]. На первых порах такой опыт обрекает его на горестное молчание. Впоследствии, с обретением знаний и постоянным посещением лицея, рождается сознание непоправимого разрыва с родней. «В самом лицее он не мог говорить о семье, необычность которой он ощущал, не умея ее выразить, даже если ему удавалось справиться с непобедимой стыдливостью, затыкавшей ему рот, едва об этом заходила речь».
Но Камю – или, точнее, Кормери – всегда чувствует себя заодно с родными. Свою детскую травму он смог преодолеть благодаря какой-то чуть ли не ярости, но также и «жестоковыйной и дурной гордыне». «При всем этом Жак ни единого мгновения не хотел бы переменить свою участь и свою семью, и его мать – такая, какая есть, – оставалась для него самым любимым существом на свете, пусть это и была любовь пополам с отчаянием. Как же объяснить окружающим, что ребенок из бедной семьи порой может испытывать стыд, никогда ничему не завидуя?»
Таков этот роман-воспоминание, может быть, роман-идеализация. Неужели Альбер Камю, как и Жак Кормери, тоже всегда мечтал о том, чтобы не менять ни своего положения, ни своей семьи? Несколько в духе Пеги, он хотел бы чувствовать себя бесповоротно скроенным по мерке собственного происхождения. Лицом к лицу с матерью он, в отличие от Анни Эрно, никогда не ощущал себя классовым врагом – или, как Антуан Блуайе у Низана, реваншистом. Он ни разу не упомянул о возможности предательства. Но когда происхождение, на которое он претендует, возвращается, может быть, в конечном итоге это оно его предает. «Возможно, вы были бедны», – скажет ему Сартр в ходе полемики вокруг «Бунтующего человека». В устах богатого наследника, с иронией преподающего урок обладателю государственной стипендии, это «возможно» звучит убийственно. Одним росчерком пера оно задвигает эпизоды бедного детства, его горести и унижения в темные углы старинной лавки воспоминаний, словно безделушки, выставленные в ряд на пыльной этажерке. Полноте, Камю, нынче мы один на один. Поговорим о настоящем.
Богатые наследники стыда
(Аппельфедьд, Бассани, Гомбрович)
Кто из нас хоть раз в жизни, охваченный, ошеломленный стыдом, не желал умереть в ту же минуту? Жан-Поль Сартр
Можно ли считать детский стыд исключительной прерогативой простолюдинов? заводской маркой их чувствительности? Сводить его к своего рода привилегии наоборот, связанной с горестным или просто незнатным рождением, значило бы недооценивать глубинное единство хозяина и раба, прислуживания и служения, а самое главное – бесчисленные окольные пути стыда, его коварство, его способность овладевать всеми телами без исключения.
Ибо следует признать, что стыд отличается широтой взглядов. Он подобен ростовщику по отношению к его должникам: никакого предубеждения. Стипендиат будет до конца своих дней отдавать ему долги: стыд – это его ломбард. Но и богатому наследнику, возможно, придется выплачивать ему странные налоги угрызениями совести из-за своего обширного состояния. А кто выразит стыд мелкого буржуа? Или сына заурядного мелкого чиновника, запертого в тесном будущем, которого после тягостной учебы может ожидать только одно – жизнь, в которой ему до самого конца придется выбиваться из сил, чтобы отстоять место в кабине социального лифта? Или ребенка, неотступно терзаемого страхом разочаровать своих родителей, поставивших на него, как на скаковую лошадь? (Ведь, признаем, нелегко жить, будучи стыдом своих родителей, но быть гордостью своих родителей – это и вовсе невыносимый груз! Настолько, что, быть может, в этом гипотетическом случае ребенок вследствие страха однажды оказаться не на высоте подвергается, хотя и в другой форме, ничуть не меньшей опасности.)
Некоторые формы стыда переносимы или поддаются изменению. Другие безнадежны. Среди многочисленных разновидностей обнаженности некоторые более наги, чем другие. Социальные синяки и шишки, как и семейные тайны, распределены неравномерно. Видеть себя комическим персонажем в «болезненно смешном» (Гомбрович) мировом спектакле – тяжкое испытание. Но оно несравнимо с тем, чтобы пройти лагерь или Колыму.
В конце концов, разве не во всех классах встречаются бедные родители, отрезанные ломти и блудные сыновья? И разве не все времена порождают новые формы стыда? Тем не менее следует уточнить, что существуют виды наследства особенно тягостные. И геополитические ситуации, особенно способствующие отчуждению. Аарон Аппельфельд рассказывает многочисленные истории о евреях, испытывающих стыд, и о детях евреев, испытывающих стыд. В романе «Пора чудес» сын становится свидетелем чудовищных злоключений в антисемитской Австрии 1938 года своего отца-еврея, поневоле вынужденного открыть свое происхождение, которое он хотел бы стереть. В романе «И вдруг – любовь» другой сын подводит постыдные итоги прошлого: большевик, солдат Красной армии, он отрекся от своего еврейского происхождения и не понял молчания родителей. Безусловно, очень похоже обстоит дело у Бенни Леви, египетского еврея-апатрида, который, пройдя через стыд интеллектуала, стыд левака-интернационалиста, забывшего о своем еврейском происхождении, ошутил «жгучий стыд» за то, что долгое время играл «на Западе роль ученой обезьяны», – вплоть до того, что отныне все евреи XX века представляются ему «стыдящимися евреями».
Поневоле проснуться евреем в Австрии утром 12 марта 1938 года, увидеть в окно, как мимо проплывает квадрат кроваво-красной ткани с черным пауком на белом фоне, покинуть страну, отправиться с женой в Антверпен, ощутить себя «безымянным беженцем», стыдиться говорить на родном языке, ставшем языком нацистов, подвергнуться пыткам, быть отправленным в Освенцим-Моновиц, уцелеть, испытать стыд выжившего, больше нигде не чувствовать себя своим, писать под псевдонимом – это история Жана Амери, над которой он размышляет в книге «По ту сторону преступления и наказания: как перенести непереносимое».
В том же самом 1938 году вы – еврей в Италии Муссолини, выходец из почтенной еврейской семьи, занимающей видное место среди финансовой элиты Феррары. Только что были изданы расовые законы. Вы присутствуете при организованной кампании дискредитации евреев. Естественно, вы разрываетесь между стыдом и негодованием. Именно это происходит с рассказчиком-евреем в романе Джорджо Бассани «Очки в золотой оправе»: «с невыразимым отвращением» чувствуя, как в нем закипает «старинная атавистическая ненависть еврея ко всему христианско-католическому, короче говоря, к гоям», он с этого времени ощущает себя обреченным на возвращение в гетто своих предков. «Гои, гои: какой стыд, какое унижение, какое омерзение испытывал я, произнося эти слова! И все-таки я уже дошел до этого, словно какой-нибудь еврей из Восточной Европы, который никогда и не жил вне гетто».
История притеснений и преследований, противопоставляющая отказ от своего происхождения всякому достоинству, рождает перемещенных лиц, людей без кожи, изгнанников навечно. Вот еще одна безвыходная ситуация: белый в Южной Африке. Как отделить ваш личный стыд от вашего общественного и семейного положения и от исторической ситуации в целом? Испытывая стыд колонизатора, незаконного хозяина, Кутзее чувствует себя чужим для африканеров, очень далеким от метисов и при этом – ненастоящим англичанином. В детстве он особенно остро чувствует стыд по отношению к одному бедному мальчишке-метису; он втягивает голову в плечи и не хочет даже смотреть на него – при том что тот очень красив. Этот метис с его «новеньким», «нетронутым» телом служит ему «живым упреком»: он кажется ему невинным, «тогда как сам он, во власти своих темных желаний, виновен».
Но в конечном итоге кто знает, не испытывает ли метис, о котором рассказывает Кутзее, в свою очередь, стыд – по совершенно другим причинам, так что это остается незаметным для окружающих? У каждого свой стыд, непреоборимый, отгороженный от других, как и у каждой группы людей. И в то же время в стыде, как и в смерти, хозяин и челядинец испытывают глубинную солидарность. Каждый в глубине души наг, и эта нагота не похожа ни на чью другую и стоит всех остальных.
* * *
Поляк, выходец из семьи литовской знати, воспитанный матерью, считавшей аристократизм «чем-то совершенно естественным», Витольд Гомбрович был предназначен для занятий юриспруденцией. Его родители принадлежали к поколению, которое в социальном смысле практически не знало того, «что Гегель назвал „нечистой совестью“». «Мы, Гомбровичи, всегда считали себя „на ступеньку выше“ сандомирских землевладельцев». Если бы Гомбрович-сын полностью проникся семейной идеологией, он, в соответствии с чаяниями своего окружения, непременно сделался бы юристом или нотариусом. Но это сильнее его, он не может уютно устроиться в стенах фамильного особняка, потому что мало-помалу начинает ощущать относительность и случайность доставшегося ему наследства. Столкнувшись с аристократией, обнаружив, что его знатность не столь уж и блистательна, он внезапно испытывает деревенскую застенчивость и проявляет «неловкость, обычную для крестьянских семей». Ему случилось также похваляться своей «жалкой генеалогией» и, к его величайшему стыду, быть уличенным во лжи. Но там, где могло бы находиться его королевство, Гомбрович-ребенок, предводительствующий ватагой маленьких поселян, проходит через забавный опыт владычества. «Я был в странном положении. Теоретически я был повелителем, молодым господином, высшим существом, призванным руководить, но на практике все атрибуты моего владычества, такие, как ботинки, куртка, шарфик, гувернантка и – о ужас! – калоши, ввергали меня в бездну унижения, и я с тщательно скрываемым тайным восторгом упивался зрелищем босых ног и холщовых рубашек моих подданных. Это чудовищное по своей тяжести испытание навсегда отложилось в моей памяти и впоследствии проявилось в моем творчестве в форме сатиры, направленной против владычества, против превосходства, против зрелости. Именно в эту пору, примерно десяти лет от роду, я открыл нечто жуткое: что мы, „господа“, представляем собой явление совершенно нелепое и абсурдное, дурацкое, болезненно смешное и даже отвратительное…»
Позже Гомбрович сумел перейти в контрнаступление. В его случае преодоленное чувство стыда способствовало обострению чувства нелепого. Рождая непреодолимую дистанцию с самим собой, стыд, согласно Гомбровичу, становится источником литературы как упражнения в шутовстве. Для того, кто, в отличие от Амери или Аппельфельда, не попадал в критические ситуации, эксцентричная ирония может стать выходом. Но за свободой писателя неизменно присматривает История. Отказ от своего происхождения как основа литературного замысла не всегда оказывается хорошим выбором. Маргинальность – не обязательно привилегия. Литература может быть и жаждой происхождения, жаждой укорениться, преодолеть стыд парии.
Проклятые места, места становления
Тот, кто знает, что такое интернат, в двенадцать лет знает о жизни почти все. Гюстав Флобер. Мемуары безумца
Вернемся в детство. Если бы не было никого, кроме папы и мамы… семьи… этого мучительного опыта, благодаря которому мы так рано усвоили наши ориентиры и привычки… вместе с защитными рефлексами… Но вот мы высаживаемся на незнакомом берегу, где нам ежедневно угрожают другие, – соученики, надзиратели, преподаватели, товарищи по комнате. Мы чувствуем себя грубо выброшенными в мир. Мы внезапно открываем, что у нас есть происхождение, что мы – существа социальные. Мы, как никогда раньше, прислушиваемся к звучанию наших фамилий, произнесенных чужими голосами. Писатель на своем примере размышляет об этой первой в жизни боли – ощущать, что твое сопротивляющееся тело приковано к стальной решетке группы.
Бывают дети, истязаемые мучителями, бывают чудовищные унижения – те, о которых пишет Музиль в «Душевных смутах воспитанника Тёрлесса», те, которым, по его собственным словам, в одиннадцать лет подвергался в школе Гомбрович – «ужасные пытки», сопровождаемые диким ржанием. Но есть другие, не столь явные опасности, поджидающие нас в темноте спален: «Ребенок, застигнутый врасплох во время сна, – пишет Георг Артур Гольдшмидт, – ребенок в интернате, с которого сорвали одеяло, поставлен в безвыходную ситуацию, застигнут врасплох, лишен прикрытия, обречен на стыд и ненависть, быть может, до конца своих дней».
Интернаты, пансионы, исправительные колонии, коллежи и прочие детские дома служат питательным раствором для культуры детского и подросткового стыда. Это там еще лепечущее существо, к несчастью своему, приговорено к жизни в коллективе; это там тело, во всех его интимных подробностях, отдано на всеобщее обозрение. У Поуиса воспоминания о пансионе школы в Шерборне связаны с ужасом всеобщей скученности, а точнее – со стыдом мочиться в присутствии других. Интернат, вспоминает Бурдьё, не оставляет для одиночества «ни единого закоулочка, ни единого убежища, ни единой передышки».
Вот под ферулой надзирателей маршируют, построившись и держа равнение, постыдные переживания детства, маленькие и большие. И однако, кто осмелится заявить, будто установил иерархию испытанных унижений? Возьмем фамилию, именование по фамилии: да, пустяк для одних, но для других – ужасная тягота. Выговорить свои имя и фамилию, громко произнести их вслух – это может быть настоящей пыткой. Именно так случилось с юным Альбером Мемми: «Меня зовут Мордехай-Александр Бениллуш. О, эта желчная усмешка моих товарищей! Никогда прежде я не знал, что у меня настолько смешное, настолько разоблачительное имя. В лицее я узнал об этом сразу, когда меня в первый раз вызвали к доске. С тех пор одно только упоминание моего имени, от которого у меня учащался пульс, внушало мне стыд». Александр – имя, которое дали ему родители из почтения перед Западом. Трескучее и смешное. Мордехай (в уменьшительной форме Мридах, имя дедушки, жившего в гетто, и одного знаменитого покойника) – неотменимый знак принадлежности к еврейской общине и еврейской традиции. Бениллуш, то есть Бен-Иллуш, «сын ягненка» на берберо-арабском диалекте: «Интересно, из какого горного племени вышли мои предки?» «Я навсегда останусь Александром-Мордехаем, Александром Бениллушем, туземцем в колонизованной стране, евреем в антисемитской вселенной, африканцем в мире, где торжествует Европа».
Характеристики гражданского состояния звучат порой, как пощечины. Они обнажают для всех, кто их слышит, как раз все то, что ребенок хотел бы скрыть, все, с чем он жаждет порвать, – еврейскую сущность, жизнь в гетто, статус туземца, восточные обычаи. Подросток прежде всего пытается избавить себя от имени Мордехай, взяв привычку проглатывать его, представляясь, забывать, как «старую кожу». Писатель назовет себя Альбером Мемми: разве не становятся писателем главным образом для того, чтобы сменить имя? родиться заново? уйти от стыда, вытащить себя за волосы из нежеланного происхождения, из непереносимого, лишенного опоры положения? В то же время Мемми вернется к своему еврейскому происхождению, которое в детстве прилипло к его коже, он попытается нарисовать мистический, воображаемый портрет еврея, который был ему навязан.
Коллеж, интернат, общая спальня: здесь каждый находится под взглядами других, интимное оказывается под надзором. За перекличкой, во время которой имя отводит каждому его место, следует россыпь наказаний, подчиняющих личность общим правилам. В книге «Юность: сцены из провинциальной жизни» Кутзее рассказывает о детском опыте отсутствия наказаний как своего рода несостоявшемся ученичестве: в школе, где битье – обычное дело, другие дети нарываются на порку, – но только не он. С самого детства живя «двойной жизнью», он взвалил на себя «бремя лжи». Он не такой, как другие: вот что, как ему кажется, он открыл. «При одной только мысли, что его могут высечь, он съеживается от стыда». Но этот стыд одиночки изгоняется под действием коллективного стыда, который можно разделить, – стыда побитых детей, который не проговаривается открыто, но объединяет всех во время разговоров о розгах, о боли, которую они причиняют, об искусстве учителей. Мальчик слышит, как его отец и дядья обмениваются болезненными и в то же время ностальгическими воспоминаниями об унизительном опыте, трансформировавшемся в коллективное повествование. Но сам он уже чувствует себя изъятым из этой цепи поротых поколений. В итоге именно по этой причине его и нельзя назвать нормальным ребенком: «Его никогда не пороли, и это вызывает у него чувство глубокого стыда. Он не может говорить о розгах с той же непринужденностью, что и все эти люди, которые знают, о чем говорят».
Так что же, порка – благо? Для Георга Артура Гольдшмидта, скрывавшегося во время войны в савойском интернате, огонь наказания – это ученичество, как и тот стыд, которое оно вызывает у ребенка. «Именно наказанный ребенок, так сказать, создает это слово. Загнанный в стыд, он переживает фиаско слов, но не может выразить эту пустоту; он ощущает, но не понимает ее, не находит языка, который позволил бы ему определить ее природу. Он низведен до немоты, но не в силах этого осознать. Он знает совершенно точно, но не может сказать, и даже если мало-помалу успокаивается, отчаянный страх, что ему не поверят, не становится слабее». Мы помним признание Руссо после знаменитой порки: «Я обнаружил в боли и даже в самом стыде примесь чувственности, вызывавшую во мне больше желания, чем боязни снова испытать это от той же руки»[54]. Именно благодаря Руссо Гольдшмидт был «посвящен во власть стыда» и одновременно, сколь бы парадоксальным это ни казалось, в сладострастие «всепоглощающего стыда», ставшего наслаждением и радостью. Для него, как и для Руссо, это замешательство становится основополагающим, поскольку оно обозначает разрыв и дает власть над собой: «Руссо выразил все одновременно наиболее личное и наиболее непристойное: сладострастие наказания, эту непостижимую перемену знаков, которая так поражала и буквально сводила меня с ума, начиная с шестнадцати лет. Как получалось, что самая постыдная из кар внезапно уступала место такому восторгу, такому сладострастию в состоянии высшей молитвенной отрешенности, лежащему вне всякого мыслимого объяснения? Никто никогда не испытывал ничего подобного. […] Постыдные переживания и ложь, без помощи которых ребенок не смог бы пережить свой стыд, еще до всякого литературного опыта привели к смутному пониманию: можно успешно избегать того, что говорит о ком-то язык».
Но прежде чем достигнуть такой, тоже парадоксальной, власти, приходится пройти унизительной дорогой всеобщего осуждения. В действительности для ребенка, брошенного в мир, наиболее непристойным кажется стыд, переживаемый внутри себя, стыд, единственным хранителем которого он считает себя. Жизнь в коллеже обнажает мою недостойность. Разве не очевидно, что уж другие-то имеют предназначенное для них место, право находиться здесь, однозначные отношения с собственным телом? Тогда как я еле плетусь, я шпионю за собой, я явно ошушаюсебя не в своей тарелке. Когда же, наконец, я стану таким, как все? И с другой стороны, взаправду ли я этого хочу?
Томас Бернхард, новичок в национал-социалистическом интернате, католическом и нацистском одновременно, воспринимает это заточение как тюрьму для своего ума и посягательство на само свое существование. Именно там ребенок неотступно думает о самоубийстве. Тринадцати лет от роду, деля спальню с тридцатью четырьмя сверстниками, он всем телом испытывает чудовищное ощущение скученности. Бессонница заставляет его осознать всю меру своей необычности: пока другие погружены в глубокий сон, он переживает травму, которая держит его в постоянном изнеможении.
Как не чувствовать себя вечно травмированным среди собранных вместе обнаженных тел? Именно поэтому Фриц Цорн, будучи школьником, так ненавидел гимнастику: «Там мне приходилось обнажаться в самом буквальном смысле этого слова и демонстрировать свое тело, казавшееся мне уродливым. Естественно, я вдобавок не осмеливался принимать душ после занятий по гимнастике, потому что слишком стыдился своей наготы. В течение моих школьных лет к этому первому стыду мало-помалу прибавился второй: я понял, что мои товарищи явно не испытывали никакого стыда и относились к своему телу гораздо нормальнее, чем я, так что мне оставалось только признать, что они опережали меня, что в этом отношении я отставал от них, я их не стоил». В окружении других, при постоянном столкновении и сравнении с ними, обнажении перед ними, чувство стыда укрепляется, удваивается за счет одиночества, становится основой душевного состояния, которое воспринимается как не похожее ни на чье другое.
Говоря о Рембо и Жарри, Жюльен Грак упоминает «разрушительное злопамятство по отношению к проклятым местам (таким, как Шарлевилль и Ренн), где томилась в заточении их юность». Значит, интернаты и прочие навязанные места коллективного проживания – не что иное, как душегубки? машины для обезличивания? Но индивидуальность порой нуждается в препятствиях: против чего должна она восставать, как не против окружающего конформизма? Необъятное визионерское воображение может стать прочнее благодаря коллективному унижению и принуждению; случается, что индивидуальность выковывается именно там, где ее стараются подавить, в тесноте пансионов. Вспомните Бальзака (который в восьмилетием возрасте был изгнан в коллеж с очень суровыми порядками, засыпан наказаниями, многократно запирался на несколько дней в карцере), Лотреамона, Рембо, Цорна, Мишо, Бернхарда, Поуиса, Модиано… Или, скажем, Бодлера, внезапно отброшенного далеко от матери ее новым замужеством, отправленного в пансион у Лазегов и написавшего по этому поводу: «Может быть, это благо – оказаться обнаженным и депоэтизированным: яснее понимаешь, чего тебе не хватало». И кто когда-нибудь сможет рассказать, что пережила Маргерит Донадьё, будущая Дюрас, в сайгонском пансионе, обойденном примечательным молчанием в ее в высшей степени автобиографической книге?
Опыт стыда в окружении других как свидетельства необыкновенного писательского призвания: вот о чем с такой точностью рассказывает Джон Каупер Поуис. В пансионе школы в Шерборне ребенка терроризировала толпа смутьянов, распахнувших настежь «священные врата» его учения: «К вечному моему стыду (толпа и поныне внушает мне непреодолимый страх), испуг пригвоздил меня к месту. […] Быть неспособным пустить в ход кулаки для необходимой обороны, неспособным прийти в ярость на глазах у всех, неспособным с честью выйти из ситуации, которая требовала лишь проявить немного естественной храбрости – от осознания всего этого почва ухолила у меня из-под ног как никогда раньше».
Как выбраться из этой ситуации? И вдруг на него снисходит озарение: он произнесет защитительную речь перед всеми своими соучениками. «Да, да, именно так: я буду защищаться, признаваться, я выкуплю себя словами!» Перед собранием учащихся он раздевает себя донага, выставляет напоказ свои унижения, беды, проступки, доходит до того, что упоминает о своей неприятной манере жевать передними зубами. Поток слов бьет ключом из его безволия, «глупости», подавленной гордыни. Неслыханное событие, «повергшее учеников в шок». Окончание его речи было встречено мертвой тишиной, за которой последовал гром одобрительных возгласов. Покоренная аудитория должна была выразить себя через отношение к нему. Именно так, уверяет Поуис, он и «стал поэтом» – «между звездами и писсуаром». Поверим ему на слово, точнее, на писание. Рассказ Поуиса – прекрасная притча о превращении стыда в литературу. Унизительный опыт умирает в стихотворении, которое (как у Яромила, героя романа Кундеры «Жизнь не здесь») становится «чаемой возможностью второй жизни».
И тем не менее воображаемый стыд детства будет бередить память писателя. Его вымыслы, навязчивые идеи и послевкусия ныне и присно станут терзать его творения. Преодоленная слабость придаст дополнительные силы литературе как самовымыслу. В исправительной колонии Меттре Жене, по его словам, «ужасно стыдился своей остриженной головы, отвратительного наряда и своего заключения в этом гнусном месте» и ощущал «презрение других колонистов, более сильных и более жестоких»[55]. Его решение стать писателем – это ответ, механизм выживания, выработанный, чтобы противостоять воспоминанию о реальном или вымышленном страдании. Вы считаете меня негодяем, трусом, предателем, вором, педиком? Вы готовы из-за этого превратить меня в изгоя? Я не обману ваших ожиданий. Я сделаю из этого чудо исключительности. Моя победа будет словесной.
Нагое отрочество
Я подурнела, мой нос сделался красным; на лице и затылке появились прыщи, которые я нервно теребила. Моя мать, измученная работой, одевала меня кое-как; мешковатые платья еще сильнее подчеркивали мою неловкость. Запертая в своем неудобном теле, я погружалась в фобии: например, я не могла пить из стакана, из которого уже пила. У меня начался тик: я беспрерывно пожимала плечами, крутила нос. «Не расчесывай прыщи, не крути нос», – повторял мне отец. Своими беззлобными, но и безучастными замечаниями по поводу цвета моего лица, моих угрей, моей неуклюжести он только усиливал мою зажатость и мои мании. Симона де Бовуар
Посмотрите на них, на этих увальней, на их ноги-ходули, на этих маленьких толстячков, на эти красные лица, на этих подростков вечно не в своей тарелке. Они не знают, куда девать руки, им тесно в одежде, они шаркают ногами и бормочут что-то невнятное. Неловкое и неуклюжее тело, которое, само того не желая, растет во все стороны, внезапно появившиеся груди, неуютно чувствующие себя на своем месте под нескромными взглядами, появление месячных, воспринимаемое как нечистота: это прыщавый, неотесанный, угреватый, набухающий и созревающий возраст, сильнее, чем любой другой, зависимый от речи и взгляда других, возраст, когда краснеть становится опасно (если краснеет ребенок, он остается очаровательным, если краснеет подросток, он начинает расплачиваться за свой детский стыд), когда вас ранят или берут в плен слова других – простофиля, недотрога, дылда, тюфяк, жиртрест, пугало огородное, очкарик, толстяк, рахитик…
* * *
На поверхности подростковых тел стыд, это стихийное бедствие, оставляет поистине неизгладимые отпечатки. Он устраивается там, как у себя дома, порождая юношескую прыщавость, притягивая взгляд другого, перенося свои тревоги на трепещущую плоть юной девушки, тяготящейся своим телом, проникая во все поры или даже в звучание имени, ставшего кличкой. И это все длится, и длится, и длится… В то мгновение жизни, когда телесный мир должен был бы открыться перед вами, он, наоборот, захлопывается. Это тот возраст, когда предаются «вредным привычкам» (это выражение встречается и у Мисимы, и у Жида, и, например, у Амоса Оза в «Повести о любви и тьме») и чувствуют себя – вопреки своему желанию, вопреки различиям фантазий и тайн – охваченными общей для всех навязчивой идеей – той, о которой пишет Мисима в «Исповеди маски»: «Моих ровесников […] как раз посетила невеселая пора созревания. Мальчишки постоянно думали только об одном, исходили прыщами, а их одурманенные мозги порождали на свет Божий невероятное количество сладеньких стишков о любви. Одни медицинские энциклопедии утверждали, что онанизм наносит непоправимый ущерб психике и здоровью; другие успокаивали – ничего особенно ужасного. Мальчишки больше верили последним и самозабвенно предавались рукоблудию. Но ведь и я тоже! Обманывая сам себя, я помнил только об этом чисто внешнем сходстве, совершенно не учитывая различия в природе наших вожделений»[56].
* * *
Вам пятнадцать лет, вы наконец-то можете называться девушкой, но вы без конца смотритесь в зеркало, на улице ощущаете тяжесть взглядов, которые бросают на вас парни, вы прочли слишком много книг и модных журналов, вы живете во власти недостижимых образцов: «Праздник не желал начинаться. Высокая девушка, одетая солидно, но несколько в духе „молодой человек, пойдемте со мной“, с жесткими волосами, подвергшимися ритуальной завивке в мае, после последнего причастия, – словом, то, что мужчины называют толстушка».
Вы на улице, вам семнадцать, вы наконец-то почти стали тем, кем грезили стать в детстве, – молодым человеком, вам кажется, что вы освободились от семьи, вы начали уходить от нее, будущее раскрывает вам свои объятия, вы говорите себе: «Прощай, ребяческий стыд! Прощайте, маленькие унижения детства!» Итак, вы свободны? О нет. Дело в том, что вы ощущаете себя неловко в своих собственных глазах. И улица об этом знает, улица видит это глазами каждого безымянного прохожего, а главное – каждой прохожей. Когда человеку семнадцать, ему стыдно. Как бакалавру Валлеса: «Двадцать четыре су, семнадцать лет, плечи атлета, зычный голос, зубы, как у собаки, оливковая кожа, руки лимонного цвета и волосы черные, как смоль. Наряду с наружностью дикаря – необычайная застенчивость, делающая меня неловким и несчастным»[57].