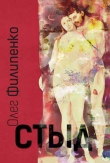Текст книги "Книга стыда. Стыд в истории литературы"
Автор книги: Жан-Пьер Мартен
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
Автобиография может быть средством избавления от стыда, но никто не сказал, что бесчестье, ставшее стимулом для ее создания, не оставит на ней своих следов: ища ловкости, грации и танца, Лейрис ощущал себя в западне, подстроенной словами, и извивы его мучительной стилистики в «Правиле игры» порой словно бы тащат на себе стыд тяжести, от которой она хотела бы избавиться. Разрываясь между неудавшимся денди и несчастным героем, он был неотступно преследуем образом невозможного клоуна (как показал Старобинский, от денди до клбуна – один шаг). Когда стремление выделиться как чересчур подчеркнутая потребность отделаться от постыдного тела ведет к другого рода – комическому – выставлению напоказ смешного тела, попытка избежать телесной западни может оказаться печально-забавной. Впрочем, как мы видели, желание стать Фредом Астером сталкивается у Лейриса с желанием стать Лордом Джимом. Но в свою очередь, желание стать Лордом Джимом преобразуется в желание стать писателем: подобно Кафке и Цорну, создать себе время для одной книги, другое тело, если не славное, то, по крайней мере, словесное, тело, защищенное, точно рак-отшельник, недолговечной раковиной, потом добраться до новой книги, до нового панциря, – таково правило игры.
«Расползается, как грязное пятно»
(Мисима, Рушди, Кутзее)
– Ты толкуешь нам о Руссо, о Достоевском… о Конраде и Готорне… о Кафке и Цорне, который все-таки своего рода литературное исключение… о Лейрисе, французе до мозга костей и эгоцентричном интроверте. Малколма Лаури я не беру. Ну а все остальные? Давние уже тягостные образцы, отцы-основатели без законного потомства, немногочисленные отпрыски-мазохисты… Ты исчерпал последние резервы… Стыд в литературе? Причуда давно пройденного прошлого… допотопная моралистическая и психологическая… иудео-христианская… история… Баста! С тех пор, по счастью, изобрели циничное тело либертина… Писатели наконец-то дали нам возможность наслаждаться без ограничений… отбросить запреты…
Я имел слабость изложить Д., которого считал своим другом, аргументацию этой книги. Я воспроизвел ему первые ходы. И вот он ринулся на меня, как раненый слон. Д. всегда отстаивал бесстыдство и раскованность. Он одевается во все черное и прилюдно цитирует Сада. По-моему, он плохо прочел Батая. Но это не важно; я должен был сообразить, что в этом деле на него рассчитывать не приходится. Мое лицо залила краска стыда. И все-таки я смог собраться с мыслями. Мы стояли у самых дверей любимого мною книжного магазина.
– Ты правда так думаешь? Отлично, пойдем со мной. Я покажу тебе очень старые книги. Здесь, в англо-индийском отделе, ты видишь «Стыд» Салмана Рушди. Неподалеку – вот эта книга Таслимы Насрин, добравшаяся к нам из Бангладеш: Lajja – по-бенгальски это значит «позор». На французской полке, среди многого другого, я могу рекомендовать тебе «Стыд» Анни Эрно, а также «Рози Карп» и «Папа должен есть» Мари Ндиай, а еще, во франко-испанском духе, – «Мой брат Идиот» и «Улицу Архивов» Мишеля дель Кастильо. Будем считать, что Жене и Дюрас – классики, так что я о них и не упоминаю. Американская полка? Конечно же ты читал Филипа Рота: The human stain, как ты знаешь, означает «Людское клеймо». Рот – это ведь один из тех, у кого можно найти и то и другое, правда? И тем не менее он не так категоричен, как ты, в том, что касается ограничений. Посмотрим на южноафриканскую полку. Ты, разумеется, знаком с «Бесчестьем» Кутзее. Отдел Японии? О Япония! Да ведь мне пришлось бы назвать чуть ли не всю японскую литературу целиком! Японцы – настоящие чемпионы по стыду и позору! «Исповедь „неполноценного“ человека» Осаму Дадзая. «Озеро» Кавабаты, «Золотой храм» и «Исповедь маски» Мисимы!.. Не говоря уж о Китае!
* * *
Поскольку, как я отлично понимаю, моего списка все равно никогда не хватит на то, чтобы преодолеть недоверие (притом недоверие подозрительное) Д. и иже с ним по отношению к стыдологии современной литературы, давайте-ка мы с вами перейдем к практической работе. Возьмем три великих романа нашего времени – Мисимы, Кутзее и Рушди. От Южной Африки с ее апартеидом до Пакистана после раздела и Японии после капитуляции стыд ярко светит во все стороны, и, в известной мере, он везде одинаков. Сходство заключается в покорности ходу Истории, добровольном унижении, невозможном бунте, молчании и скрытности, насилии по отношению в первую очередь к самому себе.
Герой романа «Золотой храм», молодой Мидзогути, от липа которого ведется повествование, с детских лет одержим красотой, которая в его представлении воплощается в образе Золотого храма. Самого себя он находит уродливым. Но самое главное – он заика (заметим, что девочка-террористка, дочь шведа из романа Филипа Рота «Американская пастораль» – тоже заика). Заикание вызывает у него неотступное чувство стыда. Подобно Герострату, сжегшему одно из чудес света – храм Артемиды Эфесской, он в конце концов предает огню Золотой храм.
Как он пришел к этому? Подобно тому как не существует никакого рационального объяснения безграничной жестокости, ввергшей юную героиню «Американской пасторали» в убийственное безумие, речевой дефект Мидзогути не позволяет объяснить совершение террористического акта, сопровождаемое желанием поглотить весь мир. В то же время Мисима, как и Филип Рот, безусловно, хотел через заикание выразить некую сущностную ущербность, глубинную травму. Оно – знак неспособности принять порядок вещей и их синтаксис, вступить во взаимодействие с другим, знак стыда одновременно исторического и онтологического, физически ощутимого кожей и языком.
Лучший друг Мидзогути, Касиваги, косолап на обе ноги. Кажется, что стыд Мидзогути-заики способен ощутить солидарность со стыдом калеки, постоянно возбуждающего любопытство или сочувствие. Избавиться от стыда значило бы стать невидимым – «этаким эфиром»[34]. Но разве это возможно – с кривыми-то ногами? Вот они – неустранимые, вездесущие, нипочем не желающие становиться прозрачными.
«Нормальные люди полагают, что увидеть себя можно только в зеркале, но калека всю жизнь смотрится в зеркало, постоянно висящее перед самым его носом. Каждую минуту он вынужден любоваться собственным отражением». И вот, вместо того, чтобы попытаться забыть о своих кривых ногах и – чего уж и вовсе невозможно вообразить – заставить забыть о них всех окружающих, Касиваги хватается за свою чудовищность, чтобы. утвердить себя в глазах мира, отвечая на стыд цинизмом, извлекая выгоду из своей необычности – вплоть до того, что заставляет молоденьких девушек из сострадания влюбляться в него именно благодаря его уродству.
Но Мидзогути недостаточно цинизма. Он научился предпочитать оскорбления и насмешки проявлениям сочувствия. Настолько, что приходит в ярость по отношению к своему другу Цурукаве: тот, единственный из всех, не подшучивает над его заиканием. «Почему?» – допытывается он у Цурукавы. «Знаешь, я не из тех, кто обращает на такие вещи внимание», – отвечает Цурукава. Так заика узнает, что он может обрести свое «я» в чистом виде, отбросить заикание. «А ведь до сих пор мной владело странное убеждение, будто человек, игнорирующий мое заикание, тем самым отвергает все мое существо». Но это открытие не приносит облегчения. Ведь стыд Мидзогути – не переходный этап, не ученичество, не детская болезнь индивидуальности. Он не имеет выхода – разве что унести с собой весь мир: «Надо уничтожить всех других людей. Для того чтобы я мог открыто поднять лицо к солнцу, мир должен рухнуть…» Золотой храм, воплощение прекрасного, – символ существующего порядка вещей. Потому-то Мидзогути и хочет его уничтожить, но для этого ему сначала нужно воспитать в себе ненависть к красоте, открыть, до какой степени она являет собой «макет небытия».
Итак, он не может удовлетвориться тем, чтобы возвести экран между собой и другими. Чтобы попытаться излечиться от стыда злом, ему нужно еще выровнять весь мир вокруг себя. Его цель – научиться «сводить [свое] уродство к нулю»: «Почему вид обнаженных человеческих внутренностей считается таким уж ужасным? Почему, увидев изнанку нашего тела, мы в ужасе закрываем глаза? Почему человека потрясает зрелище льющейся крови? Чем это так отвратительно внутреннее наше устройство? Разве не одной оно природы с глянцевой юной кожей?.. […] Что же бесчеловечного в уподоблении нашего тела розе, которая одинаково прекрасна как снаружи, так и изнутри? Представляете, если бы люди могли вывернуть свои души и тела наизнанку – грациозно, словно переворачивая лепесток розы, – и подставить их сиянию солнца и дыханию майского ветерка…»
Разрушить красоту – это одновременно значило бы разрушить наготу, отвернуться от боговдохновенного мига, когда мимолетная красота кажется вечной, а дух торжествует над плотью. Это значило бы избавиться от анонимности и невидимости: «Никто не обращал на меня внимания. Никто не обращал на меня внимания все двадцать лет моей жизни, так что ничего странного в этом не было. Моя персона еще не представляла никакой важности. Я был одним из миллионов и десятков миллионов людей, которые тихо существуют себе в нашей Японии, ни у кого не вызывая ни малейшего интереса».
Таким образом, согласно Мисиме, есть два способа уйти от стыда: цинизм и терроризм. Как бы то ни было, стыд – это всегда насилие. Кроме того, это коллективная травма. Молодой Мидзогути принадлежит к поколению капитуляции и позора. Действие романа начинается в конце войны, незадолго до разгрома Японии, и заканчивается корейским конфликтом: «25 июня началась война в Корее. Мое предчувствие надвигающегося конца света оказалось верным. Надо было спешить». Сюжет книги основан на реальном событии. Но предложенная Мисимой стыдологическая гипотеза, как и ненависть к другому, которая в первую очередь оказывается стылом самого себя, под его пером приобретает историческую значимость.
* * *
Еще более явственно внугреннее переживание великой Истории и сопутствующей ей цепной реакции стыда выступает в романе Кутзее «Бесчестье», построенном как наложение двух рассказов. Первый, который сначала кажется более важным, тем более что именно он дал название книге, повествует о бесчестье университетского профессора Дэвида Лури, вынужденного выбирать между отставкой или публичным покаянием после поступившей на него жалобы: его обвиняют в сексуальных домогательствах по отношению к студентке. Профессор отказывается подчиниться и подает в отставку. Но для моей темы более значим второй рассказ: дочь профессора Люси, белая женщина в Южной Африке, изнасилована неграми; она являет собой подлинный образец стыдливой, оскверненной жертвы, невинной виновной, которая взяла на себя всю грязь и соответственно не может обвинять своих палачей. При встрече с полицейскими она может говорить об ограблении, о травмах, нанесенных ее отцу, о застреленных собаках – но только не о совершенном над ней насилии.
Поэтому отец не может не задаваться вопросом: «„Господи Боже, что теперь будет?“ Будет тайна Люси и его бесчестье»[35]. Он так чувствителен к стыду дочери потому, что сам столкнулся с бесчестьем. Но в определенном смысле ситуация, в которую он попал, в результате оказавшись опозоренным, была относительно более простой. Люси же испытывает тройной стыд: стыд быть гомосексуалисткой, стыд быть изнасилованной, стыд быть белой. Она оказывается под ударами трех форм социального стыда, пол взглядами трех категорий других – гетеросексуалов, мужчин (в том числе собственного отца) и африканцев.
Как следствие, несмотря на уговоры отца, Люси больше не желает отправляться на рынок: «Люси не отвечает. Ей не хочется показываться на люди, и он [Дэвид. – Пер.] знает почему. Из-за бесчестья. От стыда. Вот чего добились ее визитеры, вот что они сделали с этой уверенной в себе, современной молодой женщиной. Рассказ о содеянном ими расползается по здешним местам, как грязное пятно. Не ее рассказ – их, хозяев положения. Рассказ о том, как они поставили ее на место, как показали ей, для чего существует женщина». Отец настаивает («Почему ты не рассказала им всего, Люси?»), но Люси замыкается в упорном молчании («Я рассказала им все. Все – это то, что я им рассказала»), и ее защиту не преодолеть никаким аргументам. Дэвид трезво анализирует ситуацию: «Эти люди будут следить за газетами, прислушиваться к разговорам. И прочитают, что их разыскивают за ограбление и вооруженное нападение – и только. Тут до них дойдет, что тело той женщины укрыто, как одеялом, молчанием. „Стыдно стало, – скажут они друг другу, – вот и помалкивает“, – и будут смачно гоготать, вспоминая свои подвиги. Готова ли Люси порадовать их подобной победой?»
История жертвы, которую принесла Люси, встраивается в цепь событий большой Истории. Происходит короткое замыкание. «Ты хочешь унизиться перед историей, – пишет ей отец. – Но путь, на который ты ступила, неверен. Он лишит тебя какой бы то ни было чести; ты не сможешь жить в мире с собой. Умоляю, прислушайся к тому, что я говорю». Рыдания белой женщины обостряют ненависть к себе. Постколониальная литература вызывает инверсию стыда. Чтобы описать этот процесс осознания исторической вины, следовало бы ввести термин, параллельный «добровольному рабству», – что-то вроде добровольного или жертвенного стыда.
* * *
В книге-предвестии «Стыд», вышедшей в 1983 году, после «Детей полуночи», но еще до «Сатанинских стихов», Салман Рушди готовился к тому, чтобы самолично войти в качестве персонажа в постыдный воображаемый мир Истории. Эта политическая басня и географически, и культурно очень далека от Южной Африки. И тем не менее ее мораль кажется очень близкой к морали романа Кутзее. В обоих случаях стыд не является невыразимой личностной тайной. Он имеет историческую, социальную и политическую природу.
На границе Индии и Пакистана, в пакистанском «городе стыда», напоминающем Кветту, в доме-лабиринте живут взаперти три сестры, воспитанные отцом и его «моралью (преимущественно мусульманской), что крепче булатной стали»[36]. После его смерти они – нераздельно, так что остается неизвестным, кто из них биологическая мать, – производят на свет сына по имени Омар-Хайам. Три сестры решают оберегать сына от стыда, ставшего их несчастьем. Значит, необходимо запретить ему это чувство. Они хотят «обратить позор внебрачной связи в безоговорочное торжество исполненного желания».
Проведя раннее детство взаперти, Омар растет «без стыда и совести». Как гласит молва, он просто не понимает, что это такое. Выйдя из семейного заточения, вброшенный в мир через двери школы, он ничего снаружи не боится: совершенно бесстыдный, он сумел сделаться кем-то вроде невидимки. Но чтобы выполнить свое предназначение, ему придется покинуть город, порвать с прошлым. Для Рушди (так же, как для Рота и Кутзее) стыл означает особую привязанность к прошлому, культ традиции.
Дважды антипод Омара – Суфия Зинобия, «воплощение семейного позора и стыда». Ее мать, Билькис, хотела сына, отец тоже. «Смирюсь и понесу свой стыд», – говорит она. Согласно семейному преданию, слабоумное дитя, осознав себя девочкой, то есть постыдной формой продолжения рода, покраснело сразу же после появления на свет. Ее патологическая склонность краснеть – знак того, что наследство стыда запечатлелось в ее теле, – не проходит с годами. Ее детство отмечено «непослушным температурным режимом»: «Это не ребенок, а выродок! – жалуется мать. – На нее и взглянуть-то нельзя, двух слов не сказать – сразу зардеется, что твой маков цвет. Ей-богу! Разве нормальное дитя может распалиться докрасна, так что одежда тлеет?!» И однако же, эта необычайная способность краснеть сообщает ей могущество столь же необычайное: «…Суфия Зинобия Хайдар непроизвольно краснела всякий раз, когда кто-либо замечал ее присутствие на белом свете. А еще, мне думается, краснела она и за весь белый свет. Позвольте поделиться догадкой: переболев менингитом, Суфия Зинобия обрела сверхъестественную чувствительность ко всему, что творится вокруг в сфере невидимой, и как губка впитала множество „беспризорных“ чувств».
Рушди родился в Индии, в Бомбее, в 1947 году, том самом, когда Индия получила независимость и пережила раздел – то есть в год основания Республики Пакистан. В двенадцать лет семья отправила его учиться в Англию. Прожив некоторое время в Пакистане, в 1970 году он обосновался в Лондоне. По его собственным словам, «Стыд» возник благодаря двум сюжетам из хроники происшествий: о лондонской девушке-мусульманке, убитой собственным отцом за то, что закрутила роман с белым парнем, и об азиатке, которая, став в ночном метро жертвой нападения белых мальчишек, пережила такой стыд, что сочла за благо хранить молчание.
Но прежде всего на страницах «Стыда» проступает запрещенная история Пакистана – в особенности один из ее эпизодов, убийство в 1979 году бывшего президента Зульфикара Али Бхутто. Игра признаний и умолчаний: стыл изгнанника, побуждающий к барочной витиеватости, имеет явно автобиографическую природу. Рушди задумывал эту книгу как прощальный роман, своего рода завещание Востоку, от которого он рассчитывал постепенно освободиться, создав воображаемую страну – правда, воображаемую только наполовину, потому что тамошний большой город именуется Карачи. Свой последний приезд в Пакистан рассказчик описывает так: «Куда ни повернись, всюду что-то постыдное! Но поживешь бок о бок со стыдом и привыкнешь, как к старому креслу или комоду. В „Заставе“ стыд гнездится в каждом доме: искоркой в пепельнице, картиной на стене, простыней на постели. Но никто ничего не замечает. Мы же благовоспитанные люди!»
Стыд не просто дал название роману Рушди. Это его лейтмотив, его паническая тема. Подобно страсти, охватывает он всех персонажей, деля их на две категории: стыдливые и бесстыдные. Бесстыдные – это диктаторы; незаменимый способ остаться у власти – удалить стыд, распространять и поддерживать его во всех слоях населения. Один из них – национальный герой Искандер Хараппа («вот он ползает в ногах лимоннолицего китайца; вот […] тайно сговаривается с Пехлеви; вот обнимается с диктатором Иди Амином»): «…Таких бесстыжих, как он, на свете не сыскать. Подонок из подонков и жулик из жуликов». Другой национальный герой, Реза Хайдар, без зазрения совести отправляет его на виселицу.
Бесстыдный Омар (очевидно, из сострадания) женится на стыдливой Суфии. Но стыд Суфии – это одновременно и ярость против мира. Насилие бесстыдных вызывает ответное насилие стыдливых. И вот, заразившись из-за своей чрезмерной чувствительности «бациллами унижения». Суфия становится «живым воплощением разлада», «Зверем» – чудовищем, отрывающим головы. Она начинает с того, что выпускает потроха двумстам восемнадцати индейкам, потом набрасывается на своего зятя, звезду поло Тальвар уль-Хака, хватая его за голову и поворачивая ее до тех пор, пока не вмешиваются окружающие – впрочем, так и не успев воспрепятствовать ей вонзить в шею капитана несколько зубов. Впоследствии у Суфии появляется возможность проявить себя в полном блеске, разорвав в клочья четырех юных любовников. Это трагическое и чудовищное создание несет в себе «недуг пострашнее чумы – стыд, причем стыд, который должны были бы испытывать, да не испытали окружающие», в первую очередь Реза Хайдар, отец-убийца.
Роман Рушди показывает, как стыд подавляет людей, зажимая их в тиски традиции; как он нападает в первую очередь на тех, кто не имеет опоры, особенно на женщин, плодя «девочек-которые-хотели-бы-быть-мальчиками»; как он неумолимо сковывает их «духом товарищества, порожденным общим стыдом».
* * *
Пакистан Рушди, Южная Африка Кутзее, Япония Мисимы (к ним можно было бы добавить Америку Рота и множество других литературных пространств): в этих воображаемых геополитических мирах каждая человеческая общность неотступно терзаема стыдом. Современная литература больше чем когда-либо занята исследованием этого глубинного импульса. Разве в коллективном пасьянсе, где роли расписаны заранее, не каждый принужден покориться взгляду другого или, напротив, спровоцировать его? Паразитируя на индивидуальном стыде, коллективный стыд прививается и процветает на хорошо удобренной почве сплетен и насилия. Его присваивает историческая память, им завладевают тоталитарные политики, обрекая людей на линчевание, на лагеря, на изнасилование, на насилие, на бессилие. «Стыд и бесстыдство – концы одной оси, на которой вращается наше бытие, – пишет Рушди. – И на обоих этих полюсах условия для жизни самые неблагоприятные, можно сказать, губительные. Бесстыдство и стыд – вот они, корни зла».
Часть II
Стыдливое детство автора
О какие только постыдные случаи не спотыкаемся мы, поднимаясь по отдаленным тропинкам прошлого! Джон Каупер Поуис
«И тебе не стыдно?» – эта ритуальная фраза не умолкая звенела в наших детских ушах. Мы воспитываемся в стыде. Он начинает формироваться в нас, говорить за нас повседневным, семейным, общественным, школьным языком. Он похож на наших родителей, на наше детство, на нашу семью, на наше происхождение, на само наше рождение. Некоторые специалисты по психологии развития с изумлением обнаруживают его у грудных младенцев[37]. Но, заведомо окрашиваясь в цвета нашей культуры или нашего воспитания, не возникает ли он как предчувствие еще у зародыша, уже в утробе матери краснеющего из-за того, что он оказался девочкой в Пакистане – стране мужского господства (как в романе Рушди) или униженным негром в стране белых (как в романе Рота)?
Стыд нашего детства станет нашим мучительным прошлым. Внешне будет казаться, что он смягчился. Конечно же мы сможем его превозмочь. Но в истории нашей жизни он пройдет через все возрасты, через все стадии, через забвение и воспоминание, через размышления о былом: разве может он развеяться, словно мираж? Он будет по-прежнему подспудно терзать нас изнутри – так, что в тот период жизни, когда мы будем убеждены, что покончили с ним навсегда, он внезапно возродится на манер поднимающихся из глубин минувшего подростковых кризисов, обрушивающихся на старика. Он похож на чувство, описанное Сартром в связи с собственным уродством: он навсегда остается нашей «негашеной известью», нашим «отрицательным принципом».
Творческие возрасты подобны возрастам стыда, они тоже регрессивны. Книга – это похоронная песнь. Детство умерло, но оно возрождается в форме тайной литании. Вы поневоле вновь погружаетесь в него. Какая настоящая книга не передает чувство невозвратимости, отделенности и невозможности восстановить прежнее? «Источник творчества писателя, – пишет Чоран, – это его стыд; тот, кто не обнаруживает в себе стыда или избегает его, принужден будет стать плагиатором или критиком».
Каждый сберег в своем теле немного детства. Но не каждым в равной мере владеет ребенок, которым он был. Подобно человеку стыда, писатель раздвоен, и внутри скелета взрослого человека он обречен до последнего вздоха нести ребенка, которым он был. Он слишком много вспоминает о том времени, когда привлек самого себя к суду военного трибунала. От прошлого, в котором детство походило одновременно на комедию и на судебный процесс, он сохраняет впечатление изначальной фальши, а вместе с ним – почти физическое ощущение неловкости. Он по-прежнему видит себя в коротких штанишках, он все еще потрясен своими голыми ножками – тем мгновением, когда через посредство куска своей плотской оболочки он познал стыд самого себя. Этот так и не обтесавшийся ребенок занимает место внутри него, он обосновался в нем – вплоть до того, что приклеивается к его коже. В результате эти двое иногда сливаются: этот взрослый – он ли это? этот ребенок – я ли это? А еще эти двое всегда видят друг друга, невольно выставляя себя напоказ в семейной комедии или будучи отданы на растерзание взгляду другого. И сцены детства оживают во вчерашнем теле, как если бы это происходило сегодня: Томас Бернхард, столкнувшись со своей матерью, катящей тележку по улице, испытывает мучительный стыд. «Кто я? – пишет Серж Дубровский. – На фотографиях, как в вагончиках, маленький мальчик того времени. Свитер крупной вязки, штанишки, форменный мундир с шерстяными носками, коротко остриженные черные волосы, живые глаза и заостренное лицо. И меня уверяют, что этот совершеннейший чужак – я! Я вспоминаю, как садился на стульчак, и каждый раз у меня перед глазами возникают мои ляжки, чересчур мясистые, жирные, они внушают мне стыд. Два моих тела невозможно совместить. Кто я?»
Многие рассказы о детстве дают нам возможность воображать себе и одновременно осмыслять области стыда, раскапывать его тайники. Вот, например, это, можем мы сказать, – стыд того… что проявляется, стыд навязанного окружения, семьи, интерната, коллежа; стыд находиться вместе в унижающей повседневности; стыд сексуальности, детского онанизма, другого в себе, себя, открывающего свое тело. Но конечно, необходимо различать, с одной стороны, «кратковременный стыд», стыд мимолетных затрещин и покраснений, оставляющих тем не менее глубокий след, а с другой стороны – стыд, «привитый с рождения», подобный тому, о котором размышляет Мишель дель Кастильо в начале «Улицы Архивов»: «Годы напролет я хоронил мать. В мельчайших деталях воображал я себе ее агонию. Я пытался приручить ее смерть так же, как в детстве пытался приручить ее личность. На самом-то деле, убивая мать, я хотел уничтожить свой стыд. Не стыд чего-то, а просто стыл. У кого-то – чесотка, а у меня – стыд».
«Первородный стыд», «абсолютный стыд, стыд в чистом виде»[38], «стыд всегда и везде»: Мишель дель Кастильо чувствует себя преисполненным им, как Достоевский, к которому он обращается в книге «Мой брат Идиот». Он начал испытывать его в то же самое время, что и чувство материнской и семейной неподлинности. Все это постепенно поднималось в нем в пору его испанского детства. И вот, чувствуя, как на него непосильным грузом давит «тайна страха», «священный ужас», он «утонул в стыде». С тех пор мир вокруг него начал рушиться: «Я страдал от неблагообразия отцов, я стыдился жизни, лишенной основы».
* * *
Стыд писателя хранит в памяти стыд ребенка. Он сверх меры продлевает его, опасно поддерживает его в себе, под защитой от угасания. Стыд – это не только его прошлое, это его становление. Вот что говорит Батай о Бодлере и Кафке: «Я думаю, что они совершенно отчетливо осознавали себя в положении ребенка перед родителями, ребенка, который не слушается и, следовательно, испытывает угрызения совести, потому что вспоминает о родителях, которых он любил и которые без устали напоминали ему, что он не должен этого делать, что это плохо, причем в самом сильном значении этого слова».
Можно было бы тешить себя надеждой привязать рождение стыда к потрясению, которое переживает ребенок во время – по терминологии Фрейда – первичной сцены, когда он осознает, что между его родителями существуют сексуальные отношения. Не испытывает ли он в этот момент внезапный неведомый стыд? Однако мы увидим, что стыд многообразен, что он имеет свои собственные первичные сцены, что стыд детства – это хаотическая история и что он проявляется в малых формах стыда, в неловких сценах, в накоплении мелких фактов, которые Жид называет жалкими воспоминаниями: «О! Какое жалкое воспоминание! Как бы я воспарил, если бы согласился что-нибудь опустить!»
При этом писатель непременно придаст своему повествованию внешне рациональный ход. Мы помним последовательность постыдных переживаний у Руссо. Есть все основания предполагать, что здесь мы имеем дело с довольно-таки искусственной реконструкцией. Если детство порождает стыд, если оно выделяет стыд как спирт, который грядущая жизнь поневоле будет глотать, это значит, что оно предваряет все наше существование: оно возвещает его, задает его программу; наша жизнь, заранее говорит оно нам, будет не чем иным, как неудавшейся комедией. Так Сартр, загнанный в ситуацию «лжеуспеха», сразу же впал в притворство, столкнувшись с опытом случайностей: «…Смысл моего собственного существования от меня ускользал, я чувствовал себя сбоку припека и стыдился своего неоправданного присутствия в этом упорядоченном мире»[39]. Саррот, будучи ребенком, была принуждена разыгрывать невинность: «Меня толкнули – и я опрокинулась в этот голос, в этот тон, путь назад был отрезан, я должна была двигаться вперед, вырядившись в нелепый маскарадный костюм ребенка».
Наверное, первоначальным опытом стыда должна быть потеря невинности. Это должно быть падение, безвозвратный прыжок в новый мир унижений и оскорблений, куда человек втянут, приведен против своей воли, словно вовлеченный в дьявольский круг, где отныне повторяются и копятся все новые поводы для стыда. «Стыд, – пишет Анни Эрно, – это еще и панический страх, что теперь с вами может случиться все, что угодно, – вы покатились по наклонной плоскости и до конца жизни обречены сгорать от стыда»[40].
Повесть Томаса Бернхарда «Ребенок» наглядно демонстрирует эту энтропическую природу стыда. Восьмилетний ребенок совершает на велосипеде побег из родительского дома. Почему? Конечно же чтобы избавиться от стыда, спастись из его дьявольского круга, чтобы завоевать любовь матери и не слышать от нее постоянно, что он «пустое место». Но можно ли во внешнем мире освободиться от стыда, вошедшего в плоть и кровь семейного круга? Во время бегства этот восьмилетний ребенок попадает в какой-то ресторанчик, и среди толпы, танцующей под звуки оркестра, в этом месте, где он чувствует себя бесконечно чужим, его личный, домашний стыд расширяется до масштабов общества в целом. Впоследствии, когда семья переедет из Австрии в Германию, он станет мишенью для насмешек своих соучеников, которые дадут ему кличку Австришка. «Если бы только я мог умереть!» – думает он.
В этом реестре стыда мокрая простыня, вывешенная матерью, словно «знамя ужаса», в окне на Шаумбургерштрассе, потом – в окне голубиного рынка, становится знаком высшего унижения. Мальчик возвращается из школы, втянув голову в плечи, ему кажется, что на него все смотрят. После чего его отсылают в детский дом в Заафельде, где его простыня с большим желтым пятном вывешивается в комнате для завтраков, а сам он лишается каши. Прежние товарищи отворачиваются от него, стыд обрекает его на одиночество.
Так тайна детства оказывается погребена под отталкивающими воспоминаниями. Конечно, вновь обратиться к существу, которым ты был когда-то, неизбежно означает, как подчеркивает в автобиографии Джон Каупер Поуис, рассказать о самых отвратительных пятнах, которые оставлены прошлым и которые не под силу стереть никакое настоящее: «Какое человеческое существо может бросить взгляд на свою юность, не покраснев от стыда, не будучи сбито с толку множеством вещей, которые произошли с ним и больше не вызывают у него ничего, кроме мягкого отвращения, зияющего недоверия, низкопробного, эготического, животного, болезненного интереса, подобного тому, который испытывают дети к собственным испражнениям?» Несомненно, именно у Поуиса мы встречаемся с наиболее точной характеристикой того вызова, который бросает писателю повесть о детстве, претендующая на достоверность. Условие sine qua non для такой повести, пишет он, – «не уклоняться постоянно от любых намеков на те глубоко личные страдания и утешения, которые приносит нам каждодневное движение материи внутри нашего тела». Подлинная книга о детстве говорит мне о том, в чем я сам, может быть, никогда не решился бы признаться. По замечанию Джорджа Оруэлла, «доверия заслуживают только те автобиографии, которые обнажают нечто постыдное».