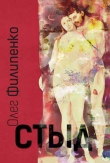Текст книги "Книга стыда. Стыд в истории литературы"
Автор книги: Жан-Пьер Мартен
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
Способы у каждого свои, более или менее радикальные и часто неоднозначные. У одних это камин, персональный резак, нож, сожжение на костре, молчание, ящик стола, шкаф с потайным отделением. У других – торжественное опровержение, признание в газетах, самоотречение, самообвинение, защитительная речь в духе «Я сто́ю больше, чем то, что я написал». Их беспрестанно преследует демон, говорящий: «Остановись, сожги, отрекись». Среди них и Жув, который отмежевывался от всех своих предшествующих произведений, чтобы получить доступ к «новой жизни». Среди них Шар, уничтоживший в 1929 году свой первый сборник стихов «Колокола на сердце». И Мишо, макулатуршик-профессионал, резавший в клочки или сжигавший экземпляры своих ранних произведений (например, «Мечты ноги»), говоривший, что он «краснел от стыда и ярости», когда читал две своих последних книги, «Варвар в Азии» и «Ночь шевелится»; Мишо писал Полану: «Ты просишь моих текстов. Мне стыдно за эти тексты. То, что сделано левой рукой, праворукий человек не признает». Среди них Джойс, бросивший в огонь в 1911 году рукопись романа «Портрет художника в юности», которую его сестра спасла из пламени в последнюю минуту. Среди них Кено, который сжег свои юношеские стихи; Макс Жакоб, сожалевший об «ошибке, что он сочинил просто так, для развлечения» «Центральную лабораторию», и считавший «Стакан с костями» глупой книгой. Среди них Дюрас, которая, как она сама говорит, начала презирать свой первый роман «Циники» и никогда не упоминала его в списке других сочинений «того же автора» (вплоть лоего переиздания в 1992 голу по просьбе Изабель Галлимар). Среди них Луи-Рене Дефоре, уничтоживший целиком или частично объемную рукопись и приговоривший себя к молчанию начиная с 1965 года (даты журнальной публикации стихотворения «Морские мегеры») и до момента появления семидесяти пяти первых страниц «Остинато». Среди них Сэмюэль Беккет, который был «всегда слишком суров», по утверждению Жерома Линдона, по отношению к своим прошлым произведениям: случалось, что Беккет сначала считал непригодным для публикации произведение, над которым в данный момент работал, хотя в конце концов, под давлением друзей, он перерабатывал его или отдавал на откуп издателя.
Во всех этих случаях самоуничтожения необходимо, однако, выявлять разные степени сокрытия и пересмотра автором своего произведения. Отречение от уже изданной книги, уничтожение черновика или же отказ от текста еще до того, как он вышел в свет, – эти способы отказа от собственного сочинения не эквивалентны. Когда мы узнаём, что Селеста Альбаре, по требованию Пруста, сожгла одну за другой его старые тетради, которые он называл «черными тетрадями» и которые, как говорила она, составляли ядро его «Поисков утраченного времени» (Пруст, слишком чувствительный к огню, чтобы взять это дело на себя, множество раз справлялся о ходе операции по сожжению, продолжавшейся больше года: «Селеста, мои тетради, вы же их сжигаете?»), когда мы представляем себе плачевную судьбу этих тридцати двух «черных тетрадей», таких ценных и раскрывающих столько тайн, пожираемых огнем огромной кухонной печи, мы можем воскликнуть вслед за Андре Моруа, узнавшим об этом после смерти Пруста: «Как жаль, как жаль!» (Этот поступок к тому же крайне нечестен по отношению к будущим исследователям-генетикам.) Утешимся, однако: несмотря на печь Селесты, «Поиски» у нас остались.
Иначе было с «Мертвыми душами».
За девять дней до своей смерти, в феврале 1852 года, Гоголь среди ночи разбудил слугу, приказал ему разжечь огонь и бросил в него рукописи своих последних сочинений. Рассказывают, что. когда они сгорели, он продолжал сидеть, подавленный и задумчивый. Наконец он перекрестился, лег и заплакал. Это был последний подобный поступок в жизни писателя, измученного раскаянием. За шесть лет до того он сжег едва законченную вторую часть «Мертвых душ». «Второй том „Мертвых душ“, – писал он тогда, – сожжен, потому что должен был сгореть… Я осознал, что то, что я принимал за гармонию, было не чем иным, как хаосом». Невидимый свидетель его первых шагов не покинул его: неумолимый судья, как писал Гоголь в одном из писем, жил в нем и тянул его назад. Уже в 1828 году он уничтожил свое первое сочинение (поэму, озаглавленную «Ганц Кзохельгартен») и с тех пор регулярно отрекался от каждой из своих книг.
Несомненно, Николай Васильевич Гоголь был чемпионом по сжиганию книг, которое есть отречение от себя до самого последнего предела.
* * *
Но кажется, когда упоминают об искушении отречения автора от собственных книг, одно имя приходит на ум еще даже раньше, чем имя Гоголя: Кафка. Действительно, как обойтись без Кафки, говоря о раскаянии в литературе (и о литературном героизме), а также о большей части вопросов, стоявших перед литературой в XX веке, который, вне всякого сомнения (повторяя выражение Бурдье), был «веком Кафки»?
У Кафки творческие устремления неотделимы от побуждения к самоотречению. Его «Дневник», наряду с перечнем его проектов, представляет собой отчет о напряженной работе, связанной с отторжениями, уничтожениями, подчистками, раскаянием и прочими сомнениями. «Я читаю дома „Превращение“ и нахожу его плохим»[92]. «Вчера и сегодня написал четыре страницы – трудно превзойти их ничтожность». Между «я» писателя и «я» читателя настойчиво втискивается приводящий в смятение взгляд грозного критика, перечитывающего самого себя так, как если бы это был другой. Когда текст уже, казалось бы, готов обрести окончательную форму, словно продиктованный свыше, его вынашивание на этом не завершается, оно претворяется в страдание. В этот момент текст становится тяжелым и выстраданным прошлым, он накапливается и переполняет: «То, что я так много забросил и повычеркивал – а это я сделал почти со всем, что вообще написал в этом году, – тоже очень мешает мне при писании. Ведь это целая гора, в пять раз больше того, что я вообще когда-либо написал, и уже одной массой своей она прямо из-под пера притягивает к себе все, что я пишу».
У Кафки жажда аутодафе (это слово в данном случае не подходит, надо было бы придумать другое) сравнимо только с его непреодолимым влечением продолжать писать – подобно тому, как его стремление к открытому признанию созмеримо лишь с его тягой к исповеди, поскольку он сам постоянно говорит о тайном. Незавершенность (необязательно играющая определяющую роль, как хотелось верить некоторым), повторения и исправления указывают на то, что автор никогда не перестает искать застывшую форму: текст подобен телу, он сковывает. Писателя никогда не покидало желание ускользнуть от определенности. Так он и пишет, стремясь довести роман до конца, если даже придется забросить его. Любое замедление этого процесса, равно как и накопление текста, вызывает тревогу. Кафка не перестает перечитывать себя, пытаться придать новый смысл отдельным отрывкам. В письме от 28 июля 1916 года он излагает план объединить «Приговор», «Превращение» и «В поселении осужденных» в книгу пол общим заголовком «Кары». Потом он принимает решение все это ликвидировать Он уничтожает, затем снова продолжает писать, но колеблется, отрекается, начинает сначала.
Читатель представляет собой угрозу в силу того, что писатель всегда появляется перед ним в неполном виде. Кафка писал в письме сестре Отле по поводу своей принадлежности к еврейской нации: «Это несчастье, которое не может предстать перед тобой все сразу, целиком». Быть писателем в этом смысле сопоставимо с «быть евреем»: подобное состояние невозможно идентифицировать, и между тем его постоянно идентифицируют (критики, комментаторы или неевреи). Спасительная соломинка литературы не избавляет от невзгод существования под чужими взглядами, с застывшими чертами лица.
Выражение «нарушенные завещания», давшее название красивому эссе Кундеры, опирается прежде всего на то, что мы знаем о завещании Кафки. Главная мысль этой книги – основополагающее различие между художественной литературой и текстами, параллелью к которому выступает различие между романом и автобиографией. «Я не думаю, – пишет Кундера, – что Кафка, требуя, чтобы Брод сжег его письма, опасался их публикации. Такая мысль совершенно не могла прийти ему на ум. Издателей не интересовали его романы, так как же их могли заинтересовать его письма? Желание их уничтожить было вызвано стыдом, самым простым стыдом, стыдом не писателя, а простого человека, стыдом, что его личное будет валяться на виду у других, его семьи, незнакомых людей, стыд стать объектом, стыд, способный „пережить его“».
А ведь «стыд стать объектом», очень точно подмеченный Кундерой, касается не только писем. Он применим ко всем произведениям Кафки. Доказательством тому служит тот факт, что Кафка просил Макса Брода сжечь не только его письма. Если бы друг писателя последовал его последней воле, мы бы не смогли прочитать ни «Процесс», ни «Замок», ни «Америку». Степень его чувствительности и восприимчивости по отношению к своим произведениям измеряется не количеством читателей – мы видели, как на первых порах целью писателя было добиться понимания со стороны его собственного отца. Сдержанность и стыд не полностью зависят от того, опубликован текст или нет (личный он или открытый, предназначен для публикации или нет). Резонно спросить, не ставил ли на одну доску находившийся в подобном эмоциональном состоянии Кафка создаваемые в тот момент произведения и письма. В художественном произведении концентрация признаний может быть выше, а обнажение – радикальнее, чем в письме, которое считается более личным.
Тем не менее стоит отметить, что Кафка, в отличие от Гоголя, не сжигал своих текстов; он, конечно, попросил друга сжечь их после своей смерти, но лично не справлялся, как Марсель Пруст у Селесты Альбаре, о должном исполнением этого задания. Это не такое уж незначительное отличие. Для полной разработки данного сюжета следовало бы углубиться в сравнительный анализ качества спичек в Праге у Кафки и в Москве у Гоголя. В отсутствие подобных исследований завещание Кафки представляется мне шедевром двусмысленности, тогда как Гоголя я считаю чемпионом по эффективности отречения от своих произведений.
* * *
В отличие от Гоголя и Кафки, Лейрис, одержимый, впрочем, сходной страстью, предлагает в своем дневнике совсем другое решение: не сжигать произведений по мере их создания и даже не планировать это сделать, но, напротив, все сохранять – поскольку, по его мнению, подчистка и уничтожение черновиков – признак трусости, и стыд писателя в этой воображаемой спонтанной фиксации мыслей смешивается с искушением самоцензуры. «Хватит литературы», – объявляет он, упрекая себя в излишнем самоконтроле. Будем писать так, как диктует перо, без прикрас и без искусственной шлифовки. В обшем и целом Лейрис не теряет полностью надежду найти (подобно Арто) связь между словами и ничтожнейшим из своих состояний: «Большая трудность в ведении дневника состоит в том, что в каждое мгновение мы скатываемся в литературу. Нужно даже перестать заботиться о том, как составить предложение. Не вести себя так. будто смотришь в зеркало. Нужно не рисовать автопортрет в полный рост, а измерить свои силы и попытаться обнаружить их малейшие возможности. […] И вообще, следует заставить себя не вырывать ни одной страницы из этой тетради, не вычеркивать из нее ничего, как бы унизительно ни было самого себя перечитывать. Если бы я пошел на подобную фальсификацию, все оказалось бы фальшивым. Мне бы надо избегать добавлять предложения, направленные лишь на то, чтобы сгладить негативное впечатление, которое на меня производит та или другая часть».
По-прежнему в противоположность Кафке и Гоголю можно воскресить написанное ранее, отдать его в печать и сделать литературным произведением, утверждая, что вы, напротив, приняли решение в пользу литературы. Такую уловку изобрела Дюрас: ссылаясь на свой юношеский стыд, решившись наконец снять покров тайны, она утверждает, что воскрешает ради нас, такими, как они есть, только что стряхнув пыль и сняв с чердака, старые записные книжки, пожелтевшие и обтрепанные на уголках (дневник, написанный по горячим следам во время войны), которые она наконец решилась задним числом выпустить в свет. «„Боль“ – одна из самых важных вещей моей жизни, – пишет она во вступительной заметке. – Слово „литература“ тут не подходит. Передо мной были страницы, аккуратно заполненные мелким, на редкость ровным и спокойным почерком. Страницы, полные невероятной сумятицы мыслей и чувств, к которым я не посмела прикоснуться и рядом с которыми я стыжусь литературы»[93]. Да, эти записные книжки действительно существуют, и их действительно обнаружили спустя несколько лет. Однако, если сравнить их с изданным текстом дневника, мы заметим, что Дюрас, вопреки своим торжественным уверениям, на самом деле очень даже «посмела [к этому] прикоснуться» – вплоть до того, что изменила композицию, но, с другой стороны, смягчила жестокость и непристойность первоначального текста и выбросила несколько отрывков, в том числе и эти слова, задававшие тон всего дневника: «У меня нет достоинства; я плевала на это мое достоинство. Больше никакого стыда…»
Писатель на смертном одре
(Брох, Аппельфельд, Цорн)
Нельзя сжечь вкус к сочинительству. Фриц Цорн
Отречение автора от собственных произведений – удел не только писателей. Вспомним Сезанна, который отказывался от своих полотен, рвал их яростными ударами ноги. Или Сутина, обходившего торговцев и скупавшего у них свои юношеские творения, которые он считал неудачными, чтобы потом искромсать их и вырвать из рам. Рассказывают, что Бэкон уничтожил почти все свои полотна, созданные до 1942 года. Стыд художника, конечно, более зрелищен, чем стыд писателя. И тем не менее мания отречения от собственных произведений представляется, по крайней мере в XX веке, особенно характерной для литературного творчества.
Под стыдом, преследующим писателя подобно навязчивой фантазии, под муками совести, которые автор испытывает по поводу своих произведений, может скрываться исключительная мания величия. И если перспектива смерти, а тем более самоубийства соединяется вето воображении с вопросом о том, что он оставляет после себя (только слово прощания, последнее слово? все сочинения, спасенные словно в Ноевом ковчеге от потопа? записные книжки? личные дневники? письма?), то это потому, что он по-прежнему переоценивает свою миссию и придает слишком большое значение своим честолюбивым устремлениям. Уильям Стайрон рассказывал, как однажды во время депрессии, подтолкнувшей его к составлению плана самоубийства, он упаковал свою записную книжку в бумагу, прежде чем бросить ее на дно мусорной корзины, после чего его сердце заколотилось как сумасшедшее, «как сердце человека перед расстрельной командой», – поскольку он думал, что таким образом принимает необратимое решение.
Но когда человек нашего времени, после Освенцима, Колымы и Хиросимы, мучается угрызениями совести по поводу того, что он написал, то это вызов уже не только эстетический или личный. Здесь играет роль ощущение природной неспособности что-либо сделать, глубокой неудовлетворенности, которое благодаря литературе возникает в отношении писателя к миру и к Истории.
Вот три книги, в которых мучительное отношение автора к своим произведениям является центратьной темой: Брох в «Смерти Вергилия», Аппельфельд во «Времени чудес», Фриц Цорн в «Марсе» показывают, каждый по своим причинам и на свой лад. стыд писателя перед лицом реальности. У Броха и Аппельфельда неотвратимый и принудительный характер Истории противопоставляется литературе как целесообразности без цели. У Цорна драма существования, терзаемого, несмотря ни на что, постоянно возрождающимся желанием писать, разыгрывается и осмысляется через осознание хронической неполноценности письменного текста по отношению к жизни.
* * *
Момент, когда, по словам Гомбровича, «поэт-пророк запрезирает песнь свою», этот момент описывает Брох в «Смерти Вергилия». «Я умру, – сказал Вергилий, – может быть, даже сегодня… Но сначала я сожгу „Энеиду“». Вергилий слышал внутренний призыв, столь же настойчивый, как голос вдохновения, призыв к аутодафе: «О! Это был приказ уничтожить все, что он создал, сжечь все, что он когда-либо написал и сочинил; о! ему нужно было сжечь все свои произведения и даже „Энеиду“». Недостойному Люцию, который восклицает, что это было бы преступление и что величие Рима отныне неотделимо от его поэмы, поэт возражает: «Все нереальное не имеет права на существование».
Художник, внезапно очутившийся в конце своей карьеры, больше не способен парить в эфирных небесах, он не может больше верить в идею, воодушевляющую его любителей и почитателей, в идею автономности произведения искусства (произведение искусства самодостаточно, как сказала Вирждиния Вульф по поводу «Тристрама Шенди» и «Гордости и предубеждения»), в идею сверхчувственности или подвижничества художника. С приближением смерти он скандальным образом утверждает, что поэт не может обойтись без службы отечеству. Гораций, говорит он, сражался за Рим как простой солдат, Эсхил выступил пехотинцем в Марафонской битве и Саламинском сражении. А он, Публий Вергилий Марон? Он ни за что не сражался. И его сочинения ничему не служат, в отличие от работ по истории Рима, например, Саллюстия и Тита Ливия, в отличие от ученых изысканий Теренция Варрона. Они одни принесли пользу Риму, заключает он. А раз так, то для чего же заканчивать «Энеиду»?
И если в коние концов Вергилий согласился вновь приняться за работу над своим произведением и посвятить его императору Августу, то это не потому, что он отступился от своей точки зрения, а, напротив, потому, что превзошел самого себя как художника: с одной стороны, он поставил на первое место дружбу с императором, с другой – добился от императора разрешения освободить своих рабов. В обоих случаях Вергилий хотел показать, что ставит любовь к ближнему (новую принятую им христианскую ценность) выше ценности эстетической.
Брох, который вел до того жизнь ассимилированного еврея в межвоенной Австрии, начал писать «Смерть Вергилия» в острый, критический для собственной жизни, равно как и для исторического периода, на который эта жизнь пришлась, момент. В 1938 году, когда немецкие войска вошли в Австрию, его (очевидно, по доносу почтальона) арестовала жандармерия Бад-Аусзее, маленького городка в Альпах, куда он удалился для работы. Броха освободили несколько дней спустя, но это событие его травмировало, сознание беспомощности и страх смерти произвели в его душе переворот. По возвращении в Вену он стал активно готовиться к бегству от нацизма. Благодаря помощи переводчиков ему удалось уехать в Великобританию и оттуда эмигрировать в Соединенные Штаты. В первые годы жизни в изгнании он оставил литературу и забросил все текущие проекты, погрузившись в научные и теоретические изыскания, посвященные современной ему политической обстановке.
«Смерть Вергилия» опубликовали только в 1945 году, за шесть лет до смерти писателя. Центральная тема этого произведения предвосхищает столь часто комментировавшееся высказывание Адорно. Вергилий больше не верит в «язык сумеречных мечтаний, присущий литературе и философии, язык застывших, неродившихся, но уже мертвых слов». Можно решить, что устами Вергилия говорит Брох, отвергая тем самым тезис Канта, что искусство есть целесообразность без цели, а вместе с ним и всю теологию искусства (которую можно также обнаружить в трудах Клее и Мальро) как царства свободы, стремящегося уподобиться божественному акту творения и упиться лишь «пустыми формами, пустыми словами». Это для самого себя Брох отмечает опасность, всегда «обступавшую» Вергилия: опасность «посвятить себя ничтожному искусству и стать литератором». Это в самом себе он вытравляет обнаруживаемое у большинства художников «поклонение» «себе, жадному до знаков почитания», поклонение, составляющее «все более и более постоянное содержание их сочинений, предательство по отношению к божественной природе искусства, предательство, поскольку таким образом произведение становится отрицанием искусства, бесстыдной мантией, скрывающей тщеславие художника». И это о самом себе он думает, когда противопоставляет участие в делах человеческого общества, цель подлинного искусства, «уподоблению черни» и «вероломной приобщенности», к которым ведут уединенность и слепота художника.
И действительно, с 1945 года Брох оставляет литературную деятельность. В одном из писем, говоря о своем отречении от искусства, он пишет: «Необходимо принять как руководство к действию превосходство этического над эстетическим и научиться молчать». Что он оплакивает в эти годы, так это «утрату чувства реальности», любовь к красоте ради красоты. Через образ Вергилия он показывает тактику художника, который не способен оказать помощь окружающим людям и поэтому не способен любить, отвернувшись от живых: он может лишь жить в мире мертвых, неподвижно созерцая человеческую боль, «на пользу памяти, окаменевшей до бесстыдства». Литератор, согласно ему, становится «искателем красоты, но никогда не влюбленным». Если он соизволит взглянуть на ужас происходящего, то опять же для «бесстыдной красоты изображения»: «Не было ничего более глупого, чем ослепленный насмешками стыд угасшей памяти, превратившейся в сладострастие ложной памяти без жизни».
* * *
Несколько отличным от Германа Броха образом, хотя и не в такой уж непохожей обстановке, развивается другой сюжет о стыде писателя, к которому в явном виде добавляется стыд еврея, – сюжет, рассказанный Аароном Аппельфельдом в романе «Пора чудес». Австрияк и еврейский писатель (отец рассказчика), общавшийся со Стефаном Цвейгом и Мартином Бубером, восхищающийся Кафкой, все в том же 1938 году считает, что достиг статуса австрийского интеллектуала, отличающего его от всех других евреев. Он доходит до того, что испытывает отвращение по отношению к евреям с Востока и евреям-торговцам, с которыми не хочет иметь ничего общего. Столкнувшись с дискриминационными формальностями регистрации, он возмущается: «Что ж тут постыдного? Мы, что ли, не такие же люди, как все? […] Не надо, мадам, скрытничать, человек, он, в конце концов, только человек»[94]. Сама же антисемитская Австрия 1938 года не делала никаких различий: еврей в конце концов только еврей.
А вот как все произведения этого стыдливого еврея стразу же стал поносить один язвительный критик: этот неизвестный, докопавшийся до юношеских стихов, опубликованных в студенческой газете, пишет безжалостные, клеветнические статьи, занимающие целые страницы. Сын писателя, Бруно, рассказчик, стал свидетелем этой все возрастающей опалы своего отца, которого «обливали стыдом»: «Отец не терял присутствия духа, но по лицу было видно, как нелегко ему это дается». С течением недель критические статьи становились все длиннее, взывая ко всей Австрии, от края до края: «Пора изничтожить еврейскую эту заразу». Под градом этих оскорблений писатель начинает сам себя ненавидеть и испытывать неприязнь по отношению к собственным произведениям: «Отец тогда правил свою новую книгу. Он погрузился в эту работу с мучительным пылом, как человек, торопящийся догнать, ухватить отвернувшуюся от него удачу. Из своей новой книги он вырвал многие страницы. Произведение ему не нравилось. […] Перед ним вставал каждый дефект и требовал удовлетворения. Мы знали: слепые тернии впились в его тело».
За лето (сыну двенадцать лет, отцу – сорок три) писатель доходит до того, что совершенно перестает писать, горько морщится, когда ему напоминают о прошлых публикациях, начинает пить, рвать рукописи, проклинать издателей и «свое писательство, от которого не было никакого проку». Он думал, что ему удастся искупить свое происхождение через чудо литературы. Но литература швырнула ему в лицо его происхождение. Изъяны его произведений отныне стали представляться писателю отражением его порочных предков.
Этот сюжет характерен для писательской манеры Аппельфельда, по крайней мере вплоть до последнего его произведения, «Истории одной жизни», в котором он, в автобиографическом ключе, указывает на «тайные источники» своих произведений. Ближе к концу книги Аппельфельд рассказывает о своей встрече с поэтом Ури Сви Гринбергом, связанной с выходом его последнего романа «Дым». Гринберг объяснил ему, что евреям отказано в искусстве ради искусства. «Такой народ, как наш, – сказал он ему, – не может позволить себе ребяческих описаний и оттенков чувств». Это предостережение, которое можно отнести ко всем израильским интеллектуалам, Аппельфельд принял на счет одного себя. Он почувствовал себя обнаженным: «Нетрудно сорвать покровы со стыда человека, вызвать в нем приступ самокритики и замешательства, и именно это сделал в тот вечер Ури Сви Гринберг».
Это мучительное отношение к литературным произведениям приобретает наиболее патетическую форму в романе «Марс», единственном произведении Фрица Цорна, об уникальности которого я уже имел случай упомянуть. Эта невыдуманная, в отличие от аппельфельдовской «Поры чудес», история, вырванная не из огня, но из стыда и из его тайны – из стыда за свое тело, из стыда семейного сходства и из порожденного ими стыда писателя, – не нуждается в прецеденте в виде другого произведения, в отличие от романа Германа Броха «Смерть Вергилия», повествующего об «Энеиде». Она сама изобретает для себя сюжет. Тридцатидвухлетний автор при смерти. Он берется написать историю своего невроза и своей болезни. В это время маленькая опухоль превращается в то, что он считает раком и что в конце концов оказывается злокачественной лимфомой, отличающейся от рака лишь тем, что она «плохо определима и недифференцируема». По мере того как он пишет, не веря в возможность излечения, но описывая в мельчайших подробностях поразившую его «душевную болезнь», телесный недуг мало-помалу обретает имя. Перед нами книга-завещание в полном смысле слова, и никакое из предшествующих сочинений Цорна нельзя поставить в один ряд с этим произведением.
На протяжении всей жизни автора писательские опыты смешивались в его представлении с фрустрацией (которая, кроме того, в сексуальном плане приобрела форму девственности). Он видел в литературном труде признак слабости, противоположность жизненной силы. Даже если ему случалось придать своим сочинениям какую-то ценность, они оставались для него «признанием поражения»: «Я предпочел бы принять решение никогда больше не писать и скрыть свой стыд под покровом вечного молчания. Множество раз, снова и снова, я постановлял отныне больше ничего не писать и подавлять все свои писательские устремления; каждый раз я снова хотел начать с чистого листа, и мое решение чаще всего совпадало с уничтожением всех произведений, предпочтительнее всего при помощи огня, чтобы очистительное пламя избавило меня от грязи искусства. Но из этих решений и этих повторяющихся аутодафе никогда ничего не получалось, поскольку нельзя сжечь вкус к писательству, и почти всегда, спустя короткое время после аутодафе, вдохновение возвращалось и мне опять хотелось написать что-нибудь».
Фриц Цорн – это своего рода Гомбрович, которому не удалось вырваться из семейного заточения, равно как и избавиться от юношеского стыда. Творческий опыт этого писателя на смертном одре находится между двумя неразделимыми полюсами: между искушением абсолютного отречения и уступкой писательству. Судьба Цорна показывает одновременно невозможность достичь достоинства автономного существования и опыт этого достижения.
* * *
Изначальный выбор в пользу писательства, в пользу продолжения писать, несмотря ни на что, должен, таким образом, осуществляться вопреки внешним препятствиям (сопротивлению окружающих, историческим обстоятельствам) и препятствиям внутренним – неопределенному ощущению вторжения на чужую территорию. В этой извечной битве изначальному стыду нужно противопоставить индивидуальную убежденность: «Литература развивается в отдалении, в уединении, в сопротивлении, в робости и в стыде, в протесте и в опасении».
Самым простым, в сущности, было бы в литературу не впутываться. Есть множество доводов в пользу того, чтобы ничего не публиковать. Говоря по совести, никакое глубинное побуждение не представляется достаточным, чтобы нарушить это молчание. Действительно ли автор принужден написать книгу (как полагал Батай), осуществить этот в общем и целом социально обусловленный поступок? В адресованном издателям письме, приложенном к «Трактату», Витгенштейн указывал, что «на самом деле никто не принужден писать книги, учитывая, что в этом мире достаточно других дел». Но самое главное, «причины писать», выдвинутые Понжем и, как он утверждал, стоящие выше причин говорить, можно опровергнуть. Пусть мы часто сожалеем о произнесенных в запальчивости словах. Но не случается ли так, что мы жалеем и о словах написанных, несмотря на их обдуманность, и даже об изданных книгах? Заставить отказаться писать может то же самое, что заставляет робкого, обеспокоенного производимым им впечатлением человека не открывать рта. Поскольку подающему надежды поэту угрожает не только бесплодие. Ему также угрожает робость, которую он ощутит от взгляда другого человека, уже стоящего за его плечом в тот момент, когда он перечитывает собственное произведение, и с которым, как он знает, ему придется столкнуться. Эта робость может стать движущей силой писательства, если ей сопутствует некая несокрушимая уверенность в себе и в своей гениальности, в том, что Жене называет «чудовищной исключительностью». В противном случае робость призывает к сдерживанию желания писать.
Такова, по-видимому, высшая степень писательского стыда: разрушительное стремление к самосохранению, которое погубило бы писателя, вечно недовольного собой, слишком робкого, озабоченного тем, чтобы никогда не привлекать к себе внимания. С этой точки зрения отказ от писательской карьеры (достойный похвалы как показатель сдержанности и скромности и который, нельзя не признать, компенсирует негативное впечатление от наводняющих издательства книг писателей-графоманов, от этих часто поднимаемых на смех досужих писак, этих авторов-любой-ценой, которые, не в силах противостоять искушению, в отчаянных и безнадежных поисках признания, пописывают эфемерные книжки, забываемые сразу после выхода в свет) – этот отказ, возможно, есть также признак трусости. Автор пошел на поводу у окружающих, не захотел сжечь мосты, ему не хватило той настойчивости, которая как раз и делает, против всего и вопреки всему, человека писателем.